Поиск новой романнной формы в творчестве Дж. Дос Пассоса, Дж. Стейнбека, Т. Вулфа
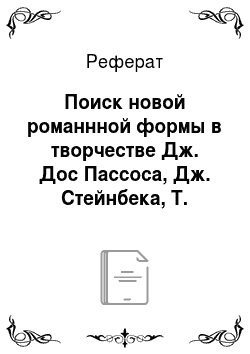
Техника повествования, представленная в «Манхэттенском пароме», еще более усложнена в самом знаменитом произведении Дос Пассоса, серии из трех романов — «42-я параллель» (The 42nd Parallel 1930), «1919» (1932), «Большие деньги» (The Big Money, 1936), — которые печатались независимо друг от друга, но в 1938 году были объединены в трилогию с общим названием «США». На ее создание повлияло… Читать ещё >
Поиск новой романнной формы в творчестве Дж. Дос Пассоса, Дж. Стейнбека, Т. Вулфа (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
«Великий американский роман» в литературном сознании США XIX—XX вв.: региональная тематика, свобода романиста, «американская трагедия», история в движении, символ. — Творчество Дос Пассоса. Эксперимент над натурализмом, представление о динамизме современности, киноэстетика. Романы «Три солдата», «Манхэттенский паром». Трилогия «США»: эффект «жизни врасплох», смысл названия, четыре способа письма. — Стейнбек. Концепция природы в его творчестве, представление о «фаланге». Произведения 1930;х гг., новелла «О мышах и людях». Роман «Гроздья гнева» и трактовка народного протеста в нем. — Романтизм Вулфа. Оправдание творчества и особенности видения Америки в тетралогии о Ганте — Уэббере. Эволюция вулфовского творчества и его жанровая специфика (от романа «Взгляни на дом свой, ангел» к роману «Домой возврата нет»), концепция времени.
Представление о «великом американском романе» сложилось в литературном сознании США в конце XIX в. Одних писателей вдохновлял при этом опыт гомеровского эпоса, других — достижения О. де Бальзака (давшего в «Человеческой комедии» панораму современной ему французской жизни), третьих — художественные и моралистические обобщения Л. Толстого на тему «русской идеи».
Но какими бы ни были приметы «великого американского романа» в понимании того или иного автора — безграничность свободы романиста, «улавливающего тон и внезапные проявления бытия, его странный неравномерный ритм» (Г. Джеймс в эссе «Искусство прозы», 1884); отрицание «карточных домиков искусственного», «стремление смотреть на окружающую жизнь не через литературные очки, а собственными глазами» (У. Д. Хоуэлле в книге «Критика и проза», 1886); «местный колорит в искусстве», «областнический роман» (X. Гарленд в книге «Крушение кумиров», 1894); «великое средство изображения современной жизни» (Ф. Норрис в эссе «Ответственность романиста», 1903) — большинство из них могло бы по-своему согласиться с мнением У. Уитмена.
В статье «Американская национальная литература» (1891) автор «Листьев травы», считая себя свидетелем того, как «Америка… становится гигантским миром… с единым языком», мечтает о литературных плодах этого единства в разнообразии, «таком глубинном поэтическом отражении мира, которое исходит из… собственной почвы и души [писателя], из его родных просторов и душевного склада». Иначе говоря, Уитмен верит в то, что на его глазах универсум американской жизни под влиянием поэзии получает оформление, и поэт, таким образом, наделяется правами как историка, так и стихийного творца национального мифа. Это взросление культуры, это открытие творящейся (не антикварной) истории в качестве реальности личного художественного языка требовало от писателя, по Уитмену, не столько механической суммы наблюдений, сколько поэтической интенсивности мироотношения.
Уитменовское представление о расширении границ поэзии и (добавим за Уитмена) о «великом американском романе» как носителе и воплощении этой поэзии оказалось близким писателям межвоенной эпохи. Правда, для них американизм уже не идеал «демократической дали», а воплощенное противоречие, трагический символ, обыгрывающий то, сколь неоднозначно «простое» в условиях «сложности». Разгадать загадку американизма, поставленного перед образом нецельности и даже хаотичности мира, перед кричащими социальными контрастами, они пытались по-разному.
В трактовке прозаиков довоенной натуралистической формации «американская трагедия» (прежде всего Т. Драйзер в одноименном романе, An American Tragedy, 1925) — это нетождественность самому себе, поглощение личностного стереотипным, тот поединок между «жизнью» и «судьбой», который «жизнью» в лице Клайда Гриффитса, человека, неосознанно страшащегося своей индивидуальности, заведомо проигран. Последнее лишает роман, вроде бы изобилующий исторически опознаваемыми деталями, чувства истории в уитменовском смысле. Как своего рода сюжетный принцип, «зеркало», в котором отражена широкая социальная панорама, Клайд с успехом выполняет свою функцию, служит инструментом драйзеровской социальной критики. Однако уже как источник индивидуального измерения описываемого мира Клайд поразительно бледен. У него нет души. Таков, при некотором обобщении, и язык самого автора — по-репортерски меткий в описаниях, но монотонный с точки зрения ритма, выражения. Сила и слабость натурализма сознавалась Драйзером. В 1933 году он заметил, что «великий американский роман» еще ждет своего создания. Думается, что эпическим ожиданиям Драйзера в определенной степени соответствовал вышедший в 1939 г. роман Дж. Стейнбека «Гроздья гнева». Он был выполнен в сравнительно традиционной к этому времени манере, т. е. в традиции такого натурализма, для которого «кусок жизни» — в первую очередь способ идеологической оценки, внешней по отношению к авторскому письму.
Однако у большинства младших современников Драйзера отношение к истории (в прямом и переносном — т. е. повествовательном — смысле) иное. Для них единство мира проблематично. Миру как готовой истории они противопоставляют личное художественное время как матрицу переживания движущегося времени, размыкания горизонта. Даже те из них (например, Дж. Дос Пассос), кто придерживался социально-биологической трактовки творчества, интересовались повествовательными возможностями своего личного взгляда на социум в большей степени, чем возможностями репрезентации, жизнеподобия. «Великий американский роман» в межвоенной литературе (при всей условности этого обозначения) — это не проза максимально широкой, «эпической», граждански значимой темы, которая предполагает идеологический комментарий, а произведение о подчеркнуто субъективном и пространственно неуловимом — о личном постижении времени в условиях неклассичности, «мира без центра» (У. Б. Йейтс).
Под знаком субъективизации художественного познания («я» в борьбе за подлинность времени-пространства) прежде вроде бы надежное разграничение романтизма и натурализма, натурализма и символизма до известной степени теряло смысл: ненормативный стиль не мог не быть символичным, варьирующим возможности субъективности, не знающей надежных границ между субъектом и объектом, прошлым и настоящим. Об этом свидетельствовали опыт «Улисса» Дж. Джойса, романа одновременно прозаического и поэтического, натуралистического и символистского, и эволюция крупнейших поэтов рубежа XIX—XX вв., подобно Р. М. Рильке и А. Блоку в поисках ускользающей подлинности творчества естественно для себя перебравших всю клавиатуру нериторического поэтического смысла. Добавим, что на лиризацию художественного видения и расширение возможностей символа в прозе помимо Джойса, необычайно популярного в США в 1920—1930;е гг., косвенно повлияли перспективизм Ф. Ницше, философия времени А. Бергсона, теория относительности А. Эйнштейна, психоанализ 3. Фрейда и К. Г. Юнга, принципы монтажа в игровом и документальном кино (Д. У. Гриффит, С. Эйзенштейн, Дз. Вертов).
Джон Дос Пассос (John [Roderigo] Dos Passos, 1896—1970) попытался дать ответ на вопрос, чем мог бы стать натурализм в эпоху новейшей капиталистической цивилизации и хаотичности жизни, ею разбуженной. «Героем» современной истории, как бы вышедшей из границ, балансирующей на грани реальности и ирреальности, уподобившейся вихревому движению разрозненных частиц, становятся, по Дос Пассосу, массы. На них не распространяются законы эволюционной целесообразности бытия, способного к регенерации (тема Э. Золя). Способ их существования — война, социальное противостояние, которое сопровождается всплеском неконтролируемой энергии, всепроникающим отчуждением, деформацией традиционных видов социума и культуры. С точки зрения Дос Пассоса, дух современности реализуется как всеохватывающая революционарность — динамизм эпохи, смешивающий человеческую жизнь и технику, единичное и массовое.
Самые известные романы этого писателя — многофигурные композиции на тему мощных порывов социального бессознательного, «демоны» которого жаждут освобождения из плена времени.
(некоего разрушительного для них исторического «невроза») на путях опрощения, побега в будущее. Своим главным союзником в освобождении от кошмара истории и блуждания по ее мифологическим и лингвистическим лабиринтам Дос Пассос считал кино — искусство молодое, общедоступное, фактографичное. В этом он отличается от Джойса, автора, хотя и повлиявшего на него своим описанием симультанное™ прошлого и настоящего («Улисс»), но вместе с тем ориентировавшегося на филологически изощренного читателя. Для Дос Пассоса же, не прошедшего мимо опыта футуризма и экспрессионизма, кино — возможность идеологического, политического акта — шокового, гипнотически завораживающего воздействия энергий искусства именно на массового зрителя, то грезящего в темноте зала наяву, то непроизвольно открывающего глазок своего сознания несущимся на него с экрана отражениям кииолуча. И только затем это — элитарный прием, позволяющий техническое воспроизведение любого личного видения, тождество «поэзии» и «прозы» (мечта многих прозаиков от Флобера до Джойса). Главным «киноприемом» Дос Пассоса стал монтаж, такое одновременное ведение нескольких разнородных, разнофактурных повествовательных линий, которые призван синтезировать в гипотетическое изобразительное целое читатель-зритель. В 1933 г. Дос Пассос заметил следующее: «Писатель — это, в конце концов, только машина, поглощающая опыт окружающей жизни и дающая ему определенное словесное выражение».
Дос Пассос родился в Чикаго в семье адвоката, имевшего португальские корни (дед писателя перебрался в США с острова Мадейра). В 1916 г. окончил Гарвардский университет, после чего отправился в Испанию для дальнейших занятий барочной архитектурой. Годом позже он, пацифист по убеждениям, всетаки пошел добровольцем на войну, служил во Франции в Красном Кресте, затем стал рядовым санитарных частей американской армии. Военный опыт усилил у Дос Пассоса проявившееся еще в Гарварде неприятие капитализма: «…я впервые почувствовал себя стоящим в самом низу социальной пирамиды, где человек приравнивается к собаке и далеко от той башни из слоновой кости, за стенами которой ищет убежище интеллигенция…» Это настроение отражено в одном из его первых романов «Три солдата» (Three Soldiers, 1921). В нем ведется параллельное повествование о судьбе трех воюющих в Европе американцев, но главное место отведено одному из них — молодому идеалисту Джону Эндрюсу. Этот талантливый композитор мечтает создать симфонию о легендарном аболиционисте и мятежнике Джоне Брауне, но, пойманный в капкан бездушной бюрократической системы (в данном случае армии), переживает творческий кризис даже тогда, когда дезертирует и вроде бы готов реализовать задуманное. Схваченный военной полицией, он должен быть раеетрелян (сам Дос Пассос за антивоенную пропаганду был выслан из Франции).
В романе «Манхэттенский паром» (Manhattan Transfer, 1925) дано панорамное изображение Нью-Йорка первой четверти XX в. Чтобы передать многомерность современного урбанизма, Дос Пассос ведет симультанный рассказ о судьбе уже не трех (как в предыдущем романе), а двенадцати персонажей. Нити их судеб довольно случайно скрещиваются, чтобы причудливо сплестись в некую арабеску, роман в фрагментах, куда включены как блоки традиционного повествования, так и элементы нетрадиционной поэтики — независимые репортажные зарисовки, части джазовых песенок, шапки газет, развернутые эпиграфы (фактически миниатюры).
Самое главное в романе — общая атмосфера, коллективная реальность города «желтого дьявола» (В. Маяковский), апокалипсического Вавилона, с одной стороны, и «аванпоста цивилизации», олицетворяющего научно-технический прогресс, — с другой. На фоне бурления городской стихии, подчеркнутого названием (центральная часть Нью-Йорка, города-корабля, города — «летучего голландца», с двух сторон омывается мощными реками, Ист-Ривер и Гудзоном, последняя из которых отделяет Манхэттен от штата Нью-Джерси), несколько проблематично положение молодых нонконформистов. Таков Джимми Херф. Он покидает Нью-Йорк и, переправившись на пароме в Нью-Джерси, просит водителя попутной машины подвезти его. На вопрос о том, какова цель его путешествия, Херф отвечает: «Не знаю. Довольно далеко».
Техника повествования, представленная в «Манхэттенском пароме», еще более усложнена в самом знаменитом произведении Дос Пассоса, серии из трех романов — «42-я параллель» (The 42nd Parallel 1930), «1919» (1932), «Большие деньги» (The Big Money, 1936), — которые печатались независимо друг от друга, но в 1938 году были объединены в трилогию с общим названием «США». На ее создание повлияло то обстоятельство, что к концу 1920;х гг. из пацифиста и сочувствующего анархизму Дос Пассос, принявший активное участие в защите Н. Сакко и Б. Ванцетти (казненных в 1927 г.), стал одним из наиболее знаменитых «попутчиков» марксизма, посетил в 1928 г. СССР, где не только познакомился с деятелями советской культуры, оказавшими на него творческое влияние (С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, кинодокументалист Дз. Вертов), а затем, в 1930;е гг., многократно печатался (отдельные издания «42-й параллели» и «1919» в переводах И. Кашкина и В. Стенича; публикации в журнале «Интернациональная литература»), но и поддерживался советской идеологией как «прогрессивный писатель». «Дос Пассос потому… реально нужен нам, что он стал близким к коммунистической партии», — отмечал А. Фадееев в 1933 г. Сам же Дос Пассос комментировал эту ситуацию так: «Чем больше я знакомлюсь с условиями промышленной жизни, протекающей под знаком капитализма, тем определеннее становится мой „красный“ цвет. Однако я никогда не примыкал ни к одной из революционных партий… Происходит эго, вероятно, не столько благодаря моим теориям, сколько благодаря выработанной с детства привычке к одиночеству».
Трилогия «США» задумана как документ, обладающий большой силой эмоционального воздействия. В его основу положен эффект «жизни врасплох» (выражение Дз. Вертова, создателя концепции «Новостей дня» — советского документального киножурнала), предстающий в виде монтажа, одновременного движения ряда линий, широких и крупных планов. «Поток сознания» как бы овнешнен Дос Пассосом, сделан событием прежде всего социальным. Это не препятствует ему состоять из «осколков», строиться на ассоциациях, сочетании несочетаемого. В результате вымысел и документальные данные уравниваются в своих правах, дают полифоническую картину того, как ручейки времени стихийно складываются в общее движение истории. Эта устремленная в будущее река несет «корабль» американского общества в неизвестность. Ею могут быть и апокалипсис, «край ночи», титаническое столкновение антагонистических классов, и мирное преображение общества в плавильном котле Нового Света. Дос Пассос, иначе говоря, трактует социальные конфликты все же не с позиций марксизма и мировой пролетарской революции (С. Эйзенштейна волновала мысль об экранизации «Капитала»), а как идеолог, сохраняющий веру в Град на холме и мобильность американской цивилизации. На это косвенно указывает название и всей трилогии, и первого тома этого «романа-потока». Разнородные массы воздуха, зарождаясь в глубине континента и смешиваясь, устремляются вдоль 42-й параллели к Атлантическому океану, чтобы в конце концов разрешиться очистительной бурей.
В трилогии причудливо чередуются четыре способа письма: «Новости» (презентация газетных вырезок, образцов рекламы и массовой культуры); написанные ритмизованной прозой (почти что верлибром) биографические очерки о знаменитых американцах первой четверти XX в. — политиках, изобретателях, финансовых магнатах. Среди них как творцы «больших денег» (в частности Т. Рузвельт, Г. Форд, Дж. П. Морган) — того капитала, который готов хлынуть в Европу в виде военной амуниции, — так и «мученики» системы, профсоюзные деятели и политические радикалы (Большой Билл Хейвуд, Дж. Рид). Последней в трилогии дана биография анонимного бродяги, пересекающего страну на попутных автомобилях. Другой тип повествования — «кинооко» (The Camera Eye), фрагменты «потока сознания» (всего их 51). Они образуют «роман воспитания» неназванного американца, в котором при желании можно узнать самого автора, то невольного свидетеля семейной драмы, то бунтаря, отрицающего церковь и зачитывающегося романтиками, то студента колледжа. В трилогии также представлены портреты полностью вымышленных персонажей (Дж. У. Морхаус, Элинор Стоддард, Р. Сэвидж и др.), выполненные в натуралистической манере. Одни из них — конформисты и циники, капитулировали перед тоталитарной властью денег, другие прошли через разочарование в своих идеалах и по-разному ощущают пустоту окружающей жизни.
Трилогии «США» суждено было стать памятником конструктивистских увлечений леворадикальной части авангарда, проспектом «тотального» эпического романа, прозой «без начала и без конца».
В европейской литературе рядом с ней можно поставить роман «Берлин, Александерплац» (1929) А. Дёблина, в определенной степени — циклы романов французских унанимистов. Дос Пассосом восхищались Б. Брехт, а также Ж.-П. Сартр, ценивший новаторство его поэтики («Дос Пассос — выдающийся писатель нашего времени», 1938) и обыгравший ее в своей трилогии «Дороги свободы». Однако когда по разным причинам (расстрел республиканцами близкого друга Дос Пассоса, профессора Валенсийского университета, во время Гражданской войны в Испании, гибель Л. Троцкого, заключение советско-германского пакта о новом разделе Европы) Дос Пассос перешел на антикоммунистические позиции и стал апологетом американского индивидуализма, то его творчество перестало вызывать всякую симпатию у тех, кто ранее именовал его создателем «реализма XX века», и он оказался в международном масштабе полузабытым, хотя и написал в дальнейшем немало достаточно острых произведений (трилогия «Округ Колумбия», District Columbia, 1939—1949; роман «Середина века» Mid-Centwy, 1961).
На фоне экспериментальных исканий Дос Пассоса натурализм Джона Стейнбека {John Steinbeck, 1902—1968) гораздо более традиционеи, позволяет вспомнить об «эпосе пшеницы» («Спрут») Ф. Норриса и даже о Ф. Купере (романы о земельной ренте). В отличие от Т. Драйзера, он не испытывает значительного интереса к природно одаренной личности, борющейся в большом городе за свое место под солнцем. Он также по преимуществу и не писатель психологического склада, подобно О’Нилу («Страсть под вязами»), увлеченный амбивалентностью неординарных характеров. Оригинальной стороной лучших его произведений является интерес к своего рода примитиву, элементарной стихии народной жизни и соответствующее ему чувство природы — не покорившегося агрессивной цивилизации XX в. (фабрики и машины, город, стереотипы массовой культуры) чуда. Если бы не это обстоятельство, то Стейнбек в своем творчестве, пожалуй, не вышел за рамки, пусть и колоритной, но региональной темы. Вера же в величавую силу природы, начала космического и только уже потом личностного и социального, делает его своеобразным мистиком, придает ряду стейнбековских романов и новелл характер притчи, что сказывается на стилистике названий многих его произведений («Гроздья гнева», 1939; «Жемчужина», 1948; «К востоку от рая», 1953; «Зима тревоги нашей», 1961).
Стейнбек родился в Салинасе (центральная Калифорния) в культурной семье, в 1919—1925 гг. изучал биологию в Стэнфордском университете (хотя и не получил диплом). Молодым человеком он брался за самые разные заработки (от рабочего на ранчо до газетчика и зимнего сторожа на горном курорте), хорошо знал свой штат, многообразие его удивительно красивых ландшафтов — как тихоокеанского побережья в районе Монтерея, так и долины реки Салинас. Соответственно, мир прозы этого писателя населен сезонными сельскохозяйственными рабочими, рыбаками, служащими мелких консервных фабрик, теми, кто, в интерпретации Стейнбека, крепко стоит на земле, знаком с жестокостью жизни, но в то же время сентиментален, а порой и эксцентричен. Язык этих людей — они ближе к современным пикаро, чем к люмпенам — изобилует диалектизмами и грубоват, местами непристоен, но отражает не инстинктивную борьбу за «кусок мяса», а почти что философическое знание бытия, неотрывное от нехитрых мужских удовольствий.
Видение мира у самого Стейнбека сложилось под влиянием его друга Эдуарда Риккеттса — биолога, врачевателя, натурфилософа (Док в романе «Консервный ряд», 1944). Именно Риккеттс внушил начинающему писателю представление о «фаланге» непроизвольно образующейся общности людей, которая, по описанию Стейнбека, «обладает собственной памятью. Она помнит стихийные бедствия, когда луна висела низко над землей, помнит периоды голода, когда истощались запасы пищи. Фаланга храпит в памяти методы самосохранения… Фаланге свойственны эмоции, на которые один человек не способен… Религия также порождение эмоций фаланги». Стейнбек считал себя носителем «нетелеологического мышления», исходящего из интуитивного доверия к спонтанно складывающейся реальности и действующему на глубинном уровне «манипулятивному механизму» социального бессознательного. Эту картину мира, в которую включены элементы пасторали и иррационального начала, английский критик У. Аллен удачно определил как «биологический унанимизм».
Характерные стейнбековские произведения 1930;х гг. — «романы в раееказах»: «Райские пастбища» (The Pastures of Heaven, 1932) и «Долгая долина» (The Long Valley, 1938) — во вторую из них включена знаменитая новелла «Рыжий пони» (The Red Pony); роман «Квартал Тортилья-Флэт» (Tortilla Flat, 1935). Постепенно интерес к эстетике примитивизма и калифорнийским «людям-гротескам» дополняется у Стейнбека острым ощущением социального неблагополучия. Об этом свидетельствует принесшая ему известность новелла «О мышах и людях» {Of Mice and Men, 1937). В ее заглавие вынесены слова поэта Роберта Бёрнса о бессилии всего живого перед сменой времен года, стихией. Повествуя о дружбе двух сельскохозяйственных рабочих — приземистого Джорджа Милтона и опекаемого им слабоумного гиганта Ленни Смолла, — автор предлагает необычную трактовку темы «американской мечты». Двое бедняков грезят о собственном домике с садом и о разведении кроликов. Лишь эта фантазия привносит в их безрадостное существование подобие смысла, заставляет перемещаться с ранчо на ранчо. Но везде им грозит опасность из-за Ленни, любящего гладить все теплое и живое. Финал новеллы глубоко трагичен. Ленни, сам того не желая, убивает жену хозяйского сына, так же как раньше непроизвольно душил попавших ему в руки зверьков. Джордж вынужден застрелить самого близкого человека, спасая того от линчевания.
У людей и животных по логике повествования немало общего, и те и другие ведут «собачью жизнь», беззащитны перед агрессией мира. Подчеркивая заведомую иллюзорность и даже жестокость мечты, Стейнбек вместе с тем не считает необходимым окарикатуривать ее носителей. Более того, этим беднякам свойственно некое детское начало, и они не только остро нуждаются в ласке и утешении, в которых им отказано семьей (намеченный однимдвумя штрихами зловещий образ тети Клары) и обществом (Джорджу и ему подобным оно готово предложить утехи публичного дома, дешевого кино, иллюстрированных журнальчиков), но и своей постоянно рассказываемой вслух сказкой о домике с садом внушают окружающим веру в себя. Ненавязчиво Стейнбек напоминает о важности бескорыстного товарищества, того, пожалуй, исключительно мужского мира, который женщины способны на время украсить, но вместе с тем и поставить на грань разрушения.
Не столь однозначен в новелле и образ природы. С одной стороны, она уравнивает мышей и людей, превращая человека из «царя природы» в ее жертву, бесправного участника трагедии под названием «жизнь». С другой — природа в новелле представлена как высшая справедливость, безмятежность, вечное возвращение. Таковы (в отличие от домашних и прирученных животных) гордые цапли, шустрые ящерицы, царственные сикоморы, излучина Салинас-ривер. Здесь не может не остановиться на ночлег путник, чтобы завороженно следить за движением зеленой воды, холмами по ту сторону реки…
«Гроздья гнева» {The Grapes of Wrath, 1939) — самый популярный роман Стейнбека. Осуждением социальной несправедливости он вызвал когда-то резонанс не меньший, чем в XIX в. «Хижина дяди Тома». Роман назван, но стиху из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса), который для американцев имел не только духовный, но и политический смысл, так как входило в «Боевой гимн республики» времен Гражданской войны.
Событийная сторона повествования проста. Из-за засухи и пыльных бурь в Оклахоме семейство Тома Джоуда вместе с другими обездоленными (или «оки») устремляется с востока на запад. Те из них, кто в надежде обрести «землю обетованную» выдержал переход через «пустыню», встретили в Калифорнии унижение, голод, физическую расправу. Направленность романа очевидна. Основанный на фактических данных, он вызвал неподдельное сочувствие к исковерканным судьбам, а также неприятие тирании, представленной банками и землевладельцами, предпочитающими уничтожать плоды земли (и таким образом надругаться над ней), нежели отдавать их голодающим.
В «Гроздьях гнева» чередуются две повествовательные линии — драматическая и публицистическая. Помимо автора свое суждение о происходящем высказывает бродячий проповедник Кейси. Созревание народного протеста (напоминающее аналогичную ситуацию в «Жерминали» Э. Золя) привлекает Стейнбека не только как автора злободневного репортажа, испытывающего симпатию к людям хотя и некнижным, но не забывающим о высоком достоинстве человека труда. Не менее важно в романе неприятие механических сил современности, выхолащивающих природную силу нации, толкающих ее па «самопоедание». Стейнбековская идея «фаланги» получила в этом романе наиболее политизированное воплощение. Хотя сам Стейнбек придерживался независимых убеждений и никогда не ассоциировал себя с конкретной партией, в «Гроздьях гнева» он выступает союзником той социально ориентированной экономики, чертами которой в годы Великой депрессии был отмечен «новый курс» Рузвельта.
Путь к свободе в стейнбековской интерпретации — путь к коллективизму, к отказу от губительной власти богатства. Во имя этой новой религии труда проповедник Кейси начинает отрицать веру в Христа, произносит слова о том, что «все живое свято», а в заключительной сцене произведения Роза Сарона, родившая мертвого младенца, кормит погибающего от измождения незнакомца своим молоком.
Томас Вулф {Thomas [Clayton] Wolfe, 1900—1938) в сравнении с Дос Пассосом и Стейнбеком — ярко выраженный романтик, художник очень эгоцентричный и ни на кого из современников не похожий. Пожалуй, он самый недооцененный из самых выдающихся писателей США XX в. Американские критики до сих пор испытывают сложности при попытке вписать его творчество в контекст межвоенной литературы. Этому в некоторой степени способствовал и сам Вулф — писатель с задатками гения, но в то же время нервный и неровный, словно не всегда знающий, как направить свой дар в определенное русло. В его прозе поражают неиссякаемый, близкий к эпической поэзии напор слов, склонность различать везде и во всем приметы мифа, острое чувство бренности человеческого существования.
В центре вулфовской прозы культ художника, личности крайне одаренной, непонятой окружающими, одинокой. Методом проб и ошибок этот человек, вышедший из глубин Америки, познает свое призвание, чтобы, вступив в конфликт с семьей, социумом, с собой, с самим временем, стать в писательстве уже не американцем, а всяким и каждым, вселенским ангелом творчества. Ему по сути своей чужда культура XX в. и ее «ярмарка на площади», назойливо рекламирующая либо бесплодный талант (который суггестирует страх бытия, утратил всякое представление о тайне жизни, том, что сам Вулф именовал «поисками дома» и «поисками Отца»), либо талант заведомо поддельный — заведомо циничный, противоестественный, продающийся и покупающийся.
Все книги Вулфа посвящены оправданию творчества, попытке «художника в юности» найти в слове, начале предельно эфемерном и ускользающем, подлинность, оставить после себя след. Способом поиска «четвертого измерения» — времени, обособившегося от привычного пространства и приобретшего свойства неведомого шедевра, носителя творческого абсолюта, сделалось у Вулфа художественное переживание собственной биографии. Силой поэтического чувства она трансформировалась в притчу о «пути всякой плоти» — в данном случае, о пути некоего архетипического художника-одиночки (Агасфера — Гамлета — Фауста), отваживающегося на невыполнимое, на превращение горизонтали жизни в вертикаль, в полное боли и лишений искание бесконечности. Одна из главных метафор творчества Вулфа, вынесенная в заглавие его второго романа («О времени и о реке»), емко соответствует как его романтизму, так и внутреннему напряжению литературной эпохи, поставленной перед трагической загадкой переоценки ценностей, переходности, «утраченного и обретенного времени». Если у М. Пруста, писателя также в значительнейшей степени автобиографичного, граница между дневником (остановившимся прошлым) и «романом длиною в жизнь» (началом длящимся) преодолевается посредством культурного усилия и отточенной эстетской артистичности — лишь они даруют воскрешение прошлого (в иных случаях навсегда утраченного), то у Вулфа это стихийный процесс и естественная религия. Прошлое у него всегда вторгается в настоящее и расширяет его до Времени, приводя этим писателя в смятение. Именно через него и сквозь него музыка бытия, или, но Вулфу, «погребенной жизни», требует сублимации, лавинообразного выхода на поверхность…
Написанное Вулфом обращено к Америке. Она, по мнению писателя, знакома каждому американцу с детства, но так и не познана ни в качестве родины, ни тем более в качестве АмерикиЕвропы, Америки — Творческого порыва, Америки-Атлантиды, простирающейся не только от океана до океана, но и охватывающей собой словесность от античности до Блейка, Шелли, Уитмена, Достоевского, Стриндберга, Джойса. История жизни Вулфа, переплавленная им затем в Роман, это история провинциала, американца, открывающего для себя город мировой цивилизации.
Вулф родился в Эшвилле, горном городке Северной Каролины. Его отцом был северянин, резчик по камню, поселившийся на юге и ставший там владельцем мастерской памятников и надгробий. Мать, в противоположность неуемному по темпераменту мужу, была по-пуритански сдержанной. Как свидетельствуют биографы Вулфа, этот союз оказался «эпическим мезальянсом»: буйная риторика отца, человека раблезианского склада характера, громогласно читавшего вслух шекспировские монологи, уравновешивалась практичностью матери. Эти две силы были позже осмыслены Вулфом как проявление извечной борьбы между женской тягой к порядку и мужским стремлением к скитаниям и творчеству. Тем не менее именно благодаря финансовой поддержке матери одаренному и начитанному юноше (одному из девятерых детей Вулфов) удалось в шестнадцать лет поступить в университет штата в Чепел-Хилле, заниматься там поэзией английского романтизма, а после его окончания (1920) продолжить образование в знаменитом гарвардском драматургическом семинаре «Мастерская 47» Дж. П. Бейкера. Драматургом Вулф не стал, хотя одна из его пьес («Добро пожаловать в наш городок», 1923) была принята к постановке в Гилд-тиэтер. В 1924—1930 гг. он преподавал английскую литературу в Нью-Йоркском университете, в 1924 г. впервые отправился в Европу, куда позднее приезжал не раз, испытывая особое расположение к немцам и немецкой культуре.
Сочинение автобиографических заметок, начатое во Франции, постепенно переросло в работу над многотомной, но так никогда не оконченной «песней о себе». Первая ее часть (она охватывает время жизни Вулфа от его рождения до смерти любимого брата Бена и окончания университета) — роман «Взгляни на дом свой,.
ангел" {Look Homeward, Angel) — увидела свет в 1929 г. Затем последовал роман «О времени и о реке» {Of Time and the River, 1935), посвященный европейской инициации в творчество, а также познанию любви и товарищества. Публикация второго романа о лирическом alter ego автора, Юджине Ганте, не состоялась бы, если бы Вулфу не оказал творческую, а затем и дружескую помощь выдающийся редактор издательства «Скрибнерз» Максуэлл Перкинс (работавший параллельно с Ф. С. Фицджералдом и Э. Хемингуэем). Вулф, писавший практически набело громадные куски прозы, испытывал сложности в отсеве материала и его композиционном расположении. Благодаря рекомендациям Перкинса он смог преодолеть творческий кризис начала 1930;х годов и довести до конца работу над колоссальной рукописью, в основу которой по совету редактора был положен символический мотив «поисков Отца».
Роман «О времени и о реке» вызвал самые разные отклики — как восторженную поддержку тех, кто надеялся на появление «великого американского романа», так и резкую критику. В частности, писателю вменялись в вину «неприкрытый» автобиографизм, громадные пассажи поэтической прозы (вызывавшие в памяти «каталоги-перечисления» «Листьев травы»), неумение выстроить повествование без помощи редактора. Максималист и «вечный юноша», всем жертвовавший ради творчества, Вулф болезненно отнесся к этим нападкам, в результате чего расстроились его отношения с Перкинсом. Найдя новых издательство и редактора, Вулф решил писать менее «лирично», вне прямых жизненных соответствий, и сменил имя своего протагониста с Юджина Ганта на Джорджа Уэббера, с тем чтобы продолжить жизнеописание своего гения и провести его через новые и главным образом трагические круги опыта: трагедию любви (мучительные отношения с музой своего первого романа, театральной художницей Эстер Джек), трагедию утраты «второй родины», Германии (подчинившейся тоталитарной власти) и ближайшего друга, фаталиста и скептика «Лиса» Эдвардса (в нем легко угадывался Перкинс), а также конфликт с нью-йоркской богемой, преступно равнодушной к народным бедам 1930;х. Наконец, Вулф открыл, что он уже не молод, не «эстетический Франкенштейн» времен юношеского байронизма. Интенсивность этого переживания, помноженного на неприятие культа денег, проникшего в 1920;е гг. даже в патриархальный Эшвилл, в Аркадию его поэтической души, привело его, пожалуй, к самому горькому из разочарований — «домой возврата нет». Тем не менее он продолжал верить в тайну американской души и мистическое братство простых людей, «там за холмами», чему намеревался посвятить эпос «К Тихому Океану». Однако реализовать задуманное Вулф не успел. В тридцать восемь лет он скоропостижно скончался от туберкулеза мозга, вызванного воспалением легких. Два последних романа Вулфа («Паутина и скала», The Web and the Rock, 1939; «Домой возврата нет», You Can’t Go Поте Again, 1940), где отражены все обстоятельства, перечисленные выше (включая пожар в нью-йоркском небоскребе и поездку в Либиа-Хилл, или Эшвилл), были составлены из многочисленных рукописей разных лет его последним редактором и могут считаться авторскими книгами с долей условности.
По жанру вулфовская тетралогия о Ганге — Уэббере представляет собой «роман воспитания». Несмотря па переклички с «Вильгельмом Мейстером», «Жан-Кристофом», «Портретом художника в юности», гамсуновским «Голодом», он глубоко оригинален. Тетралогия повествует о постижении мальчиком (открывающим для себя смерть и одиночество), юношей (сгорающим от неразделенной любви), знаменитым писателем (присутствующим на мюнхенском пивном «октоберфесте» и берлинских Олимпийских играх 1936 г.) «американской идеи», той метафизической сущности, которая вопреки меркантилизму янки способна укоренить каждого американца в праамериканском. Подлинное познание Америки, страны-фантома, страны-загадки, по Вулфу, знавшему несколько языков и прекрасно начитанному в новейшей европейской литературе, невозможно без ее соположения со Старым Светом.
Об этом он пишет в эссе «История одного романа» (1935) так: «И вот моя память ожила, она работала днем и ночью, так что поначалу я даже не мог взять иод контроль проносящийся в моем сознании мощный… поток сверкающего великолепия глубинных проявлений той жизни, которая осталась позади меня — моей жизни, Америки. Я мог, например, сидеть в открытом кафе, наблюдая пеструю жизнь, проносящуюся передо мною на авеню дель Опера, и неожиданно вспомнить железные перила, ограждающие дощатый настил пляжа в Атлантик-Сити. Картина являлась мне во всей своей реальности: тяжелые железные перила, их прочно пригнанные друг к другу стыки… И этот в высшей степени обычный, знакомый предмет пробуждал во мне то ощущение чуда, с которым открываешь для себя нечто… до сего момента не познанное. И тогда я почувствовал, что должен найти язык, который выразит то, что я знал, но не мог сказать».
Язык прозы Вулфа близок к поэтическому. Иногда он излишне цветист, отягощен множеством оборотов и натужных сравнений, ассоциаций (Гант — и Геракл, и Ясон, и Фауст), но в лучших своих проявлениях напевен. Это язык безостановочного движения, измеряющегося разве что несущимися в ночи поездами, а также беспрерывной лентой глубинной памяти, пытающейся зафиксировать и преобразовать в ритм, в музыку, запах, цвет, «мелькнувшее и исчезнувшее лицо» — на первый взгляд заурядные детали быта. Поэтому Вулф, в принципе сознавая автобиографичность написанного им, отрицал обвинения в автобиографизме: главное для него — лирическое напряжение, которое выводит натуралистическую тему за пределы фактографии («никто не назовет меня натуралистом») и делает символической, «автобиографичной для каждого». «Твой мир — это ты», — с полным основанием говорит Юджину Ганту призрак умершего брата на последних страницах «Ангела». Сам Вулф называл это движение от «чашечки цветка» к романтическому абсолюту, к тотальному поэтическому роману «поиском двери».
Вулфовское намерение различить в конечном бесконечное и в приметах быта — мифологическое измерение вызывало у писателей-современников и скепсис (Ф. С. Фицджералд, Э. Хемингуэй), и восторженное отношение (Г. Гессе). Дж. Б. Пристли полагал, что из романов Вулфа читатель узнает об Америке больше, чем из десятка социологических исследований. У. Фолкнер усматривал в вулфовском желании рисковать, желании вместить на страницу текста необъятное — самое блестящее «писательское поражение» межвоенной американской литературы.