Основные этапы истории церковно-государственных отношений в России
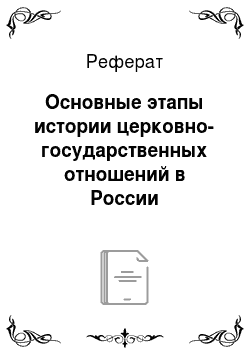
В этом контексте становится не только объяснима, но и оправдана концепция Москвы — третьего Рима, которую правильнее понимать не только и не столько как политическую, сколько как религиозную по сути и форме. Замещая в конце XV — начале XVI вв. Константинополь, Москва сначала понимается как Новый Иерусалим, а затем уже и на этом фоне — как Третий Рим; теократическое государство становится… Читать ещё >
Основные этапы истории церковно-государственных отношений в России (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
История контактов церкви со светской властью в России прослеживается с древнейших, дохристианских, времен. Однако говорить об отношениях церкви и государства как таковых, очевидно, корректно лишь с конца X в. Именно тогда Русь стала частью «византийского содружества», т. е. сверхнационального единства христианских народов, которое символически возглавлялось императором и Вселенским патриархом — архиепископом Константинополя. Таким образом, приняв христианство по собственному желанию, добровольно, Русь стала частью Византийской империи — в том смысле, что вплоть до Флорентийского собора 1438/39 г. признавала в Константинопольском патриархате источник веры и центр более высокой культуры.
Невозможно удивляться и тому, что постепенно Русь усвоила и византийские представления о симфонии («союзе») священства и царства, что нашло отражении в русском церковном праве[1]. Однозначная ее оценка, думается, невозможна, однако необходимо признать, что в истории церковно-государственных отношений идея церковно-государственного союза сыграла исключительную роль, опосредованно повлияв на дальнейший ход религиозно-политического развития страны.
«Критическим последствием успешного воссоздания средневековой Восточной Римской империи в колыбели византийской цивилизации стало то, что Восточноправославная церковь попала в зависимость от государства», — заявлял английский мыслитель А. Дж. Тойнби (1889—1975). Называя средневековую Византию государством «тоталитарным», разрушившим византийскую же культуру, он подчеркивал факт подчинения патриарха императору, указывая, что это обстоятельство создавало дилемму при обращении в христианство языческого князя. Однако для Руси эта дилемма была лишь теоретической, прежде всего, по причине отдаленности страны от Константинополя. Акцентирование внимания на факторе удаленности показательно потому, что предоставляет исследователю возможность говорить о причинах, позволивших Руси устоять и стать наследницей Византии. Оценка этого наследия не слишком оптимистична, но весьма показательна: английский ученый не сомневался, что Россия (даже при советской системе!) — все еще «Святая Русь», а Москва — все еще «Третий Рим»!
Впрочем, мнение А. Дж. Тойнби здесь было приведено лишь с одной целью: показать, как восприятие византийского наследия (прилагательно к России) может влиять и на восприятие самой идеи симфонии, следовательно, и на характеристику вопроса о церковно-государственных отношениях. А с учетом того, что говорить об основных этапах этих отношений в Древней Руси без указания на важность вопроса о симфонии невозможно, заявление о тоталитарном наследии получает исключительную важность. Неслучайно тезис о византизме был общим местом в негативном образе России, формировавшемся на Западе в годы холодной войны. Теоретический вопрос, следовательно, оказывался вопросом политическим, т. е. обусловленным идеологически. Подобное обстоятельство ни забывать, ни игнорировать нельзя, как нельзя забывать и о том, что идеальные представления в реальной жизни реализуются только опосредованно (но идеал, безусловно, формирует жизненные принципы).
Не будет преувеличением сказать, что первый период в истории церковно-государственных отношений на Руси — это время от Крещения до середины XV в. В течение пяти веков Русь, пережившая погром Батыя и тяжелейшие десятилетия ордынского ига, окончательно стала страной христианской, воспитав в себе отношение к православию как к национальной святыне. Это воспитание, с учетом меньшей зависимости церкви на Руси от великокняжеской власти, прошло ряд исторических фаз. Собственно, политическая проекция на религиозную жизнь стала возможна лишь тогда, когда московские князья приступили к строительству своего русского государства. Здесь религиозно-политические задачи власти и переплелись с православием как формой жизни русского народа. Христианство на Руси окончательно стало формой политического бытия и нормой обыденного существования (несмотря на то что победить языческую религиозность церковь не смогла, и «двоеверие» оставалось реальностью народной жизни вплоть до XX в.). Пословица «без Бога не до порога» характеризует не только и не столько «праведность» русского человека, сколько укорененность религиозного начала в его жизни. Вне богослужения и храма русский человек (и простолюдин, и представитель правящего слоя) был окружен все той же церковностью. Жизнь шла по церковному календарю и по святцам; практически все жизненные события освящались церковью: брак, новоселье, начало и конец сельскохозяйственных работ, именины, похороны, поминание усопших. Молитва предшествовала принятию пищи, сну, всякой работе. Русский человек вполне искренне воспринимал христианство не только как религию суда, но также как религию спасения и милосердия. Последнее обстоятельство особенно важно для понимания русской религиозности. Собственно говоря, попытаться понять механизм соединения этих трех компонентов и значит приблизиться к осознанию того, что такое христианство в историческом его преломлении; в нашем случае — в его русской форме. При этом игнорировать фактор православной государственности — значит изначально внести ошибку в рассуждение.
Любое соединение только тогда успешно, когда оно не механично, а органично. Становление «человека религиозного» предшествует всякой религии и, конечно же, формированию конфессионального государства. Но, в свою очередь, и государство, выбравшее в качестве принципа некий религиозный идеал, неминуемо будет оказывать растущее влияние на религиозное развитие живущих в нем людей.
Если воспринимать Русь (до пертурбаций Флорентийского собора) как часть «византийского содружества», то придется признать: именно тогда восточные славяне получили первое представление о том, что такое империя, что такое «вселенскость». Без такой прививки трудно объяснить процесс складывания представлений о своей роли (понимаемой как ответственность) в христианской истории человечества. А без этого невозможно оценить выражения «Святая Русь» и «Москва — третий Рим», равно как и объяснить позднее, уже XIX в., определение религиозно-политической сущности императорской России, выраженной в уваровской триаде «православия, самодержавия и народности». Следовательно, невозможно понять и правильно оценить логику церковно-государственных отношений на Руси и в России и охарактеризовать их этапы.
Формирование религиозно-политического образа, в дальнейшем становящегося оценочным при характеристике страны, — процесс долгий и не всегда логически оправданный. И все же именно «образ» помогает понять (т. е. почувствовать) психологию народа в большей степени, чем усвоение определенных исторических знаний. И дело вовсе не в точном соответствии претензии — реальности. Принцип «Святой Руси», равно как и право на наследие Византии (в качестве третьего Рима), могут пониматься в качестве национальных «форм», точно так же уясняющих сущность народа, как идея «доброй старой Англии» характеризует англичан, а идея «веселой Франции» — французов.
Разумеется, христианство на Руси сыграло основную роль в деле усвоения русскими идеалов «Святой Руси» и связанной с ними идеи «Москвы — третьего Рима». Этому усвоению способствовала история становления государственности, включавшая эпоху ордынского ига. Нельзя забывать, что иго не только социально-экономический, но и морально-нравственный феномен, время привнесения в формирующееся национальное сознание в том числе и ранее несвойственных ему представлений о чести и бесчестии. Неслучайно великий русский историк В. О. Ключевский (1841—1911) говорил о нравственном разорении, повергшем народ в мертвенное оцепенение — «панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера». То, что этого не произошло — безусловная заслуга церкви. Русские признавали хана царем де-факто, ибо такова была «воля Божия», но церковь постоянно напоминала им о существовании христианской империи, о том, что повиновение ордынскому «царю» не исключает ненависти к поработителям.
Переплавить разрушающую человека ненависть в созидательную любовь может только религия. Символом этой любви в Московской Руси стал преподобный Сергий Радонежский (1314/1322 — 1392), один из самых популярных русских святых, создатель праздника святой Троицы и основатель Свято-Троицкого монастыря (будущей ТроицеСергиевой Лавры). Культ Троицы становится чрезвычайно популярным именно в XIV—XV вв. Историки считают, что причина популярности Троицы — нераздельной и неслиянной — в отношении народа к политической жизни Руси того времени. Как нераздельная, Троица олицетворяла необходимость собирания русских земель, как неслиянная — требовала освобождения от ига. Идея Троицы как идея единения и любви оказалась действенной и жизненной, а ее проповедь, в религиозном делании осуществлявшаяся преподобным Сергием, оказала влияние и на политическое развитие страны.
Именно тогда, в XIV—XV вв., единство церкви, ее соборность стали особенно важны, стали осознаваться как образец для единства «власти мирской». Московская государственность складывалась по образцу церковного устроения. И начало этого процесса, безусловно, невозможно рассматривать без упоминания имени преподобного Сергия. Не случайно В. О. Ключевский писал, что при его имени «народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной».
Запомним эти слова, тем более что XIV и XV вв. — время активного строительства «крепости», проходившего на фоне апокалипсических ожиданий (1492 г. от Рождества Христова по церковному календарю был 7000 г. от сотворения мира и воспринимался как «суббота Господня», завершающая историю). Апокалипсические ожидания не носили черт фанатизма и духовной истерии: внимание привлекало позитивное содержание Откровения Иоанна Богослова — победа Христа над силами зла и торжество Его Царства. И хотя надежда на приход Христа в конце 7000 г. не оправдалась, что породило некоторое разочарование, именно этой надежде Россия обязана духовными и политическими свершениями: Куликовской победе, созданию Московского государства, расцвету иконописи.
Тогда же, в XV в., оформляется и идея Москвы как религиозно-политического преемника павшей «под секирами внуков Агари» в 1453 г. Византии. «Государь всея Руси» Иван III (1440—1505) имел претензии на генеалогию, восходившую к римским цезарям, рассматривая себя равным императору Священной Римской империи немецкой нации (неслучайно в конце 1490-х гг. была учреждена и государственная печать с двуглавым орлом — символом верховенства, чуть ранее (в 1442 г.) принятым в качестве государственного герба императором Фридрихом III; 1415—1493). Тогда же Русская церковь начинает внедрять представление о великом князе Московском не только как о самодержце и государе, но и как о русском царе, тем самым проявляя тенденцию, сводившуюся к замещению византийского автократора русским.
В этом контексте становится не только объяснима, но и оправдана концепция Москвы — третьего Рима, которую правильнее понимать не только и не столько как политическую, сколько как религиозную по сути и форме. Замещая в конце XV — начале XVI вв. Константинополь, Москва сначала понимается как Новый Иерусалим, а затем уже и на этом фоне — как Третий Рим; теократическое государство становится империей! Лишь по мере ослабления эсхатологических переживаний, переживаний 7000-го года, идея Константинополя как «Нового Иерусалима» уступает место идее «Нового Рима». «Иерусалим и Рим обозначают две разные перспективы — Божественную и человеческую, — которые соответствуют двум пониманиям царства, — писал крупнейший отечественный исследователь Б. А. Успенский (1937), — как царства Небесного (Отца и Сына и Святого Духа) и как царства земного (христианской империи). В историческом плане они ориентируют на историю церкви или на историю империи. При таком понимании замена выражения „Новый Иерусалим“ на „Новый Рим“ в контексте оценки новой исторической роли Москвы оказывается чрезвычайно значимой». Религиозная ответственность государства как наследницы некогда великой христианской империи имела свои последствия, которые трудно охарактеризовать однозначно: оценочная шкала прошлого всегда лукава. И все же.
Русские государи привыкают смотреть на себя (и на свою власть) через призму христианского служения, чем дальше, тем больше проникаясь идеей, высказанной преподобным Иосифом Волоцким (1439—1515) в 1510—1511-х гг.: «Царь убо естеством подобен есть всем человеком, а властию же подобен есть вышняму Богу». Формула единодержавной власти найдена. Византийские принципы оказались «идейно оформлены» русскими клириками. С тех пор ни один российский самодержец не усомнился в правоте иосифлянской сентенции, воспринимая «симфонию властей» сугубо через призму собственной богоподобной власти. Исследователи даже полагают, что учение преп. Иосифа о самодержце стало теоретической основой сотрудничества между высшими церковными иерархами и московскими государями.
Укрепление православного государства (самодержавной «вотчины»), собственно, и означало реализацию мессианской идеи Третьего Рима — во что бы то ни стало (хотя, надо признать, этой идей никогда не вдохновлялась русская внешняя политика, более того, ей часто вдохновлялись на трудном пути духовно-нравственного совершенствования).
В любом случае, идеи персонализма и творчества, развитие которых замечают исследователи в XIV — начале XV вв., не получили продолжения в дальнейшем. «Предвозрождение» не обратилось в Возрождение. Но виной тому, думается, не только интенсивное государственное строительство, требовавшее исключительного напряжения эмоциональных и физических сил народа.
Все это важно, но лишь с учетом дополнительного фактора. На него давно обратил внимание русский философ Ф. А. Степун (1884—1965), замечавший, что защищенное незнанием латинского языка от соблазнов античной мысли отечественное православие мало работало над вопросами догматики, апологетики, моральной и социальной философии, в результате оказавшись неприспособленным в борьбе с обмирщенной мыслью нового времени. При этом Ф. А. Степун замечал, что православие, в отличие от католицизма, прошло мимо античного учения о естественном праве. «Ведь на естественном праве покоятся все права человека и гражданина: свобода вероисповедания, свобода слова, собраний и т. д. Православная церковь, — полагал философ, — естественного права как христианской темы никогда не знала и потому никогда не защищала христианскую душу гражданина от государственной власти и всех ее несправедливостей. Учение о естественном праве появляется в России не как христианская, а как антихристианская и, во всяком случае, как антицерковная тема».
Но можно ли винить в этом православное государство и православных государей — защитников и покровителей веры?
Ответ, скорее всего, должен быть отрицательным. Получив византийское наследие, они оказались в положении главных хранителей благочестия в единственно возможных на тот момент политических формах, формах «Третьего Рима». Кроме того, не следует забывать и того, что в идее государства московского периода «священство» и «царство» были неразделимы — в отличие от западной модели взаимных отношений этих начал. В понятие православного государства тогда входило и то, что царь правит несовершенным сообществом людей на земле, а церковь дает этим людям представление о другом мире — «горнем», дает идеал и очищает от грехов. Такое понятие православного государства, очевидно, может рассматриваться как русское прочтение «симфонии властей», как теоретическое положение, которому необходимо следовать и к которому нужно стремиться. Однако реальная жизнь оказывалась много сложнее.
Чем дальше, тем больше русское христианство замыкалось на обрядах и церковности, опасаясь новшеств и стремясь сохранить старину. Даже церковнославянский язык понимался на Руси не просто как одна из возможных систем передачи информации, а как система символического представления православного исповедания. Предполагалось даже, что изучение иностранных языков вызывает гнев земли. Борьба за чистоту православия, развернувшаяся в первой половине XVII в., — полагают ученые, — выходила за рамки чисто религиозной полемики.
Благодаря усвоению русскими людьми концепции «Москва — Третий Рим», ориентированной на культурный изоляционизм и резко негативное отношение к любому внешнему влиянию, чистота веры была возможна только в пределах Московского царства. Поэтому любое отступление от православных канонов расценивалось не только как ересь, но и как измена родине. Преступление против церкви было равносильно преступлению против государства.
Не поэтому ли, не этой ли логике следуя, автор «Русской идеологии" — архиепископ Серафим (Соболев; 1881—1950), ныне прославленный в лике святых православный иерарх, утверждал, что византийская симфония была «основною догмою» для определения церковно-государственных отношений и в России, о чем, по его мнению, свидетельствовала действительность русской жизни — правда до тех пор, пока симфония не была нарушена со стороны царской власти во второй половине XVII столетия (т. е. при царе Алексее Михайловиче; 1629— 1676).
Дальнейшую историю, если принять точку зрения владыки, можно объяснить без особых проблем — по схеме, в которой идейная реабилитация церковного реформатора патриарха Никона (1605—1681) оказывается необходимой и оправданной. Вопрос, почему затеянные патриархом церковные реформы вызвали сильнейшее противодействие в русском обществе, в подобном контексте не может восприниматься как один из принципиальных, хотя старообрядческий раскол можно считать ответом на вызовы нового времени, заставлявшего задумываться о проблематичности сохранения единства религиозных «формы» и «содержания». К тому же стремление Никона играть политическую роль могло восприниматься скорее как покушение на не принадлежавшие ему права и не могло рассматриваться в русле «реанимации» политики — патриарха Филарета (около 1553—1633), бывшего отцом первого государя из рода Романовых. Все это — свидетельства кризиса, в который попало средневековое религиозное сознание.
К концу XVII в. на смену древнерусской историософии, согласно которой история определяет судьбу человека, приходит предъявляющий на нее — историю — свои права человек. Европейский гуманизм (барочная «новизна») приходит в Россию, говоря о преодолении прошлого. В течение XVII в. динамизм становится государственной практикой. По слову академика А. М. Панченко (1937—2002), «все группировки русской интеллигенции так или иначе ориентируются на динамизм, так или иначе „соударяются“ с европейским барокко». Это «соударение» для Русской церкви было настоящим memento mori, ибо говорило о неизбежном приходе нового времени, с иной шкалой ценностей и приоритетов. Однако, приучив светскую власть (в лице верховных ее носителей) смотреть на себя как на земного бога, церковь постепенно потеряла возможность морально влиять на Царство (даже право печалования было отменено). Личная религиозность монархов в данном случае не была определяющей, — просто самодержавие не терпит двоевластия. И Петр Великий (1672—1725) откровенно сказал об этом в своем «Духовном регламенте». Православная церковь, объявляемая «первенствующей и господствующей», откровенно ставится на службу утилитарным целям государства.
Эпохой Петра Великого была открыта новая страница в истории церковно-государственных отношениях, — так называемый Синодальный период. Христианская вера при этом оказывается зажата в тиски «официальной церковности», получая легитимность в контексте с самодержавием и народностью. Содержание постепенно «отслаивается» от формы. Имперский Петербург отнюдь не являлся эманацией благочестивой Москвы, не будучи и ее имитацией. Не случайно «народная вера» к концу Синодального периода стала противопоставляться «тепло-хладной вере» образованного меньшинства. Ведь только в среде русского крестьянства, составлявшего подавляющее большинство населения страны, «форма» так и продолжала определять «содержание», влияя на религиозное миросозерцание. Отдавали ли в этом отчет те, кто в последние предреволюционные десятилетия определял политическую жизнь народа?
Безусловно. И не только отдавали отчет, но даже считали одним из важных достижений русского христианства. Понимавший религиозную психологию православного человека и по собственному опыту знавший, что церковь красна народом, учитель двух последних самодержцев, четверть века занимавший кресло обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцев (1827—1907) написал об этом убедительно и просто: «Какое таинство — религиозная жизнь народа такого, как наш, оставленного самому себе, неученого! Спрашиваешь себя: откуда вытекает она? — и когда пытаешься дойти до источника — ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко учит, оно служит в церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и церковью. И еще оказывается в иных, глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего, ни в словах службы церковной, ни даже в «Отче наш», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы.
И однако — во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, — как было в Афинах, — неизвестно кем, алтарь Неведомому Богу; для всех — действительное присутствие воли Провидения во всех событиях жизни — есть факт столь бесспорный, так твердо укоренившийся в сознании, что, когда приходит смерть, эти люди, коим никто никогда не говорил о Боге, отверзают Ему дверь, как известному и давно ожидаемому Гостю. Они в буквальном смысле отдают Богу душу".
Это — плоды христианства в России, результат не политического, а морального влияния православия на нацию. Даже если считать «государственное православие» в России политическим феноменом.
(на что у нас есть достаточные основания), то и в этом случае необходимо признать: реализация сверхзадачи — претворение в жизнь идеалистических задач «Третьего Рима» и стремление быть «новой Византией» — содействовало кристаллизации формулы совершенной русской жизни, — формулы «Святой Руси», без которой невозможно понять Русскую Идею и разобраться в тысячелетней истории народа, невозможно правильно оценить и всю парадоксальную сложность, драматичность церковно-государственных отношений в Российской империи. Думается, не будет ошибкой указать на то, что развитие этих отношений в православно-монархической России необходимо рассматривать в контексте «симфонии властей», которая раскрывается во времени: в идеалах Святой Руси, в концепции «Москвы — Третьего Рима», в триаде «православия, самодержавия и народности».
Собственно, основные этапы церковно-государственных отношений и есть этапы постижения византийской идеи, сформулированной в VI новелле императора Юстиниана — постижения, происходившего на фоне строительства Российской империи, со всеми политическими и социально-психологическими издержками подобного строительства. Заявляя о себе как о православной, Российская империя потому и утверждала свою суверенную самодостаточность, — ив делах духовных тоже. В этом смысле, как не парадоксально, Синодальный период церковно-государственных отношений был продолжением политической линии предшествующих эпох, хотя и «оформленным» в протестантском стиле. Дело было не в Синоде, а в безусловном подчинении церкви царству. До той поры, пока царство называло себя православным, церковь, включенная в «духовное ведомство» — ведомство православного исповедания, не могла самостоятельно решать принципиальные вопросы своего внутреннего устройства, прежде всего вопрос о созыве Собора и восстановлении Патриаршества. Император как верховный ктитор был не только конечной, но и главной, определяющей инстанцией. Критиковать сложившееся со времен Петра Великого положение исторически бессмысленно — на практике «симфония властей» неизбежно, как показывает история, ведет к укреплению государственного (хотя и «православного») начала.
1917 год кардинальным образом изменил положение православной церкви в России: революция уничтожила, как оказалось — навсегда, многовековую «симфоническую» связь, политически и идеологически соединявшую главную конфессию империи со светской властью. В манифесте последнего российского самодержца, 2 марта 1917 г. объявившего о своем отречении от престола, ни слова не было сказано о будущем церкви. Строго говоря, винить в этом Николая II (1868—1918) нельзя — ведь он отрекался в пользу брата, следовательно, мог рассчитывать на то, что новый монарх сам разберется в сложившейся на тот момент ситуации. Великий князь Михаил Александрович (1878—1918), как известно, корону не принял, отказавшись от престола «в пользу народа» и согласившись с тем, что окончательно вопрос о форме власти в стране должно решить Учредительное собрание. Стремительно развивавшиеся события не позволили Временному Правительству справиться с задачей созыва этого собрания, открывшегося всего на один день (5 января 1918 г.) уже после прихода к власти партии большевиков. Вопрос о возможном восстановлении монархии в стране к тому времени был неактуален. Следовательно, не могла всерьез рассматриваться и проблема восстановления прежних церковно-государственных отношений.
Самодержец, по букве закона, являлся верховным защитником и хранителем догматов православия, блюстителем правоверия и церковного благочиния. Новые властители страны, пришедшие на смену царскому правительству после февраля (и члены Временного правительства, и свергнувшие их большевики) на подобное не претендовали. Но «несимфонические» формы отношений светским властям только предстояло выработать. Точно так же и церкви предстояло психологически и организационно подготовиться к новым отношениям с государством, о политическом (и идеологическом) будущем которого в 1917 г. можно было лишь догадываться.
14 апреля 1917 г. Временное правительство, как некогда император, издало указ об освобождении всех членов «царского» Св. Синода (за исключением архиепископа Финляндского Сергия) и о вызове новых членов. Если раньше увольнение и назначение членов Св. Синода было неканонично, но все-таки объяснялось тем, что делалось от имени императора — «Верховного ктитора церкви», то после отречения Николая II подобная практика не имела совсем никакого оправдания. Не имела оправдания и практика утверждения решений Св. Синода, присвоенная Временным правительством. Не желая терять прежний контроль над православной церковью, новая революционная власть тем не менее 14 июля 1917 г. приняла постановление «О свободе совести», узаконившее вневероисповедное состояние. Вскоре было организовано и Министерство исповеданий, а должность обер-прокурора Св. Синода — уничтожена. С 5 августа первым (и, как оказалось, последним) министром исповеданий стал А. В. Карташев (1875—1960). И хотя А. В. Карташев, в отличие от своего предшественника — В. Н. Львова (1872—1930), старался проводить политику, целью которой было не отделение, а «отдаление» церкви от государства, действия светских властей в целом не находили сочувствия у большинства русских архиереев.
Все это необходимо учитывать, отмечая, что именно при Временном Правительстве 15 августа 1917 г. в Москве начал свою работу Поместный собор православной российской церкви. Собор, голоса которого в России не слышали более 200 лет, должен был решать многочисленные вопросы внутрицерковного устройства и вырабатывать новые формы церковно-государственных отношений. На Поместном соборе 1917—1918 гг. было восстановлено патриаршество и избран предстоятель церкви — Патриарх Московский и всея России Тихон (Беллавин;
1865—1925). Избрание и интронизация патриарха состоялись в ноябре 1917 г., после того как Временное Правительство было низложено, и ему на смену пришла новая власть во главе с В. И. Лениным (1970— 1924).
Приход к власти партии большевиков стал вехой в истории отношений церкви и государства в России, окончательно похоронив надежду на возможность налаживания хоть сколько-нибудь приемлемых взаимоотношений между ними. Разумеется, дело было не только в антиклерикальных взглядах большевистских идеологов, но и в тех практических антицерковных действиях, которые они приняли на вооружение буквально с первых лет советской власти. Уже 20 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным принял декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», согласно которому церковь не получила прав частного религиозного общества, теряла права на владение собственностью, более не имея и права юридического лица. Все ее имущество объявлялось «народным достоянием». Обучение Закону Божьему в тех учебных заведениях, где преподавались общеобразовательные предметы, также запрещалось. Именно Ленин заменил первую статью проекта декрета, гласившую, что религия есть частное дело гражданина страны положением об отделении церкви от государства. Декрет, что психологически вполне объяснимо, вызвал негативную реакцию членов Собора, не представлявших возможности раздельного существования церкви и государства в России.
Стремясь в максимально короткий срок уничтожить православную церковь как оппозиционную идеологическую силу, по возможности дискредитировав ее в глазах верующих, большевики использовали голод, охвативший страну в 1921 г. Поводом стало изъятие церковных ценностей под лозунгом сбора средств для помощи голодающим. Сопротивление верующих насильственному изъятию ценностей, имевших богослужебное предназначение, привело в начале марта 1922 г. к столкновению с властями в городе Шуе. Инцидент привлек внимание В. И. Ленина, написавшего по этому поводу «строго секретное» письмо членам Политбюро ЦК РКП (б). «Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству, — указывал Ленин, — и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». Это письмо стало реальной антицерковной директивой: именно с весны 1922 г. можно вести отсчет планомерной государственной работе по развалу церковного управления и всяческой дискредитации официального церковного руководства.
В ходе кампании 1922 г. осуществление государственной политики в отношении церкви перешло в руки чекистов: вплоть до конца 1930;х гг. органом борьбы с церковью стало VI («церковное») отделение секретного отдела ГПУ, получавшее инструкции от руководителей партии. В ЦК РКП (б) была создана Антирелигиозная комиссия, координировавшая антицерковную деятельность различных учреждений.
В 1922 г. государственная власть сумела добиться раскола православной церкви, содействуя политическому позиционированию противников патриарха («тихоновцев»). Получившие в дальнейшем наименование «обновленцев», эти противники целиком и полностью поддерживали действия советских властей, при содействии которых сумели даже провести два «Поместных собора» (1923 и 1925 гг.). Показательно, что противников патриарха Тихона один из наиболее активных борцов с религией и церковью первой половины 1920;х гг. — Л. Д. Троцкий (1879—1940) называл «сменовеховским духовенством», характеризуя их идеологию как «буржуазно-соглашательскую».
Итак, можно сказать, что в 1922 г. государственная власть, разумеется, исходя из собственных прагматических соображений, de facto отказалось от декларированного 20 января 1918 г. принципа отделения церкви от государства. С тех пор вмешательство во внутрицерковные дела стало носить систематический характер. Это вмешательство, как показали 1930;е гг. (особенно вторая их половина), не гарантировало церковные структуры «обновленцев» от возможного погрома, а их самих — от репрессий. Власти решали стратегическую задачу — уничтожения религии и церкви, а потому любые контакты с «церковниками» рассматривали как временные соглашения, которые в любой момент можно прервать. Добиваясь тактических побед, богоборческая власть вплоть до кончины св. патриарха Тихона так и не сумела решить свою стратегическую задачу: влиять на кадровый подбор, смену и назначение иерархов. «Победа» была достигнута лишь в 1927 г., при заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском; 1867—1944). В мае 1927 г. митрополит получил регистрацию Временного Священного Синода и смог приступить к организации работы высшего церковного управления.
Ценой полученной в НКВД регистрационной справки можно считать печально знаменитую «Декларацию» от 29 июля 1927 г., в которой заявлялось, что церковь «не с врагами нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством», «что советская власть — действительно Народная Рабоче-Крестьянская власть, а потому прочная и непоколебимая». Но главное — с тех пор светская власть получила возможность влиять на кадровую политику православной церкви, удаляя неугодных иерархов и клириков, используя авторитет (или, лучше сказать, полномочия) высшей церковной власти, возглавлявшейся тогда митрополитом Сергием. В этой связи полагаю возможным говорить о «новом издании» старой болезни — своего рода извращенном атеизмом «византийском грехе», — стремлении православной церкви (по крайней мере, в лице части ее священноначалия) найти себе место в политической структуре богоборческого государства и, одновременно, стремлении богоборческого государства оказывать влияние на ход внутрицерковных дел.
Церковь вновь, как и до 1917 г., оказалась в полном политическом и идеологическом подчинении у государства. И хотя до революции государство называло себя православным и поддерживало церковь, а после — боролось с религией и уничтожало прежние «конфессиональные ориентиры» не только в общественной, но и в частной жизни, суть осталась неизменной: религия не признавалась личным делом гражданина, а в своих отношениях с религиозными институциями светская власть всегда была идеологически ангажирована. «Декларация» 1927 г., как показало ближайшее будущее, не спасла церковь от последующих репрессий, лишь обострив противостояние внутри самой церкви, многие иерархи которой категорически не приняли линию митрополита Сергия. К тому же и официальные власти никак не скрывали своего отношения к «реакционному духовенству». Новый строй, заинтересованный в формулировании идеологического кредо, не мог терпеть идеологически чуждую, пусть и лояльную политически силу. Спустя два года после капитуляции митрополита Сергия, советское руководство подготовило и официально утвердило постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» (от 8 апреля 1929 г.). Постановление указывало, что религиозные объединения регистрируются только в виде религиозных обществ или групп верующих, что эти общества и группы не пользуются правом юридического лица, что «регистрирующим органам предоставляется право отвода из состава членов исполнительного органа религиозного общества или группы верующих отдельных лиц». Отдельно оговаривалось, что имущество, «необходимое для отправления культа», и переданное по договору верующим, и вновь приобретенное или пожертвованное, является национализированным и находится на учете в соответствующем совете или исполнительном комитете. Это постановление, с небольшими изменениями 1975 г., действовало вплоть до принятия осенью 1990 г. Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий».
К началу Второй мировой войны православная церковь, возглавлявшаяся митрополитом Сергием, была практически полностью организационно разгромлена: на свободе в СССР оставалось только четыре правящих архиерея. По словам современного исследователя, к началу 1940;х гг. «религиозная жизнь приняла очаговый характер». Не менее активно тогда же уничтожались и бывшие церковные «попутчики» власти — «альтернативные православные» — обновленцы. В сталинской схеме тех лет места религии и православной церкви не находилось. Цельная антицерковная (как и в целом антирелигиозная) политика власти, а точнее говоря — политика И. В. Сталина (1878—1953) стала деформироваться под влиянием серьезных международных изменений. Коммунистический диктатор прекрасно осознавал неизбежность крупной европейской войны, готовиться к которой было необходимо и на «идеологическом фронте». Присоединение в 1939—1940 гг. к Советскому Союзу новых территорий опосредованно актуализировало «религиозный вопрос»: к 1941 г. на территории СССР действовал 3021.
православный храм, из которых около 3000 располагалось на вновь присоединенных землях (в Восточной Прибалтике, на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Бессарабии). Появилось 46 монастырей (а ведь к 1938 г. все православные обители Советского Союза были закрыты). Закрыть все полученные с новыми землями церкви и монастыри в максимально короткий срок было и невозможно, и опасно. К тому же оказавшиеся в составе Советского Союза верующие западных территорий не имели опыта жизни при «победившем социализме», что на первых порах И. В. Сталин должен был учитывать.
Однако реальные изменения в отношении церкви и государства в СССР произошли только после начала Великой Отечественной войны. Следуя этой логике, апофеозом «правильной политики», прилагательно ко времени Великой Отечественной войны необходимо признать историческую встречу И. В. Сталина и В. М. Молотова (1890—1986) с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским; 1877— 1970) и Николаем (Ярушевичем; 1891—1961), состоявшуюся 4 сентября 1943 г. Тогда же вождь проинформировал митрополитов о создании специального Совета по делам Русской православной церкви[2]* во главе с полковником госбезопасности Г. Г. Карповым (1898—1967), ранее «специализировавшимся» на осуществлении различных антицерковных акций. 8 сентября в спешном порядке Архиерейский собор, состоявший из 19 епископов, единогласно избрал митрополита Сергия патриархом. Последовавшая вскоре (15 мая 1944 г.) смерть патриарха Сергия ничего в принципе не изменила. Новый Местоблюститель, вскоре ставший патриархом, — митрополит Алексий (Симанский) продолжал следовать его линии, заверяя Сталина в своей полной лояльности.
Первоначально, Сталин хотел использовать авторитет церкви для решения крупных внешнеполитических задач. Однако в дальнейшем интерес Сталина к православной церкви как инструменту проведения внешней политики падает. По мнению отечественного исследователя церковно-государственных отношений советского периода О. Ю. Васильевой (1960), это было связано с тем, что СССР стала атомной державой и, кроме того, у страны появились новые средства воздействия на страны Восточной Европы. «Сохраняя внешне ровные отношения с Русской православной церковью, — писала она, — власть пошла на ограничение ее влияния в обществе. А после смерти И. В. Сталина новое советское руководство, осудив прежний примиренческий курс государственно-церковной политики, встало на путь открытой конфронтации с церковью». Думается, что антирелигиозную деятельность Н. С. Хрущева (1894—1971) невозможно понять вне временного контекста: как политик он рос в годы активных выступлений против религии и церкви. Восстанавливая «ленинские нормы» в партийной и государственной жизни и развенчивая «культ личности», он воспринимал церковь как исторический рудимент, отношение к которому должно быть по большевистски непримиримым.
Не стоит также забывать, что любые инициативы руководства православной церкви в послевоенный период должны были согласовываться с советскими чиновниками. Именно они определяли меру «идеологической пользы» и «идеологического вреда», получаемых от контактов с религиозными организациями страны (прежде всего — с РПЦ). По словам М. И. Одинцова (1949), в 1980;х гг. работавшего в Совете по делам религий, именно на этот Совет с конца 1965 г. было возложено проведение церковной политики. «Используя историческую аналогию, — пишет М. И. Одинцов, — можно говорить о „возрождении“ системы дореволюционного обер-прокурорства: ни один мало-мальски важный вопрос деятельности религиозных организаций не мог быть решен без участия Совета по делам религий. Но одновременно сам Совет действовал в тех рамках, что определяли высшие партийные и государственные органы».
Со сказанным можно согласиться только с одной оговоркой: оберпрокуроры Св. Синода, даже если и были людьми мало церковными (что случалось, например в XVIII в.), все же считались личными представителями православного императора в церкви. Задачей обер-прокурора была защита православной церкви «от враждебных на нее поползновений». Конфессиональная ориентация государства определяла и положение церкви. В СССР государство было антирелигиозно по своей сути. И прагматичный Сталин, в 1930;е гг. чуть было не уничтоживший институциональную церковь, а во время Великой Отечественной войны признавший за ней право на патриотизм, и «субъективист» Хрущев, боровшийся за «ленинское» отношение (как он его понимал) к религии и церкви могли допустить только одно: использование церкви в тех или иных политических играх. Совет по делам РПЦ, преобразованный в середине 1960;х гг. в Совет по делам религий, организационно обслуживал эти игры.
Итак, подводя промежуточные итоги, необходимо сказать, что к середине 1980;х гг. Русская православная церковь пребывала под вынужденной «опекой» государства (в лице Совета по делам религий). Не будет преувеличением назвать эти отношения «лжесимфонией», так как декларируя отделения церкви от государства, советская власть не желала отказываться от контроля за религиозными структурами в стране и, прежде всего, над РПЦ. Светские власти осуществляли контроль за церковными кадрами, направляли внешнюю политику церкви (хотя благодаря последнему обстоятельству православная иерархия могла иногда добиться от властей тех или иных послаблений внутри страны). Стратегическая цель коммунистического воспитания — построение безрелигиозного общества при этом оставалась актуализированной (в частности, в Программе и Уставе КПСС). Разумеется, православную церковь 1970—1980;х гг. не воспринимали в качестве.
«реакционной» силы, существующей в советском обществе, но религиозная идеология рассматривалась как противостоящая идеологии коммунистической. Кризис коммунистической идеологии неминуемо должен был выявить интерес общества к альтернативной религиозной идеологии, способствовать выявлению новых форм государственноцерковных отношений в СССР. Демифологизация революции и всего того, что с ней связывалось, должно было содействовать усилению интереса к религии и церкви. Эти процессы наблюдались в годы правления М. С. Горбачева (1931). «Перестройка» существенным образом сказалась на отношении к церкви в советском обществе, особенно после того, как с государственным размахом в 1988 г. было отпраздновано 1000-летие Крещения Руси. Два года спустя скончался Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков; 1910—1990), с 1970 г. стоявший во главе Московской патриархии, первоначально в качестве Местоблюстителя, а с 1971 г. — как патриарх. В дела избрания нового предстоятеля ослабевшая власть уже не вмешивалась, позволив церкви полностью самостоятельно избрать нового предстоятеля. Летом 1990 г. им стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер; 1929—2008).
Вскоре после этого Советский Союз распался, и Русская православная церковь вступила в новую политическую жизнь, все сложности и противоречия которой учесть было невозможно. Прежде всего, церковь должна была выработать свое отношение к новым процессам, происходившим в России, научиться давать адекватную оценку социально-экономическим и политическим новациям власти. Стоявшая перед церковью задача требовала четкого позиционирования в системе демократической российской государственности. Это, в свою очередь, предполагало переосмысление как дореволюционного «симфонического», так и советского опыта государственно-церковных отношений. Не будет преувеличением сказать, что в течение первого постсоветского десятилетия православная церковь вырабатывала свое отношение к государству, пытаясь дать богословски аргументированный ответ. Итогом этой работы стало принятие Юбилейным архиерейским собором 2000 г. «Основ социальной концепции Русской православной церкви», о которых кратко говорилось в последней части книги.
Таким образом, можно сказать, что в последние годы российские церковно-государственные отношения претерпели сущностные изменения, — по сути, речь идет о новом их этапе. В течение последних восьми лет церковно-государственные отношения развивает и углубляет (в духе тезиса о «соработничестве») Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев; 1946), избранный главой РПЦ на Поместном соборе в январе 2009 г. Жизнь идет вперед, многое в церковно-государственных отношениях меняется, но вопрос, сумеет ли церковное сознание перебороть многовековой «государственнический соблазн», и если сумеет, то как, до сей поры остается актуальным, не имеющим окончательного ответа. Традиции «симфонии», как бы к ним не относиться, не могут быть «преодолены» конституционной формулой об отделении религиозных объединений от государства. Это вопрос не только юридический, но и психологический, что следует помнить всегда, когда речь заходит о положении Русской православной церкви в современном Российском государстве, заявляющем о своей «светскости».
Вопросы и задания
- 1. Попытайтесь ответить на вопрос, почему принятие христианства самым существенным образом повлияло на государственное развитие Руси, насколько влияние Византии оказалось принципиальным моментом в истории формирования «симфонических отношений» церкви и государства.
- 2. Назовите основные этапы церковно-государственных отношений в нашей стране.
- 3. Расскажите, в чем вы видите проблему «священства» и «царства» в эпоху становления и развития патриаршества в России.
- 4. Охарактеризуйте церковно-государственные отношения в СССР XX в.
- 5. Расскажите об изменении церковно-государственных отношений в современной России. В чем вы видите причину их изменений?
- [1] Сама «симфония» представлена в древнеславянской Кормчей книге XII в. — сборнике церковных и светских законов, являвшихся руководством при управлении церковью и в церковном суде, и дважды в Стоглаве — сборнике решений Собора 1551 г.
- [2] * Дела других религиозных конфессий и деноминаций курировал Совет по деламрелигиозных культов. В дальнейшем произошло преобразование и возник единый Советпо делам религий при Совете Министров СССР.