Гость как знамение Иного
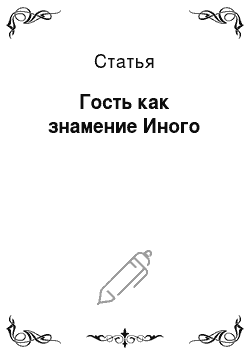
Благодаря подобной точности, прецизиозности жестов, слов вычерчивается поле гостеприимства, мифичность которого требует символического экзегезиса. Потому порой мы просто не распознаем символикомифического ландшафта, в котором рождается то или иное событие. Так, в соответствии с мифологическими представлениями, человек, оказавшийся на пороге дома, может быть Богом или посредником между богами… Читать ещё >
Гость как знамение Иного (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Гость как знамение Иного Ю. В. Ватолина, И. А. Кребель Представление о гостеприимстве столь привычно близко и расхоже, что попытка более или менее четко определить его порождает немалые сложности. С одной стороны, в качестве категорического императива гостеприимство обладает некой избыточностью по отношению к возможным определениям, заведомо относительным, а с другой — гостеприимство все время соседствует с негостеприимством, рискуя обернуться собственной противоположностью.
Гостеприимство — это особый тип этоса, который, хотя и сцепляется, пересекается с иными типами социального опыта, все же от них отличен. Особенно сегодня невозможно до конца размежевать гостеприимство и социальный этос как таковой: феномен гостеприимства размывается разного рода «культурными», «социальными», «экономическими» практиками, блекнет и теряет определенность под тяжестью и непрозрачностью исторических седиментаций и трансформаций. Однако аналитика понуждает принять к сведению, что так было не всегда.
Существовало гостеприимство в «старых» сакральных мирах как символически конфигурированная открытость к «иному», имели место и практики гостеприимства, определяемые, различаемые и объединяемые по конфессиональному признаку — признаку очень важному, во многих отношениях решающему, но все же лежащему вне собственно феноменальности гостеприимства. Границы гостеприимства не совпадают с границами вероисповеданий, подпадая под определение чего-то совершенно иного, что требует тщательной тематической и концептуальной экспликации.
Идея взглянуть на явления гостеприимства как на практики встречи и принятия иного, вовсе не чуждая ни язычеству, ни христианству, была неизбежной по двум причинам. Во-первых, она мотивировалась представлением о гетерогенности мира, во-вторых, попадала в контекст представлений о сакрально-всепроникающей связанности этой гетерогенности. Именно в точке пересечения этих двух измерений и начинает звучать смысл гостеприимства, раскрывая онтологическую чистоту феномена, демонстрируя его «основания», «начала», «arkhe». Лишь благодаря этим основаниям гостеприимство предстает таковым, т. е. «самостоятельным» феноменом.
По всей видимости, «arkhe» гостеприимства следует искать в мирах архаичных, традиционных, отмечая специфику которых, М. Элиаде пишет, что «человек традиционных обществ — это, разумеется, homo religiosus, но его поведение вписывается в универсальную схему поведения человека, а следовательно, представляет интерес для философской антропологии, феноменологии и психологии» [12, с. 19]. Однако следует отметить, что «homo religiosus» не был и не мог быть «обитателем» архаических миров, потому что, как указывают многие исследователи, эти миры просто не имели представления о религии как о некоем институте, существующем отдельно от политики, экономики и т. п. Скорее это были сообщества, проникнутые сакральным, которое пропитывало все страты и социальных, и жизненных миров.
Эта пронизанность сакральным придает совершенно внятное своеобразие архаическим сообществам. Если говорить о наиболее общих их контурах, следует отметить, что, во-первых, традиционное сообщество предполагает сакрально-мифические формы консолидации, солидарности, выстраивается на них, облекаясь в символические оболочки и тем самым утверждая и даже возвышая здесь — бытие через бытие-с-другими и в его обращенности к иному. В то же время архаические сообщества — это образования с жесткой и отчетливой внутренней дифференциацией.
Во-вторых, любое сообщество связано с практиками включения и исключения, различения «своих» и «чужих», с определенностью «встреч» с «чужим», опытом его опознания, признания и принятия или отторжения. Естественно, это предполагает существование определенных критериев, функционирующих в качестве своеобразных фильтров, благодаря чему различение «свои-чужие» учреждается в достаточно ясной и явной форме. Архаические миры несут в себе и отчетливое ощущение присутствия инстанции «чужого», и жестко выверенные техники контактности с «чужим»: это и «техника безопасности» при встрече с «чужим», и в то же время «техника его приема». Именно в такой двойственности и складываются «техники» гостеприимства.
Все это отнюдь не означает, что «техники» гостеприимства, хотя бы и в самом средоточии сакрально-символической размерности, обращались в формальные «технологии». Предполагать это было бы в высшей степени нереалистично, ибо сколь угодно «технизированное» гостеприимство, редуцированное пусть даже до пустой этикетности, остается «техникой» различения, процедурностью установления различий. Но в архаическом сообществе сакрально-символические способы выявления и установления «ликов», «различий» покоятся в самом его существе. Эти способы мифичны по своей сути, если принять предложенное А. Ф. Лосевым истолкование «мифа», т. е. понимать его как особым образом структурированную действительность, конститутивным ядром которой оказывается «личностность». Или, другими словами, можно понимать миф как «энергийное самоутверждение личности» [10, с. 484]. В контексте мира, пронизанного мифичностью, экзистенциальный смысл гостеприимства состоит не просто в ощущении чужого, иного вообще, но, в первую очередь — в ощущении скрепы «миров». Это связано с тем, что сакрально-мифическая тотальность, включающая в себя «мир», предполагает не только различение сущих, богов и т. д., но и их связь, основанную на «генетическом» (сакральном, онтологическом) родстве.
Мифизм архаических социаций неизбежно предполагает сакральность бытия-с-другими, чужими, сакральность гостя и самого гостеприимства. Гостеприимство в традиционных мирах является солидаризирующим фактором и вместе с тем обладает чрезвычайной трансцендирующей значимостью. Оно не только служит регулятором отношений между людьми, но и позволяет строго и четко строить взаимоотношения с представителями иных миров: с богами, духами предков, природными стихиями и болезнями, воспринимаемыми как антропоморфные существа, с животными [1, с. 124]. Показательна в этом плане та взыскательность, с которой осуществляется контроль за соблюдением законов гостеприимства обычным правом; в Осетии, например, за их нарушение сбрасывали в реку с высокого обрыва со связанными руками и ногами [1, с. 115].
Таким образом, мифичность гостеприимства оказывается не только и не столько проявлением вовне мифического мышления, но именно структурированной особым образом экзистенциальной действительностью. Или, как подчеркивает А. Ф. Лосев, «миф /…/ - трансцендентально-необходимая категория мысли и жизни» [10, с. 397].
Однако миф в жизни далеко не рутинен, не повседневен — он выводит человека за пределы повседневности, простой данности мира, открывая необъяснимую, но очевидную его предданность и непредсказуемую заданность «инаковости» благодаря своему символизму. Слитность мифизма и символизма как «действия и действенной силы» предполагает невероятную точность и строгость, выверенность топосов, строгое темперирование, прецизиозные практики сборки тел, жесткую настройку экзистенциальных стратегий, ответственного и точного обращения с семиотическими практиками: это становится особенно очевидно в отношении полей и практик, связующих гетерогенные по своей сути топосы и «миры». Так, в своде клановых обычаев албанцев «Кануне», например, весь ритуал приема гостя зафиксирован до предела скрупулезно: «Канун» предопределяет все жесты и действия гостя и в еще большей мере — хозяина дома: он предписывает, как объявить себя гостю; как поздороваться с ним хозяину и куда повесить его оружие; какое место в доме должен занять гость и т. д. и т. п.
Благодаря подобной точности, прецизиозности жестов, слов вычерчивается поле гостеприимства, мифичность которого требует символического экзегезиса. Потому порой мы просто не распознаем символикомифического ландшафта, в котором рождается то или иное событие. Так, в соответствии с мифологическими представлениями, человек, оказавшийся на пороге дома, может быть Богом или посредником между богами и людьми, и оттого столь жизненно важно распознать суть гостя. Отсюда ясно, почему мотив Бога-гостя, посещающего людей, распространен в греческой мифологии, встречается в ведийских текстах; его происхождение относится исследователями к общеиндоевропейской эпохе [6, с. 305]. Позже христианство дает нравственно-религиозную санкцию архаическому институту: во многих европейских странах получает распространение поверье, что Господь Иисус Христос со своими апостолами и святые ходили по земле, переодевшись в лохмотья, и испытывали людское милосердие. И в этом продолжает жить сюжет интенсивного онтического сопряжения, сцепления миров, проявления связующей их «скрепы».
Р. Кайуа, правда, исходя из иудейско-христианской традиции жесткого рассечения действительности на сакральное и профанное, проясняет природу «сакрального» и отношение к наделенному сакральностью гостю. В соответствии с его концепцией сакральное может быть описано лишь через соотнесение с профанным. Профанный мир освоен человеком, упорядочен им, для него безопасен. За пределами этого мира простирается область сакрального, которое дает жизнь, приносит силу, дарует удачу, но и таит в себе угрозу: «Они оба [два таких рода вещей, как сакральное и профанное. — Ю. В., И. К.] необходимы для развития жизни: одно — как среда, в которой она разворачивается, а другое — как неисчерпаемый источник, который ее творит, поддерживает, обновляет». Вызывает к жизни не просто пестрый, бессвязный бриколаж происшествий, слов, жестов, поступков и т. п., но, напротив, превращает жизнь человека в связанный ряд событий — в «историю». Или история человеческого существа обретает в этом контексте новое звучание как история его бытия-с-другими, в «мире». Всё в мифическом мире, да и сам «мир», является как Ты: он требует общения, понимания, заботы, осторожности, разворачивая «мощное эмотивное поле», которое выступает структурирующим и связующим началом феномена гостеприимства. К этому можно добавить и слова А. Ф. Лосева: «В основе мифа лежит аффективный корень» [10, с. 398], — он и обеспечивает восприятие, чувствование «мира» и себя в нем. В то же время символизм проводит точную и тонкую настройку опыта аффицирования, налагая обязательства проведения и удерживания отчетливых различий, и особенно — различения «своего» и «чужого». Во многом это связано с тем, что синкретический мифизм приводит к отсутствию каких-либо непроходимых границ между сакральным и профанным; фактически само подобное различение в архаических мирах является просто неуместным. В этом смысле и мир человеческий, и мир богов, и мир социентальный действительно сливаются, сплавляются в символическом, которое конституирует поля видения и артикуляции, предлагая весьма специфические техники доступа к своим архивам, благодаря чему складывается многомерное видение и себя, и мира, и иного.
В принципе это и есть логика мифа, фундаментальным принципом которой оказывается принцип связанности, «комплексности». В своей динамичности эта логика близка к логике карнавала [4], предполагающего онтологическую смену ликов, но потому требующего преображения, трансфигурации, за которыми стоят строгие обряды инициации. В архаическом обществе приему гостя не предшествует какое-либо морально-этическое, оценочное определение; любые предшествующие представления гостеприимцев о посетителе, если таковые и имели место, перекрываются его актуальным статусом — «гость». В соответствии с представлениями древних проявление «другого-чужого» по адресу хозяев предстает как обусловленное в той или иной мере их настроем и действиями; тактики поведения гостя и хозяина соотнесены и предопределяют друг друга, что, в сущности, предзадано символическим характером встречи.
Логика мифа многозначна, что ни в коей мере не отменяет требования высокой степени точности различения смыслов. Так, Р. Жирар пишет, что «жертвенный кризис, то есть утрата жертвоприношения, — это утрата различия между нечистым и очистительным насилием. Когда это различие утрачено, то очищение становится невозможно и в общине распространяется нечистое, заразное, то есть взаимное, насилие. …Жертвенный кризис следует определять как кризис различий, то есть кризис всего культурного порядка в целом. Ведь культурный порядок — не что иное, как упорядоченная система различий; именно присутствие дифференциальных интервалов позволяет индивидам обрести собственную „идентичность“ и расположиться относительно друг друга» [5, с. 64]. Именно это — «слепое насилие» или попытка учреждения квазидифференциаций — то, с чем мы имеем дело в современном демистифицированном, «расколдованном» (М. Вебер) мире.
Вполне естественно, что гостеприимство с прагматической точки зрения здравого смысла предстает весьма парадоксальным явлением. С одной стороны, оно требует зачастую немалых экзистенциальных, временных и материальных затрат со стороны хозяев — затрат, которые просто никоим образом не вписываются в «экономическую расходность» повседневности и, более того, наносят существенные уроны ее функционированию, с другой — подобные затраты обладают особой неизбывностью и необходимостью, пусть даже в ущерб «нормальному» повседневному существованию. Дело в том, что гостеприимство — это действительно своего рода «конволют» в поле и социальных, и жизненных миров, рождающийся благодаря их сакрально-символическим оболочкам. В этом смысле гостеприимство обнаруживает глубинную общность с жертвоприношением и даром. Об общности этих обрядов красноречиво свидетельствует историко-этнографический материал и факты из области исторического языкознания. Так, обязательным элементом в структуре ритуала гостеприимства является угощение. Общность угощения гостя, трапезы вообще и жертвоприношения просматривается через этимологическую связь слов «жратва» и «жертва»; в наиболее ранней форме жертвоприношение буквально представляет собой кормление сверхъестественных сил [1, с. 139]. В связи с вопросом об идентификации гостеприимства как ритуала подношения, жертования стоит упомянуть и то, что у многих народов обмен подарками был элементом приема гостя столь же обязательным, как угощение. Жертвоприношение, таким образом, оказывается в самой сердцевине сакрально-практического смысла обряда гостеприимства.
В теории сакрального Р. Кайуа обряды, регулирующие взаимоотношения профанного и сакрального, подразделяются на две группы: одни из них направлены на поддержание неслиянного существования сакральной и профанной сфер; другие, напротив, обеспечивают сообщение между ними, удерживая при этом различия между этими «мирами». Обряды подношения позволяют устанавливать связь между сакральным и профанным мирами: принося жертву сакральным силам, индивид стремится определенным образом задать отношения с ними: вменить им в долг благорасположение. Таким образом, Р. Кайуа делает акцент не на различиях, учреждаемых в логике мифа и подкрепляемых ритуалами и обрядами, в частности, гостеприимством, а на связывании миров.
Иной, чем Р. Кайуа, взгляд на обряд жертвоприношения представляет Ж. Батай. Человек традиционных миров жил не в «окружающей среде» — он жил во Вселенной, и этот «неискушенный человек не был чужим во Вселенной. Каким бы страшным ни было для него столкновение с ней, он смотрел на открывающееся ему зрелище как на праздник, куда он приглашен. Он видел ее славу и считал себя призванным ответить на ее вызов, также покрыв себя славой» [2, с. 243].
В «Теории религии» Батай утверждает, что в этом празднике жертвоприношение осуществляется ради возвращения к связанности миров «Вселенной», где имеют место отчетливые различия и не менее отчетливые формы их сцепления. Жертва для этого исторгается из «мира пользы», как отделяет себя от мира вещей и сам жрец [3, с. 68]. Таким образом, посредством траты, истребления в вещах содержания, внеположного их сокровенной природе, осуществляется восстановление утраченной вселенской непрерывности.
Сказанное о жертвоприношении и даре в полной мере касается и гостеприимства. П. Ларделье, определяя гостеприимство как форму дарообмена, в то же время подчеркивает его ассиметричность и противопоставляет обмену, основанному на «логике контрактов» [9, с. 67].
Прежде всего, прием гостей — это празднество, которое собирает людей вместе и в котором «сообщество полагается не просто как объект, а шире, как дух (как субъект-объект)» [3, с. 75].
Формирование этой первообщности людей, основанной на сопричастности, предполагает раскрытие автономного существования для «другого-чужого».
Впуская «чужого» в свой Дом, податель гостеприимства идет, в той или иной мере, на разрушение установленного в нем порядка. В то же время положение гостя в деконструированном пространстве/времени приема, его целостное, отдельное индивидное существование подвергается риску. Например, в Москве в XVI в. посольские обряды длились по пять-шесть часов, нередко затягивались до самой ночи, и гостям на протяжении всего этого времени было непозволительно выходить из-за стола [1, с. 121].
«Пассивность, неподвижность гостя соответствуют его высокому статусу. Некоторые испытываемые им неприятности возникают из-за несоответствия сакральному статусу реальной человеческой природы» [1, с. 121].
Исходя из сказанного, жертва представляется, прежде всего, техникой провокации иерофании: отдавая свое сокровенное, в пределе, фактически самого себя, «Я» ждет знамения принятия или отторжения дара, и это оказывается явленностью, манифестацией мира иного по отношению к «Я»; открываются также и скрепы, связующие «наши миры» и «миры иные».
Если вернуться к феномену гостеприимства, то жертвенность вего структуре позволяет ощутить через гостя присутствие и иного «мира», откуда он пришел, и связующие миры символико-онтологические узы.
Таким образом, гость в архаических мирах выступает как знамение Иного, выступающего в сакрально-символических оболочках.
гостеприимство обряд жертвоприношение мифизм
1. Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. — Л., 1990.
2. Батай Ж. Границы полезного. Отрывки из неоконченного варианта «Проклятой части» // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология: пер. с франц. / сост. С. Н. Зенкин. — М.: Ладомир, 2006. — С. 237−309.
3. Батай Ж. Теория религии // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология: пер. с франц. / сост. С. Н. Зенкин. — М.: Ладомир, 2006. — С. 52 105.
4. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1990.
5. Жирар Р. Насилие и священное / пер. с франц. — М.: Новое лит. обозрение, 2000.
6. Иванов Вяч. Вс. Разыскания в области анатолийского языкознания // Этимология. — М., 1971.
7. Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / пер. с франц. и вступ. ст. С. Зенкина. — М.: ОГИ, 2003.
8. Канун — обычное право Северной Албании // Памятники обычного права албанцев османского времени / сост. и ред. Ю. В. Ивановой. — М.: Ленад, 2010.
9. Ларделье П. Принимать друзей, отдавать визиты. (Ритуалы гостеприимства в перспективе Мосса) // Традиционные и современные модели гостеприимства: Материалы рос.-франц. конф. 7−8 окт. 2002 г. — М.: РГГУ, 2004. С. 55−69.
10. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990.