Второй этап: лингвистический, или культурный, национализм (1870-1918)
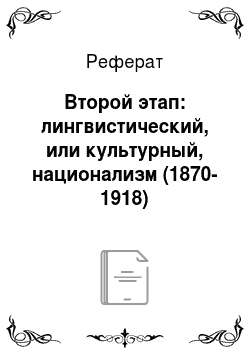
Кроме того, «индустриализация Японии… не сопровождалась движением к буржуазным представлениям и либеральным институтам. Техническая цивилизация была внедрена в рамки иерархического общества, где власть исходила сверху, где военная аристократия занимала первое место… и высшие ценности общества были ценностями знати», поэтому основными моделями для японской олигархии стали самопатурализирующиеся… Читать ещё >
Второй этап: лингвистический, или культурный, национализм (1870-1918) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В эту историческую эпоху национальные движения в Европе вступили в качественно новую фазу: изменился их социальный состав, методы борьбы, приемы политической мобилизации; национализм стал более агрессивным и нетерпимым по отношению к чужакам. Перемена была столь разительной, что польский историк М. Яновский даже предлагает различать два типа национальной мысли: но его мнению, «национальная идея XIX в. и национализм начала XX в. — это не два варианта одного и того же течения (разве что в очень широком смысле, поскольку и то, и другое — современные политические концепции). Доктрину, трактующую нацию как ценность, подчиненную другим, более универсальным, не следует путать с теориями, абсолютизирующими нацию и национальную идентичность»[1].
Национализм этой эпохи, по мнению Э. Хобсбаума, отличался от национализма эпохи Мадзини в трех основных пунктах.
Национализм отбросил «принцип порога» (принцип разумной достаточности и деления народов на «исторические и не исторические» — Г. В. Ф. Гегель), являвшийся ключевым для национализма либеральной эпохи. С этого времени любая народность, которая считала себя «нацией», могла добиваться права на самоопределение, вплоть до создания собственного государства.
1. Все более важным, решающим (и даже единственным) критерием национальной государственности становились этническая принадлежность и язык (смотри формулу венгерского политика середины XIX в. графа Иштвана Сечени: «Нация живет в своем языке»). Как пишет Т. Нейрн, «новая националистическая интеллигенция среднего класса должна была пригласить массы в историю; и это приглашение должно было быть написано на языке, который они понимали»[2]. Исключение — пационализмы государств обеих Америк.
Так, самоидентификация нации в Германском рейхе, возникшем в результате Франко-прусской войны 1870—1871 гг., «колебалась между понятиями государственной и этнической нации. Исходя из этнической структуры населения Германского рейха, формирование нации, казалось бы, должно было происходить в сторону государственной нации. Но этому препятствовали политика, проводимая правительством рейха в отношении национальностей, и поведение национальных меньшинств. Установка на образование этнически гомогенной нации была для этого государства нереалистична ввиду его территориальных границ и взятого за основу самоограничения в пределах „Малой Германии“[3]. То обстоятельство, что националистические силы, тем не менее, взяли ее на вооружение, имело роковые последствия для будущего»[4], — отмечает немецкий исследователь О. Данн.
2. Был и третий симптом перемен, который затронул не только негосударственные национальные движения (становившиеся теперь все более многочисленными и амбициозными), но и национальные чувства внутри уже существующих наций — государств, а именно резкий политический сдвиг вправо, «к нации и флагу», для описания которого, собственно, и был придуман в последние десятилетия XIX в. термин «национализм»[5].
Во-первых, «по мере того как расширение принималось за естественный закон государств, национализм легко стал скатываться к империализму, и идеология, как оказалось, начала обслуживать волю к могуществу»[6]. Во-вторых, новый национализм, олицетворением которого, но Франции становятся М. Баррас и III. Моррас, в Германии — К. Люгср и Г. фон Шснсрср, в Италии — Э. Коралини и Дж. Панини, в Испании — М. Мендоса-и-Пелайо и Рамиро де Маэстру, в конце XIX в. открыто восстает против духа Великой французской революции. Разница между Коррадини и Мадзини есть дистанция между национализмом якобинским и национализмом «земли и смерти». Эта формула Барраса — не что иное, как французская версия немецкой «почвы и крови», и она означает, что старая либеральная теория общества, понимаемого как агрегат ипдивидумов, освященная Французской революцией, отныне заменена теорией органической солидарности нации. В этом смысле система воззрений, разработанная поколением французских националистов 1890-х гг., нисколько не отличается от системы, разработанной в это же время на другом берегу Рейна. Тем самым можно говорить о рождении общеевропейского феномена. Этот «тотальный» национализм имеет свою этику, ансамбль критериев, определяемых интересами всего коллектива независимо от воли индивидума. Он отрицает всякие нормы универсальной морали: справедливость и право обслуживает только нужды коллектива[7].
Французские интеллектуалы одними из первых осознали, что «национальное» движение не может быть таковым, если оно не осуществляет интеграцию самых обездоленных слоев общества. Одновременно оно не может быть либеральным и пролетарским. Марксизм и либерализм всегда были не чем иным, как движениями гражданской войны: войны классов или войны «всех против всех». Именно поэтому во Франции появляется в конце XIX в. новый идейный синтез — национальный социализм, и М. Баррас — среди первых, если не первый, кто ввел в оборот сочетание «националистический социализм» .
Эта идея очень быстро распространяется, но Европе. Она призвана дать ответ на важнейшие проблемы эпохи, такие как рост численности и классовой сплоченности пролетариата, социальнополитические следствия индустриальной революции и др. Очень быстро идеологи «нового» национализма осознают, что социальный вопрос не может быть эффективно решен в условиях «капитализма свободной конкуренции» или марксистского социализма с его классовой борьбой. Найденное ими решение основано на идее: «Служение Нации» требует мира между пролетариатом и остальными социальными классами.
В Италии Э. Коррадини, как и Баррас, стремится оживить то, что он называет «фундаментальным пактом семейной солидарности между всеми классами итальянского общества» В 1910 г. он тоже использует выражение «национальный социализм» и формулирует цели социалистического национального движения.
Именно в этот исторический период во многих европейских странах появляется «организованный национализм» (или, по терминологии X. Арендт, «пандвижение»), представляющий собой инспирированное правыми интеллектуалами движение за великодержавное развитие национальных государств.
В Германском рейхе и в Австро-Венгерской империи организованный национализм был представлен прежде всего антисемитскими партиями («Германское антисемитское объединение», 1886; «Немецко-национальная партия» Г. фон Шснсрера; «Христианскосоциальная партия» К. Люгера и др.) и пангерманскими объединениями «покровительства немцам», официально провозглашавшими своей целью поддержку немецкоязычных меньшинств в других странах («Союз в поддержку немцев за границей», «Всенемецкий/ Пангерманский союз» и др.). Данные организации первоначально не были массовыми, но они задавали тон в распространении националистического великодержавного мышления в массах, получая одновременно все большую поддержку со стороны господствующих слоев. В частности, в программе «Пангерманского союза» было заявлено, что его целью является «национальное объединение всей совокупности немецкого народа Центральной Европы, т. е. в конечном счете — создание Великой Германии»[8].
Для уяснения политических притязаний пангерманцев показательна книга депутата германского рейхстага Ф. Наумана «Срединная Европа», появившаяся в 1916 г. Политическая карта Европы после победы Германии в войне должна, по мнению автора, выглядеть следующим образом. Австро-Венгрия вольется в состав Германской империи. Возникшая в результате этого слияния сверхдержава станет ядром еще большей Среднеевропейской федерации. Поскольку жизнеспособная Срединная Европа «нуждается в соседних аграрных областях», она «должна сделать желательным и возможным их присоединение. Она нуждается также в расширении своего северного и южного морских побережий и в своей доле участия в заморских колониальных владениях». Колониальные притязания пангерманцев предусматривали расширение владений и создание компактной германской Черной Африки, установление германской опеки над Магрибом, завоевание прочных позиций на Ближнем и Среднем Востоке и решающее участие в продолжающемся разделе китайских территорий[9].
Инструментом распространения националистических идей в Германии стало массовое и чрезвычайно пестрое фелькиш-движение. Как писал в 1904 г. Эрнст Гункель, все эти «реформаторы аграрных порядков: реформаторы искусства, социума и экономики, все почитатели Бисмарка, Вагнера, Гобино и Чемберлена, все друзья немецкого флота и враги Римского Папы, все антисемиты, защитники родины, очистители языка, поборники древних обрядов, сторонники трезвости, народные воспитатели и как там они еще называются» — все они имели общую конечную цель (Endziel), а именно расовое и религиозное «возрождение немецкого народа», и перед лицом этой конечной цели все они соединялись воедино[10].
Во Франции времен Третьей республики новый организованный национализм возникает после Франко-прусской войны и получает массовую поддержку, выдвигая требования возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии. После «Лиги патриотов» (1882), первой взявшей на вооружение идею реванша, и после массового движения генерала Буланже, паразитировавшего на тех же проблемах, национализм достиг во Франции своего апогея в 1890-е гг. в связи с делом Дрейфуса[11]. Па этой волне и появляется постоянная националистическая организация «Аксьен Франсэз», созданная правым публицистом Шарлем Моррасом. Краеугольным камнем политической программы этой организации стал так называемый интегральный национализм. Суть его сводилась к тому, что режим парламентской республики раскалывает народ на враждебные политические партии, морально ослабляет страну перед лицом ее наследственного врага — Германии, чем исключает победоносный реванш за поражение 1870 г. «Аксьён Франсэз» объединила противников идеалов и институтов, порожденных Великой французской революцией: противников демократии и парламентаризма, антилибералов и монархистов. Здесь сильнее даже чем в Германии была выражена ее антисемитская направленность.
В Италии распространение националистической идеологии особенно усилилось в 1908 г. после аннексии Австро-Венгией Боснии и Герцоговины. Это стало мощным толчком к созданию на Флорентийском совещании в 1910 г. «Итальянской национальной ассоциации», которая провозгласила своей целью, с одной стороны, объединение сил для борьбы против социалистического рабочего движения, а с другой — требовала проведения экспансионистской великодержавной политики путем присоединения к Италии ряда сопредельных территорий и превращения Адриатического моря (наше море).
По мнению X. Арендт, такого рода «пандвижения» создали идеологические системы, сделавшие возможной массовую этническую мобилизацию после Первой мировой войны. «Трайбализм пандвижений с его идеей „божественного происхождения“ одного народа обязан частью своей большой привлекательности презрению к либеральному индивидуализму, идеалу человечества и достоинству человека, — писала исследовательница. — От человеческого достоинства ничего не остается, если ценность индивида зависит только от случайного факта рождения немцем или русским; но вместо этого новая связь — чувство взаимоподдержки среди всех сочленов одного народа, которое и в самом деле способно смягчить обоснованные страхи современных людей относительно того, что могло с ними случиться, если бы при существующей изоляции индивидумов в атомизированном обществе они не были бы защищенными просто своей численностью и сильными единообразной общей спайкой»[12].
В данном случае речь, конечно же, идет о доминирующих тенденциях в эволюции национализма в Европе. Поскольку и в конце XIX в. либеральные мыслители и политики в основном сохраняли приверженность принципу разумной достаточности, даже во время Первой мировой войны, когда право народов на самоопределение было положено в основу мирного урегулирования (причем предполагалось не только их объединение, по и отделение), «принцип порога» не был отброшен окончательно.
Однако именно в этот исторический период получает широкую популярность расовая теория. Жозеф Артюр дс Гобино (1816— 1882) пишет в 1855 г. свое «Эссе о неравенстве человеческих рас», и многие мыслители и политические деятели второй половины XIX в. активно используют это понятие и его идеи. У расистов романтическое понятие «национального организма», трактуемое романтиками как духовная общность, истолковывается биологически. Они верили, что биологические различия суть источник социокультурных различий. У расистов особая духовность того или иного народа вырастала уже на почве расы и была всего лишь ее функцией. Отныне человечество разделялось на расово полноценные и расово неполноценные народы и экземпляры, и принадлежность к высшей расе детерминировала и духовное превосходство. Появляется множество иерархически построенных классификаций рас. Гюстав Лебоп в своей книге «Психологические основы эволюции народов» пишет о четырех расах: примитивных (пигмеи, австралийские аборигены), низших (темнокожие), средних (китайцы, монголы, семиты) и высших (индоевропейцы).
Расизм, согласно мнению выдающегося французского антрополога Клода Леви-Стросса, — «это достаточно четкая доктрина, которую можно резюмировать в четырех пунктах. Первый: существует связь генотипа с умственными способностями и моральными качествами. Второй: этот генотип, от которого зависят данные способности и качества, является общим для всех членов определенных групп людей. Третий: эти группы, называющиеся расами, могут находиться в определенной иерархии, в зависимости от качеств конкретного генотипа. Четвертый: эти различия дают право так называемым высшим расам эксплуатировать, а в известных случаях и уничтожать остальные расы. Эта теория и практика несостоятельны по многим причинам»[13]. И прежде всего потому, что раса — это не биологический факт, а социальный конструкт. Суть расизма — в «натурализации различий», «в интерпретации различий (социальных, культурных, психологических, политико-экономических) в качестве естественных, а также в закреплении связи между различием и господством. Различия, сложившиеся в ходе социальной интеракции, обусловленные множеством технологических, исторических, военно-политических, т. е. в конечном итоге случайных факторов, истолковываются расизмом как нечто само собой разумеющееся, природой или Богом данное, как необходимость. Расизм сначала интерпретирует различия как „естественные“, а затем увязывает их с существующими отношениями господства. Группы, стоящие выше других в социальной иерархии, стоят там, но „естественному“ нраву превосходства»[14]. Таким образом, социальное воспроизводство расы возможно только с помощью практик подчинения и угнетения.
В то же время было бы в высшей степени неверно и антиисторично считать всех тех, кто в XIX в. использовал термин «раса», закоренелыми расистами. О расах рассуждал и демократ Ж. Мишле, и социалист Ж. Жорес. К расовой теории в эту историческую эпоху чрезмерно часто прибегали и ученые мужи, и идеологи, и политики.
Кроме того, через весь XIX в., по словам Армина Молера, проходят два варианта теорий рас — «зоологический и квази-теософско-спиритуалистический, которые, впрочем, переплетаются между собой очень тесно, вплоть до полной неразличимости»[15].
Так, в отличие от Ж. А. Гобино, который видел в расах биологические константы, X. С. Чемберлен, которого считают убежденным расистом и даже идейным предтечей национал-социализма, рассматривает их как нечто исторически сложившееся. Именно поэтому наиболее благородные расы — и прежде всего германская — в его глазах являются смешанными. В конце концов, Чемберлен настолько широко толкует понятие «германцы», что к ним оказываются причисленными славяне и кельты, и даже предлагает крамольное для каждого «правоверного» расиста словосочетание «славяно-кельтогерманизм». (От «нордического мейстрима» отступает и А. Меллер ванн ден Брук, отмечая особую важность для немецкого народа «неизбежного германо-славянского смешения» .) X. С. Чемберлен подчеркивает, что смешение вело к обогащению жизни и выработке национальной индивидуальности, отмеченной особой витальностью. Но главный признак расы ему странным образом видится не столько в их физической, сколько в духовной конституции. Он даже полагает, что главное значение в этой связи вообще следует отдать моральному началу[16].
В то же время именно на идейной базе расизма («миссия белого человека») развивался во внешней политике восходящий английский, французский, бельгийский и другие империализмы, обоснованием которых занимались лорд Солсбери, Ч. Дилк, С. Родс, П. Леруа-Болье, Г. Аното и др. «Народ-колонизатор — это народ, закладывающий основы своего будущего величия и силы, — заявлял, в частности, французский публицист Леруа-Болье. — Для того чтобы оставаться великой нацией и достигнуть национального единства, народ должен быть колонизатором»[17].
В Великобритании сам факт владения империей, «в которой не заходит солнце», формировал имперское сознание, которое постепенно стало овладевать британцами, приобретая иногда оттенок веры в биологическое превосходство британской расы, откуда и вырос английский шовинизм (джингоизм), одним из «отцов» которого считается Р. Киплинг.
" Нация, которая не занимается колонизацией, бесповоротно обречена на социализм, войну богатства и бедности. Завоевание страны низшей расы высшей, которая там устраивается, чтобы ею управлять, не содержит ничего оскорбительного. Англия практикует этот вид колонизации в Индии с большой пользой для Индии, для человечества в целом и с пользой для себя. Как должны быть осуждены завоевания среди равных рас, так и возрождение низших или вырождающихся рас высшими расами есть порядок, ниспосланный человечеству провидением. Regere imperio populos — вот наше признание"[18], — писал по второй половине XIX в. Э. Ренан, обосновывая право европейских наций на независимость и суверенитет и одновременно право государств Европы на завоевание и колониальное господство на других континентах.
" Молодой Германский рейх нс мог остаться в стороне от этого процесса; как экономически процветающая страна он должен был отнестись к колониальной гонке как к вызову"[19], — отмечает О.Данн. «Нам следует понять, что объединение Германии оказалось просто ребяческой шалостью немецкой нации, которую она совершила на старости лет, и ей лучше не стоило затевать этого дорогостоящего дела, если его завершение не послужит началом выхода на арену мировой политики в качестве великой державы»[19]. Это часто цитируемое высказывание взято из вступительной лекции Макса Вебера в 1895 г., оно может служить иллюстрацией того, как «…империалистическое мышление завладело тогда умами молодой, современно мыслящей интеллигенции, увлечение этими идеями проникло даже в ряды социал-демократов»[19].
Во внутриполитической жизни, напротив, на передний план выходит идея, согласно которой буржуазия как класс, доказавший свою состоятельность и превосходство в дарвинистской борьбе за существование, имеет поэтому право господствовать над более слабыми и неполноценными. Сформировалась вера в биологическую детерминацию социальных процессов, находившая подтверждение в подзабытой теории народонаселения Т. Р. Мальтуса, согласно которой идущий по естественным законам прирост населения сопутствует неизбежному оскудению продовольственных ресурсов и угрожает существованию массовых трупп общества, проблема «избыточного населения» решается в ходе очередной войны, в результате которой восстанавливается баланс путем физического истребления «лишних ртов». Сформировалась доктрина социал-дарвинизма, представлявшая историю человечества как последовательность побед биологически более сильных и поражений более слабых рас. Политическая жизнь теперь представлялась как процесс борьбы за существования, в котором выживают самые приспособленные (В. Лапож, О. Аммон, Э. Геккель и др.).
Во многих случаях и противоречия, возникающие между национальными государствами, облекаются теперь в понятия, заимствованные из социал-дарвинизма, и интерпретируются как борьба народов за «место под солнцем», а так называемый sacra egoismo возводится в ранг принципа международной политики.
Наконец, получила развитие — в особенности в Германии — теория евгеники, т. е. поддержания чистоты расы и расовой гигиены и отбора (В. Шальмайр, Л. Плетц, Ф. Ленц).
Поскольку расизм был тесно связан с национализмом и следовал из национализма, то суждения о том, какая из наций лучше с расовой точки зрения, а какая хуже, колебалась в зависимости от национальной принадлежности самого автора. Так, известный французский правый публицист и политик Ш. Моррас негативно относился к теориям Гоби по потому, что для того белокурые феодалы-германцы представляли собой высшую расу в сравнении с потомками кельтов. Он в свою очередь противопоставляет «людей латинской расы» — «северным варварам» (варварами для него являются германцы). Превосходство первых, по его мнению, связано не только с культурным наследием, но и с тем существенным, что передается через кровь[22].
Однако все приверженцы расизма и социал-дарвинизма были практически едины в своем антисемитизме. Евреи не растворились ни в одной нации, а потому повсеместно отвергались как «чуждые». Любой европейский национализм, отмечает французский политический философ Э. Балибар, «видел в евреях (противоречиво считавшихся абсолютно не поддающимися ассимиляции и космополитичными, исконным народом и народом, лишенным корней) своего персонального врага и пре/щтавителя всех „наследственных врагов“. Это значит, что все эти национализмы определялись противопоставлением одной и той же фигуры отверженного, одного и того же „апатрида“[23], что стало неотъемлемой составляющей самой идеи Европы как родной земли „современных“ национальных государств, т. е. цивилизации»[24]. В связи с этим он приходит к выводу о том, что расизм (в форме антисемитизма) предстает как дополнение партикулярности иациоиализмов в качестве сверхнационализма[25].
Приведем также трактовку истоков современного антисемитизма, предложенную немецким исследователем Д. Клаузеном, который в частности пишет: «…С появлением понятия нации (как религиозного эрзаца) тема генетического превосходства вновь занимает центральное место. Вопрос о происхождении возвращает к аристократическому принципу и имеет прообразом модель „избранного народа“. Однако можно претендовать на исключительность только при условии „растворения“, ассимиляции или изгнания евреев (как избранного народа прошлого), живущих среди „нас“. Это источник распространения антисемитизма к концу XIX в.» .
Фашизм в XX столетии не добавил к этому «идейному арсеналу» практически ничего нового, а лишь воплотил появившиеся в XIX в. идеи в политическую действительность.
Примерно с середины XIX в. в Европе началось становление того, что X. Сетон-Уотсон называет «официальными нациопализмами», когда «Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы — что они англичане, Гогенцоллерны — что они немцы… До того как появились массовые языковые национализмы, эти национализмы были исторически невозможны, так как в основе своей они были реакциями властвующих групп — прежде всего династических и аристократических, хотя и ис только, — которым угрожало исключение из массовых воображаемых сообществ или внутренняя маргинализация в этих сообществах… Такие официальные национализмы были консервативной, если не сказать реакционной политикой, взятой в адаптированном виде из модели преимущественно спонтанных массовых пационализмов, которые им предшествовали… Они лучше всего понятны как средство совмещения натурализации (династий) с удержанием династической власти — в частности, над огромными многоязычными владениями, накопившимися со времен Средневековья…»[26].
Королевство Пьемонт-Сардиния первым показало пример того, как монархия может «национализироваться», активно включаясь в национальное движение, а Виктор Эммануил Сардинский стал первым представителем итальянского национального государства, национальным монархом нового образца. В Дании национальное движение охватило одно из древнейших полиэтнических государств и национализировало его также при активном участии правящей королевской династии. В свою очередь, австрийские Габсбурги «были во многом вынуждены заниматься построением сложного конгломерата национальных общностей, потому что у них не было ядра и собственного национализирующего проекта, он был отнят у них объединяющейся Германией, из которой Габсбурги были исключены. И в результате Габсбурги дали всем или почти всем этническим группам признание и языка, и статуса и проч.»[27], однако это не спасло «лоскутную империю» .
Таким образом, и Европе начался этап «национализации» династических государств. В результате «выживают монархии, идентифицирующие себя с народным национализмом; погибают же те, что остаются приверженными в большей мере традиционным ценностям, классовым и семейным интересам, нежели интересам и ценностям национальным»[28].
В России значительную роль в формулировании концепции «официального национализма» и в модернизации догмата официальной идеологии — принципа «народности» сыграл М. Н. Катков — ключевая фигура в истории русского национализма XIX в. (характерно, что побудительным мотивом для окончательного перехода с либеральных на националистические позиции для него стало польское национальное восстание 1863 г.).
В формуле графа С. Уварова «православие» и «самодержавие» явно доминировали над не вполне определенным по содержанию понятием «народность». М. П. Катков же его конкретизирует и тем самым усиливает роль в триаде. Народность трактуется не только как исторически сложившееся соответствие самодержавия обычаям и традициям русского народа, но и как прямая и открытая поддержка обществом верховной власти, признание органичности интересов власти и народа. Подлинный национализм, по Каткову, создает такое единство, при котором «власть и народ, правительство и общество, свобода и порядок» соединяются в нерушимый организм, но силе превосходящий «самое громадное развитие военной мощи». В итоге «в России государственную партию составляет весь русский парод». Проблему же многонациональное (многоплеменное) Российского государства Катков предлагает решить путем постепенной ассимиляции и русификации. Он убежден, что русский народ, создав свое государство и тем самым продемонстрировав свою неизменную силу объединения разнородных геополитических пространств и неукротимое желание служить государственным интересам, имеет полное право на то, «чтобы в пределах России не было ни эста, ни лива, ни шведа, ни немца и чтобы немец в империи, не разучиваясь своему языку и не изменяя своей веры, тем не менее звал себя прежде всего русским и дорожил этим званием»[29]. Таким образом, «русская идея» в интерпретации Каткова основывалась на признании, что «Россия может иметь одну государственную национальность». Но при этом понятие национальности имеет у него не этническое, а скорее, политическое содержание: это объединение различных культурных и этнических групп под эгидой самодержавно-авторитарного государства, т. е. это нация подданных, а не свободных граждан. Поэтому лозунг «Россия для русских» приобретает у Каткова не этническое содержание, а значение принципа верности и политической лояльности к общему для всех государству/династии, а не нации[30]. Как писал в 1990;е гг. известный российский мыслитель В. С. Библер, «народность (в формуле графа С. Уварова. — В. А.) позволяет рассматривать всех людей, все страты, все классы, все прослойки, все малые группы, живущие в этом обществе, как единый, один, многоголовый, а, но сути — одноголовый субъект — народ. Только народ как единое неразделимое целое может венчаться государственностью — силой единого народного действия… Народ — это почва государственного единства.
…Грани религиозность — народность — это грани державности, государственности как основы общественной жизни, как ее высшего синонима. В сочетании всех «углов» этого «треугольника» понятие общества сводится к понятию государства, подпираемого идеями народности и религиозности"[31].
Именно в такой интерпретации российские правительственные круги во второй половине XIX в. пытались задействовать данную политическую модель официального национализма — элитарной идеологии, внедряемой «сверху» в целях сохранения империи (Э. Пайн), в своих практических акциях для предотвращения социальных и политических конфликтов в российском обществе. Но вместе с тем, сделав ставку на охранительный характер русского официального национализма, российская правящая элита продолжала сохранять по отношению к нему определенную дистанцию, будучи уверенной, что традиционный имперский патриотизм не исчерпал своих потенциальных возможностей и еще достаточно глубоко укоренен в общественном сознании[32]. Как пишет А. Миллер, «империя Романовых не только использовала националистический дискурс, но и упорно сопротивлялась „национализации“ в течение большей части XIX в. Русский национализм в различных его версиях мог выступать союзником самодержавия и его противником»[33].
Во многом именно поэтому ассимиляционные тенденции в Российской империи, строившейся на принципе «единообразие — где возможно, многообразие — где необходимо» (Л. М. Салмин), проявлялись относительно слабо. Тем не менее чувство вины по отношению к «инородцам» было характерной чертой большинства представителей «прогрессивной» русской интеллигенции. Так, Владимир Соловьев критиковал политику российского самодержавия конца XIX в. по культурной гомогенизации и ассимиляции пародов империи, которые, по его мнению, должны оставаться «обособленными членами вселенского организма», и обличал чувство «племенной и религиозной вражды» как противное «духу христианства», ведущее к «нравственному одичанию» и потому опасное для будущности России[34].
Поэтому представляется явным преувеличением имеющее место в западной исследовательской литературе превращение слова «русификация» в общее понятие, с помощью которого описывается политика государств по культурной ассимиляции этнических меньшинств, в том числе насильственной (Ь. Андерсон и др.). Заметим, что к такого рода практикам прибегали все становящиеся национальными государства и чаще всего осуществляли ассимиляцию более последовательно и с большим напором, чем в Российской империи. Скажем, в республиканской Франции только в 1951 г. разрешили факультативно преподавать в школах патуа, т. е. местные нефранцузские наречия, до этого они находились под строжайшим запретом. Ничего подобного в императорской России не было. Так, здесь в 1863 г., после польского восстания, когда прибалтийским народам заменили латиницу на кириллицу, запрещали не язык, а алфавит. Однако даже это вызвало широкое недовольство, и данная мера была отменена. Ныне общая оценка большинства исследователей сводится к тому, что «политика Российской империи в отношении различных этнических групп по степени репрессивности не отличалась в худшую сторону от большинства империй того времени»[35].
Сегодня также понятней, чем ранее, какие факторы затрудняли «ассимиляторские усилия русского национализма»: слабость институтов, например армии, перешедшей от рекрутского набора к призыву лишь в 1870-х гг.; неразвитость системы образования, прежде всего начального; упорное нежелание династии переходить от традиционных механизмов легитимации власти (божественная санкция) к националистическим, что в принципе требовало введения конституции и представительных учреждений. Один из важнейших факторов слабости русского национализма — конфликт интеллигенции и власти. Причем вина за это взаимное отчуждение лежит на обеих сторонах. Как уже отмечалось, «национальная идентификация на массовом уровне не была доминирующей на протяжении практически всей истории Российской империи»[36]. Разделяя своих поданных на великороссов и инородцев, не отделив православия от государства, империя даже не создала светской системы обязательного начального образования на русском языке па всей территории, даже русское почти поголовно неграмотное население продолжало делить себя на «пскопских», «калужских» и «тутошних». Народы России продолжали жить наособицу. В этих условиях о формировании российской (политической) нации-согражданства не могло быть и речи.
Тем не менее реакцией на русский национализм и непоследовательные попытки проведения имперской властью политики русификации стало возникновение этнических национализмов на окраинах Российской империи. Русский национализм в мультиэтнической империи объективно имеет антиимнерский характер, «ибо, стремясь к „национализации“ империи, он ускоряет процессы становления других национализмов и подрывает традиционную лояльность к имперской власти. В Российской империи немцы, финны, латыши, армяне и т. д. могли быть лояльны к империи Романовых (немцев по крови), но они не могли быть лояльны к государству, которое объявило бы себя империей русских. Но (русский) национализм в какой-то мере подрывает и русскую лояльность империи, ибо из традиционалистски безусловной объективно превращает ее в обусловленную национальным характером имперского государства». Имперская власть сознавала это, поэтому «она стремилась ограничить русский национализм, хотя в ситуации, когда традиционная легитимность подвергалась эрозии и требовался поиска новых идеологических опор, перехватывала его лозунги. Л в трудную минуту использовала его (1906—1916)… Русский национализм начала XX в. при всем его монархизме, при всей его ненависти к либералам и революционерам был одной из идейных сил, подрывавших империю»[37].
В свою очередь «окраинные национализмы» также стали одним из ферментов той смеси причин, которые разрушили Империю в 1917 г.
Распространение официального национализма не ограничилось Европой. «От имени империализма очень похожая политика проводилась такими же по типу группами па огромных азиатских и африканских территориях, находившихся в течение XIX в. в порабощении. В конце концов, войдя в специфически преломленном виде в не европейские культуры и истории, она была воспринята и сымитирована коренными правящими группами в тех немногочисленных зонах (в том числе в Японии и Сиаме), которые избежали прямого порабощения»[38].
Когда во второй половине XIX в. «японцы вынуждены были признать, что им приходится выбирать не между изоляцией и связями с внешним миром, а между независимостью и подчинением унизительному протекторату, разразилась революция, инициатором которой была часть правящего класса… При этом… у Запада Япония заимствовала не только принцип всеобщего образования, машины, воинскую повинность, парламент, правовую систему, приспособленную к промышленной эре, она у него также заимствовала волю к обладанию силой, идею о том, что расширение — закон развития государства и доказательство их величия»[39]. Поэтому японский национализм с самого начала принял агрессивный империалистический характер, в том числе на массовом уровне, что объясняется двумя факторами: наследием ее продолжительной изоляции и могуществом официально-национальной модели. «В Японии… трон стали идентифицировать с утверждением национализма и новыми военными и промышленными программами, направленными на укрепление национальной независимости, и была разработана государственная религия синто, призванная служить связующим звеном между новым патриотизмом и старыми имперскими ценностями»[40].
Если в Европе, замечает японский исследователь М. Маруяма, «все национализмы выросли в контексте традиционного плюрализма взаимодействующих династических государств, а национальное сознание… с самого своего зарождения несло на себе печать осознания международного общества. Само собой предполагалось, что споры между суверенными государствами суть конфликты между независимыми членами этого международною общества». То многовековая изоляция Японии привела к тому, что здесь «…осознания равноправия в международных делах полностью отсутствовало. Сторонники изгнания [варваров] смотрели на международные отношения со своих позиций в японской национальной иерархии, основанной на превосходстве вышестоящих над нижестоящими. Л потому, когда исходные посылки национальной иерархии были горизонтально перенесены и международную сферу, международные проблемы оказались сведены к одной-единственной альтернативе: покорять или быть покоренными. В отсутствие каких-либо высших нормативных стандартов, с которыми можно бы было соотнести международные отношения, политика силы неизбежно становится правилом, и вчерашняя осторожная оборонительность оборачивается сегодня неограниченным экспансионизмом»[41].
Кроме того, «индустриализация Японии… не сопровождалась движением к буржуазным представлениям и либеральным институтам. Техническая цивилизация была внедрена в рамки иерархического общества, где власть исходила сверху, где военная аристократия занимала первое место… и высшие ценности общества были ценностями знати»[42], поэтому основными моделями для японской олигархии стали самопатурализирующиеся династии Европы. Учитывая, что эти династии все больше и больше определяли себя в национальных категориях, расширяя в то же время свою власть за пределами Европы, неудивительно, что эта модель должна была быть воспринята в имперском варианте. Как показывал опыт XIX в., великими нациями признавались нации-клопизаторы. Посему и Япония, для того чтобы ее признали великой, должна была превратить тэнио в Императора и пуститься в заморские авантюры, пусть даже она вступила в игру слишком поздно, что было дополнительным стимулом к напору и агрессии. В процесс расширения империи после 1900 г. японизация в британском духе стала сознательно проводимой государственной политикой. В период между двумя мировыми войнами в отношении корейцев, тайваньцев и маньчжуров, а с началом войны на Тихом океане — в отношении бирманцев, индонезийцев и филиппинцев осуществлялась политика, для которой европейская модель была уже установившейся рабочей практикой. И так же, как это было в Британской империи, японизированным туземцам были полностью перекрыты пути в метрополию. Они могли в совершенстве говорить и читать по-японски, но ни при каких обстоятельствах не могли встать во главе префектуры па острове Хонсю и даже получить пост за пределами тех зон, в которых они родились[43].
Однако едва ли не в каждом случае официальный национализм скрывал в себе расхождения между нацией и династическим государством и внутреннюю несовместимость империи и нации. «Империя, — писал Р. Арон, — метрополия которой представляет собой демократическую нацию, противоречива, потому что имперская мощь можег сохраняться только путем самоотрицания»[44]. Именно поэтому Б. Андерсон называет политику официального национализма средством «натягивания маленькой, тесной кожи нации на гигантское тело империи». Отсюда распространившееся по всему миру противоречие: «словаки должны были быть мадьяризированы, индийцы — англиизированы, корейцы — японизированы, по им не позволялось присоединиться к тем путешествиям, которые дали бы им возможность управлять мадьярами, англичанами или японцами… Причиной тому был не только расизм, по и то, что в самом сердце империй тоже рождались нации: венгерская, английская и японская. И эти нации тоже инстинктивно сопротивлялись чужому правлению (несмотря на попытки национализации династий). А стало быть, в эпоху, наступившую после 1850 г., империалистическая идеология обычно имела характер заклинатсльного трюка»[45], т. е. носители этой идеологии, как и она сама, были обречены.
Однако, с другой стороны, парадоксальным образом «проект нации-государства с его стремлением к культурно-языковой гомогенизации населения тоже вызревает в (европейских. — В. А.) империях… Имперские успехи помогали строительству нации в имперском ядре, иначе говоря, не столько сложившиеся нациигосударства имперского ядра создавали империю, сколько империи создавали в своем ядре нации-государства»[46]. А. И. Миллер пишет о двух принципиально различных парадигмах строительства наций-государств в европейских империях: «Изначальный западноевропейский проект осуществлялся в ядре империй и не был направлен на их разрушение. Образцами модерной нации-государства стали именно Франция и Великобритания. (Франция — парадигмальный пример большинства исследований национализма — даже в самые революционные и националистические периоды своей модерной истории была империей. Первая Французская республика пыталась подчинить Гаити точно так же, как Четвертая и Пятая пытались сохранить контроль над Алжиром.) Проект строительства наций в ядре европейских колониальных империй во многом подавил периферийные проекты национального строительства, которые с новой силой проявились уже в XX столетии в Шотландии, Каталонии, Стране Басков и т. д.
В Восточной Европе к началу XX в. успехи проектов, опиравшихся на империи, были меньше, эти империи Первую мировую войну проиграли, и здесь после войны были реализованы разрывавшие имперскую структуру периферийные проекты национального строительства. В таких периферийных проектах этнический мотив акцентировался сильнее, чем в тех, что осуществлялись в имперском ядре. Во многом, кстати, периферийные проекты были не только отрицанием империй, но и плодом имперской политики. Так, Румыния, Болгария и Сербия получили независимость еще до «большой войны» как результат компромисса христианских империй по вопросу о контроле над перифериями сжимавшейся Османской империи. А Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина возникли (на более или менее продолжительное время) как результат соперничества европейских империй в Первой мировой войне и поддержки ими периферийного национализма в лагере противника… Таким образом, в строительстве наций и нацийгосударств империи не были лишь фоном или помехой, в действительности они были важными, если не главными участниками процесса"[47]. В результате часто проекты наций-государств и империй не исключали, а дополняли друг друга.
И тем не менее «…в битвах между „нацией“ и новыми требованиями империалистической власти сама „нация“ все более вовлекалась в империалистические стандарты, так как идеология расизма и способы насилия, свойственные империализму, проникали в „нацию“ и угрожали поглотить ее»[48]. Неслучайно многие «достижения» официального национализма воспринял национализм этнический, или расовый.
- [1] См.:Janowski М. Wavering Friendship: Liberal and National Ideas in Nineteenth Century East-Central Europe // Ab Imperio. 2000. № 3—4.
- [2] Цит. но: Андерсон А. Воображаемые сообщества. С. 102.
- [3] Германский рейх стал воплощением проекта Малой Германии потому, что включал не все территории, населенные немцами, параллельно с ним продолжало существовать еще одно «немецкое» государство — Австро-Венгерская империя.
- [4] Данн О. Нации и национализм в Германии: 1770—1990. СПб., 2003. С. 178—179.
- [5] См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. С. 162—163.
- [6] Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. С. 99.
- [7] См.: Шмит К. Политическая теология. СПб., 2000. С. 239.
- [8] Цит. по: Данн О. Нации и национализм в Германии: 1770—1990. С. 196.
- [9] См.: Галкин Л. Л. Метаморфозы немецкой национальной идеи // Национальная идея: страны, народы, социумы / отв. ред. Ю. С. Оганисьян. М., 2007. С. 83−84.
- [10] См.: Кондратьев А. Германская религия и христианство: теория «третьей церкви» // Неприкосновенный запас. 2010. № 1. С. 81—82.
- [11] Сфабрикованное в 1894 г. дело, но обвинению офицера французского Генштаба еврея А. Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств суд приговорил его к пожизненной каторге. Борьба вокруг «Дела Дрейфуса» расколола Францию и привела к политическому кризису. Под давлением демократических сил Дрейфус в 1899 г. был помилован, а в 1906 г. реабилитирован.
- [12] Арендт X. Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 322.
- [13] Раса и политика. Весела Клола Леви-Стросса с Дидье Эрибоном // Неприкосновенный запас. 2008. № 1(57). С. 6.
- [14] См.: Малахов В, Скромное обаяние расизма и другие статьи. С. 147.
- [15] Молер А. Консервативная революция в Германии, 1918—1932 // Неприкосновенный запас. 2010. X" 1(069). С. 71.
- [16] См.: Хюбпер К. Нация: от забвения к возрождению. С. 230.
- [17] Цит. но: Дани О. Нации и национализм в Германии: 1770—1990. С. 207—208.
- [18] Цит. по: Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. С. 118.
- [19] Данн О. Указ соч. С. 208.
- [20] Данн О. Указ соч. С. 208.
- [21] Данн О. Указ соч. С. 208.
- [22] См.: Руткевич А. М. Политическая доктрина Ш. Морраса // Ш. Моррас. Будущее интеллигенции. М., 2003. С. 94—9.5.
- [23] Апатрид — лицо без гражданства.
- [24] Балибар Э. Валлеретайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М. 2004. С. 78.
- [25] Балибар Э. Валлеретайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М. 2004. С. 74.
- [26] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 107. 108.
- [27] Касмнов Г., Миллер А. Россия — Украина: Как пишется история. Диалоги. Лекции. Статьи. С. 182.
- [28] Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. С. 175.
- [29] Катков М. П. По поводу статьи «Роковой вопрос» // Русский вестник. 1863. Т. 45. Май. С. 399.
- [30] Однако есть и другие трактовки националистической доктрины М. Н. Каткова (См.: Наследие империй и будущее России. М., 2008 — статьи В. А. Тишкова и А. И. Миллера).
- [31] Библер В. С. Национальная русская идея? — Русская речь! // Октябрь. 1993. № 2. С. 156 157.
- [32] См.: Полякова Н. В. К вопросу о русском национализме // Формирование гражданского общества как национальная идея России XXI века. СПб., 2001. С. 131.
- [33] Миллер Л. И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006. С. 9—10.
- [34] Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. Т. 2. М., 1989. С. 237,281−282.
- [35] Миллер А. И. История империй и политика памяти // Наследие империй и будущее России. С. 37.
- [36] Миллер А. И. История империй и политика памяти // Наследие империй и будущее России. С. 37, 38.
- [37] Фурман Д. Рецензия на книгу Т. Соловей, В. Соловей «Нссостоявшаяся революция: Исторический смысл русского национализма». М.: Феория, 2009 // Pro et Contra. 2009. № 3−4. С. 161.
- [38] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 119.
- [39] Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. С. 112—113.
- [40] Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. С. 176.
- [41] Цит. по: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 119.
- [42] Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. С. ИЗ.
- [43] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 120—121.
- [44] Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. С. 121.
- [45] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 108. 131—132.
- [46] Миллер А. И. История империй и политика памяти // Наследие империй и будущее России. С. 30, 31.
- [47] Миллер А. И. История империй и политика памяти // Наследие империй н будущее России. С. 32—33.
- [48] Файн Р. Фетишизм политики: критический анализ работ Ханы Арендт // Рубеж. Альманах социальных исследований. Сыктывкар. 1999. № 13—14. С. 47.