Антиномией кода и текста
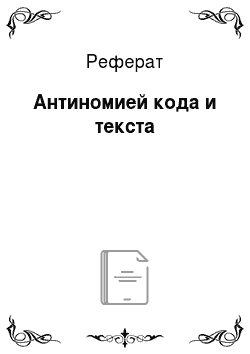
У. Лабов исходит из того, что изменения в структуре языка не могут быть правильно поняты без учета сведений о языковом сообществе, которое пользуется этим языком. Так, изменения в фонологической системе можно проследить, лишь наблюдая за речью изучаемого коллектива носителей в течение более или менее длительного времени, сравнивая произносительные характеристики этой речи на разных временных… Читать ещё >
Антиномией кода и текста (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
М. В. Панов обозначил противоречие между набором языковых единиц (фонем, морфем, слов) и текстом, который строится из этих единиц. Чем меньше набор единиц, тем длиннее должен быть текст, передающий то или иное содержание, поскольку каждый «квант» содержания может быть передан в большинстве случаев не отдельной единицей (их мало), а комбинацией единиц. И, наоборот, чем больше набор единиц, тем короче текст: каждому «кванту» содержания соответствует отдельная единица кода. В развитии языка действуют две противоборствующие тенденции: к сокращению и, значит, упрощению кода (набора единиц) и к сокращению, т. е. упрощению, текста. Разрешается это противоречие то в пользу кода, то в пользу текста.
Известный пример сокращения кода в современной русской лексике — постепенное вытеснение из речевого оборота некоторых терминов родства: шурин, деверь, золовка — и появление на их месте описательных наименований брат жены, брат мужа, сестра мужа. Сейчас такому вытеснению стали подвергаться и некоторые другие термины родства: вместо тесть все чаще говорят отец жены, вместо свекровь — мать мужа; заметим, однако, что подобная замена, по-видимому, не грозит слову теща, которое в русской культурно-речевой традиции осложнено множеством коннотативных (сопутствующих основному значению слова) связей.
Пример увеличения кода: заимствование иноязычных слов для обозначения понятий, которые по-русски могут быть названы только описательно — с помощью двух-, трехсловных сочетаний: снайпер — меткий стрелок, мотель — гостиница для автотуристов, стайер — бегун на длинные дистанции и т. п. Можно было бы в подобных случаях обойтись и без заимствований, не увеличивая число знаков словарного кода. Но в таком случае пришлось бы удлинять текст — из-за употребления описательных оборотов, обозначающих указанные понятия. Характерно, что в русском языке 1920;х гг. преобладали описательные, «разъясняющие» наименования, что было вполне понятно и оправданно в условиях демократизации литературного языка, приобщения к нему широких масс людей, которые раньше не владели литературной нормой (увеличение словаря путем новых иноязычных заимствований означало бы для них еще одну трудность в освоении литературного языка). Русский язык конца XX в. идет по пути заимствования иноязычной лексики, тем самым на этом участке языковой системы антиномия кода и текста разрешается преимущественно в пользу кода.
Действие антиномии кода и текста также небезразлично к тому, в какой языковой подсистеме, в какой речевой среде она проявляется. Как правило, эта антиномия разрешается в пользу кода (он увеличивается) в социально замкнутых коллективах говорящих. Так, в социальных и профессиональных жаргонах, которые и характерны для подобных замкнутых коллективов, имеется, как правило, богатый, детализированный словарь для обозначения определенных реалий и видов деятельности (в воровском жаргоне, например, чрезвычайно детально различаются по названиям виды краж, «специалисты» по каждому из этих видов: домушник, ширмач, скокарь, медвежатник, разновидности орудий преступления и т. п.). В специальных технических и научных терминологиях активно действует тенденция к установлению одно-однозпачпых отношений между термином и его содержанием (многозначные термины нежелательны).
Напротив, в социально не замкнутых, «текучих» коллективах, где языковые привычки говорящих постоянно испытывают воздействие речевых особенностей других групп, вливающихся в состав носителей данной языковой подсистемы, — код сокращается, зато текст испытывает тенденцию к удлинению. Это естественно: в речи людей, составляющих подобные текучие коллективы, сохраняются лишь знаки, общие для всех членов коллектива. С помощью этого набора знаков (слов, аффиксов и т.н.) передается любое содержательное сообщение, причем объединение различных знаков, необходимое для выражения тех или иных смыслов (которым нет «однознакового» соответствия в коде), ведет к увеличению текста.
Антиномия регулярности и экспрессивности «питается» соответственно информационной и эмотивной функциями языка. Информационная функция наиболее последовательно выражается с помощью однотипных, стандартных, регулярно образуемых языковых средств (передача информации эффективна без наличия информационного «шума», а в качестве такового может выступать неоднозначность или метафоричность языковой единицы, нестандартность ее структуры и т. п.). Эмотивная функция, напротив, в своем выражении опирается на экспрессивную окрашенность языковых единиц, их нестандартность, идиоматичность, т. е. на такие свойства, которые противопоказаны чистой информации.
«В каждом ярусе языка есть единицы, подчиняющиеся какому-то общему правилу, и единицы, которые регулируются другим, менее сильным правилом, — писал М. В. Панов. — Постоянно действует тенденция уподобить слабую часть системы более сильной, подчиняющейся более общему правилу. Это — тенденция, стимулированная языком в его чисто информационной функции. Если в языке есть агглютинативные и фузионные единицы, то неизбежно возникает стремление обобщить их или в сторону последовательной, полной агглютинативности, или в сторону полной фузионносги.
Но такие устремления сталкиваются с противоположными — с постоянной тенденцией сохранить для экспрессивных целей выделенность, «отчужденность» некоторых единиц. Каждая единица языка имеет и чисто информационное, и (в той или иной степени) экспрессивное назначение; следовательно, эта антиномия определяет жизнь каждой единицы языка" (Панов, 1968, с. 27−28).
Пример противоборствующих тенденций к регулярности и к экспрессивности — создание, с одной стороны, упорядоченных систем специальных терминологий в соответствующих сферах науки и техники, со строго «прозрачными» отношениями между терминами и стандартными дефинициями, а с другой — метафоризация общеупотребительных слов с целью создать экспрессивные профессионально-жаргонные аналоги к официальным терминам (кастрюля вместо синхрофазотрон, болтанка — вместо люфт, баранка в значении ‘ноль очков' и т. п.).
И эта антиномия, как легко видеть, не асоциальна: при одних условиях развития языка, в одних коллективах говорящих легче побеждает тенденция к регулярности, при иных социальных условиях и в иных социальных группах — тенденция к экспрессивности. Так, в развитых литературных языках, особенно в книжной их разновидности, рельефно проявляется тенденция к регулярности (это способствует стабильности литературной нормы), а в групповых (профессиональных и социальных) жаргонах сильна тенденция к экспрессивности.
Антиномии — наиболее общие закономерности языкового развития. Разумеется, они не отменяют действие конкретных социальных факторов, формирующих своеобразный контекст эволюции каждого языка. Однако они не являются и чем-то отдельным от социальных факторов: тесное взаимодействие тех и других, «наложение» определенных социальных условий на действие каждой из антиномий и составляет специфику развития языка на разных этапах его истории.
В отличие от антиномий, охватывающих своим действием языковую систему в целом, социальные факторы неодинаковы по своему влиянию на язык. Они имеют разную лингвистическую значимость: одни из них, глобальные?, действуют па все уровни языковой структуры, другие, частные, в той или иной мере обусловливают развитие лишь некоторых уровней.
Что же считается социальным фактором, влияющим на языковую эволюцию? Это, например, изменение круга носителей языка; распространение просвещения; территориальные перемещения людей (миграция); создание новой государственности, по-новому влияющей на некоторые сферы языка; развитие науки; крупные технические новшества и изобретения (никто не станет спорить, например, с тем, что изобретение книгопечатания, радио, внедрение в быт каждого человека телевидения явились социальными факторами, повлиявшими на сферы использования языка, массовая компьютеризация многих видов деятельности в тех или иных формах отражается и в языке, а также в речевом поведении носителей языка, и т. п.).
Примером глобального социального фактора является изменение состава носителей языка. Оно ведет к изменениям в фонетике, лексикосемантической системе, синтаксисе и, в меньшей степени, в морфологии языка[1]. Так, изменение состава носителей русского литературного языка в 20—30-е гг. XX в. повлияло на произношение (в сторону его буквализации: вместо старомосковского нормативного було (ип)ая, смеял{са) и тй (хы)й стали говорить було (чн)ая, смеял (с’а), 7? ш (х'и)й), на лексико-семантическую систему: заимствование слов из диалектов и просторечия повлекло за собой перестройку парадигматических и синтагматических отношений внутри словаря; в литературный оборот были вовлечены синтаксические конструкции, до тех пор распространенные в просторечии, диалектах, в профессиональном речевом обиходе (таковы, например, по происхождению обороты типа плохо с дровами, проверка воды на зараженность химическими отходами и т. п.); под влиянием некодифицированных подсистем языка увеличилась частотность форм на -а {-я) в именительном падеже множественного числа существительных мужского рода и т. п.
Пример частного социального фактора — изменение традиций усвоения литературного языка. В XIX — начале XX в. в дворянско-интеллигентской среде преобладала устная традиция — во внутрисемейном общении, путем передачи произносительных и иных образцов речи от старшего поколения к младшим. В связи с демократизацией состава носителей литературного языка стала распространяться и даже преобладать форма приобщения к литературному языку через книгу. Этот фактор повлиял главным образом на нормы произношения: наряду с традиционными произносительными образцами стали распространяться новые, более близкие к орфографическому облику слова (примеры выше).
Итак, в социолингвистической концепции М. В. Панова и его школы основной упор делается на тесное взаимодействие собственно языковых закономерностей (антиномий) и социальных факторов; последние понимаются как условия, способствующие (или, напротив, препятствующие) проявлению той или иной внутренней закономерности развития языка.
Теория языковой эволюции У. Лабова. Отталкиваясь от «ахронического», вневременного подхода к языку, представленного в порождающей грамматике Н. Хомского, и критикуя Хомского и его последователей за их пренебрежение к языковой реальности, У. Лабов предложил концепцию языкового развития, основанную на тщательно проанализированных данных о действительной, живой речи современных американцев. Хотя У. Лабов рассматривает в основном фонетические изменения, их интерпретация представляет интерес и в более широком плане, с точки зрения эволюции языка вообще.
У. Лабов исходит из того, что изменения в структуре языка не могут быть правильно поняты без учета сведений о языковом сообществе, которое пользуется этим языком. Так, изменения в фонологической системе можно проследить, лишь наблюдая за речью изучаемого коллектива носителей в течение более или менее длительного времени, сравнивая произносительные характеристики этой речи на разных временных срезах. Исследуя полученный таким путем материал, социолингвист сталкивается с необходимостью решить три проблемы: 1) проблему перехода: как, каким путем один этап языкового изменения сменяется другим? 2) проблему контекста. надо найти «непрерывную матрицу социального и языкового поведения, в которую заключено языковое изменение»; 3) проблему оценки: как говорящие оценивают те языковые факты, которые наблюдает исследователь? (Лабов, 1975а, с. 201—202).
Решая эти проблемы на примере анализа речи небольшого коллектива говорящих на американском варианте английского языка, У. Лабов выделяет такие этапы, характеризующие механизм языкового изменения:
- 1) начало изменения — в ограниченной подгруппе языкового сообщества; данная языковая форма усваивается всеми членами подгруппы;
- 2) последующие поколения говорящих внутри той же подгруппы воспринимают данное изменение как признак речи старшего поколения;
- 3) в той мере, в какой ценности данной подгруппы воспринимаются другими подгруппами, это языковое изменение распространяется в остальные подгруппы;
- 4) постепенно сфера распространения новшества совпадает с границами языкового сообщества;
- 5) под влиянием новшества перестраивается фонологическая система языка, обслуживающего данное сообщество;
- 6) структурные перегруппировки влекут за собой новые изменения, связанные с первыми, и цикл повторяется.
Однако этим эволюционный процесс не ограничивается. Важен социальный статус той подгруппы, внутри которой зародилось данное новшество.
Если эта подгруппа не занимает господствующего положения в сообществе, то члены привилегированных подгрупп подвергают новшество осуждению. С этого начинается исправление измененных форм «в сторону образцов, которых придерживается подгруппа с наивысшим социальным статусом, т. е. образцов, пользующихся престижем» (Лабов, 1975а, с. 225). Отсюда путь к стилистическому разграничению: престижный образец используется в полных, официальных стилях речи, а новшество, одобряемое лишь частью говорящих (определенной их подгруппой), распространено в непринужденной речи. Если изменение возникает в подгруппе, имеющей высший социальный статус, то оно становится господствующим образцом для всех членов данного языкового сообщества.
Давая эту схему языкового изменения, У. Лабов подчеркивает, что «внутренние (структурные) и социолингвистические факторы в процессе языкового изменения вступают в систематическое взаимодействие друг с другом» (Лабов, 1975а, с. 228). Эта мысль объединяет теорию У. Лабова с теорией антиномий, о которой речь шла выше. Однако предложенная У. Лабовом схема вряд ли может претендовать на роль универсального представления всякого языкового изменения: новшества в фонетической системе (или на каком-либо другом уровне языковой структуры) могут проходить и через другие этапы, становясь в конце концов достоянием коллектива говорящих. Но, конечно, — и У. Лабов здесь, бесспорно, прав — языковое изменение происходит в социальном контексте, и «нельзя вначале произвести анализ структурных соотношений внутри языковой системы, а потом обратиться к внешним факторам» (Лабов, 1975а, с. 228)[2].
С точки зрения функционирования языка в разных группах говорящих и сосуществования в одном языковом сообществе различных норм и систем ценностей интересно исследование У. Лабовом вопроса о влиянии социальной мобильности на речь носителей современного американского варианта английского языка (Labov, 1966а).
Согласно результатам этого исследования, та часть населения, которая социально движется «снизу вверх» (из низших слоев в высшие), «воспринимает нормы внешней референтной группы — как правило, нормы группы, более высокой по социальному уровню». Те говорящие, которые «социально стабильны» (т.е. не покидают пределов слоя, к которому принадлежат), обнаруживают тенденцию к тому, чтобы придерживаться своих собственных языковых норм, «более точно — к достижению некоего баланса собственных и внешних норм, который находит себе отражение в речевой практике, лишенной значительных стилистических колебаний». Наконец, носители языка, для которых характерно перемещение «сверху вниз» (в более низкие социальные слои), не воспринимают большую часть нормативных моделей, которые присущи этой, более низкой социальной среде.
Из своих наблюдений У. Лабов делает вывод, что в современном городе «языковая стратификация является отражением скорее систем социальных ценностей, чем систем социального существования». Иначе говоря, в языковых различиях, обусловленных социальными различиями носителей языка, получает отражение не прямо и непосредственно разница в экономическом и социальном статусе групп говорящих, а различия в ценностной ориентации, присущей каждой такой группе.
Сравнение двух кратко охарактеризованных концепций языковой эволюции выявляет некоторые их сходства и различия. Основное сходство заключается в том, что и та, и другая школа социолингвистики исходят из представления о сложном характере взаимоотношений языка и общества, об отсутствии прямых аналогий и жестких зависимостей между социальными и языковыми процессами и структурами, о многоступенчатости влияния изменений, происходящих в обществе, на изменения в языке.
При этом для отечественной школы социолингвистики вплоть до конца XX в. было характерно преимущественное внимание к макропроцессам, происходящим в языке и в обществе, а многие представители американской социолингвистики (и в их числе У. Лабов) более склонны к анализу микропроцессов, которые характеризуют социальную и языковую жизнь сравнительно небольших человеческих групп (более подробно о различии макрои микропроцессов в языке и языковой жизни социальных объединений в параграфах 4.3 и 4.4).
- [1] Общепризнанно, что морфологическая система наиболее устойчива к внешним влияниям. Поэтому даже те социальные факторы, действие которых проявляется па всех уровняхязыковой структуры, в морфологии имеют минимальные рефлексы.
- [2] С этим утверждением американского исследователя перекликается давнее высказывание академика В. В. Виноградова: «Не следует думать, что законы развития языка, вытекающие из его общественной сущности, из его общественных функций, и законы, вытекающиеиз структуры языка, — это разные, взаимно не связанные закономерности как бы разныхпланов функционирования языка. Па самом деле они взаимообусловлены и неразрывны"(Виноградов, 1952, с. 33).