Формирование научной картины мира
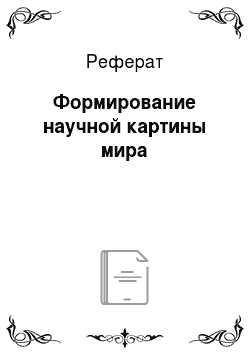
Но оставались проблемы, решение которых стало подлинной революцией в математике и во всем своде физико-математических наук. Это проблемы инфинитезимального исчисления. Для того, чтобы выйти на путь их решения, научная мысль должна была отойти достаточно далеко от античных стандартов. Речь идет о понятиях «форма» и «количество». Количество как категория обладает в перипатетике тремя признаками… Читать ещё >
Формирование научной картины мира (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Новая философия математики. В XVII в. завершилось освоение античного математического наследия, в процессе которого возникали те же противоречия и трудности, с какими имели дело авторы древности — проблемы бесконечности, точности, соизмеримости, рациональности. Сравнительно легко и безболезненно было воспринято изобретение иррациональных чисел с введением алгебраической символики. В итоге стали решаемыми квадратные и кубические уравнения. А это уже означало, что европейская математика, а вместе с нею и вся наука, опередили и античную, и арабскую науку и обеспечили себе в этой области мировое лидерство.
Но оставались проблемы, решение которых стало подлинной революцией в математике и во всем своде физико-математических наук. Это проблемы инфинитезимального исчисления. Для того, чтобы выйти на путь их решения, научная мысль должна была отойти достаточно далеко от античных стандартов. Речь идет о понятиях «форма» и «количество». Количество как категория обладает в перипатетике тремя признаками: во-первых, количество не имеет противоположности, т. е. это не относительная категория. Во-вторых, количество не принимает значений «меньше» и «больше». Любая кошка, большая или маленькая, рыжая или черная, не более кошка, чем какая-то другая из представительниц этого рода. Иначе говоря, количество — не число или величина, а то, что допускает к себе приложение этих понятий. В-третьих, между количествами может быть и равенство, и неравенство — по массе и по совершенству. Таким образом, понятие количества у Аристотеля сродни современному понятию «качество». К нему могла быть приложена математика, но это не была категория математики. Категория «формы» допускала изменение интенсивности, как бы конкретизируя понятие количества. В Новое время понятие количества уже обозначает величину, т. е. нечто принципиально измеримое. Но из этого, по словам Д. Д. Морду хай-Болтовского, с необходимостью следует, что количество постигается только сравнением с единицей, предполагающим ряд операций, приводящих от этой единицы к целому. Отношение становится числом, а число — абстрактной реальностью[1]. Это предполагает переход от номинализма в философии математики к реализму или концептуализму, обосновывающим реальность математического формализма. Кроме того, принимая интенсивность формы как нечто доступное изменению, ее понимают как интенсивность качества (например, как степень теплоты, плотности, скорости). Это уже зачаточная форма теории переменных величин как функций времени и их графических представлений — ростки идей, из которых в XVII в. выросла динамика Галилея (1564−1642), теория неделимых Кавальери (1598 1647), аналитическая геометрия Декарта (1596−1650). Тем самым создались условия для решения инфинитезимальных проблем — проблемы квадратур и проблемы касательных. Ключевой для них была «Геометрия неделимых» Кавальери, где под неделимыми понимались бесконечно малые. Через Торичелли (1608−1647), Роберваля (1602−1675), Паскаля (1632−1662) тенденция поисков ведет к открытию логарифмов и созданию теории интегрирования. С другой стороны, через аналитическую геометрию Декарта и математические труды Торичелли и Пьера Ферма (1601−1665) развивается поиск метода дифференцирования.
Новое миропонимание. В XVII —первой половине XVIII вв. под влиянием развития математики и механики происходит подлинный переворот в миропонимании, возникает первая научная картина мира. Напомним смысл указанных понятий. Под миропониманием мы имеем в виду мировоззренческое представление о-мире, в котором живет человек (сообщество, человечество). Такое представление может быть чувственно-образным, понятийно неоформленным, имеющим только мифо-символическую форму фиксации в общественном сознании и коллективном опыте. Это — мировосприятие (или мироощущение). Но представление об окружающем мире, определяющем судьбу человека, может быть и рационально-понятийным. Оно может иметь религиозный или светский, нерелигиозный характер, включать в число основных понятий теологические или философские термины. В этом смысле миропонимание имеет теоретический характер, а метатеорией для него выступают теология либо философия.
Строго говоря, в каждой эпохе можно обнаружить альтернативные миропонимания, каждое из которых тяготеет к одному из двух вариантов — светскому или религиозному подобно концепциям мироздания Платона и Демокрита, неоплатоников и Лукреция и т. д. В том и в другом случае это абстрактные отображения мира, сформировавшиеся на основе господствующего мироощущения. Они были близки обыденному сознанию, будучи сами продуктами эманации последнего. В XVII в. формируется иная основа: место обыденного сознания постепенно заполняет научный опыт, выразителем которого и претендует быть миропонимание. В итоге понятийный каркас этого нового миропонимания включает понятия, принадлежащие уровню научной абстракции или переосмысленные в духе научной рациональности своего века. Таким образом, в научно-мировоззренческом миропонимании выявляется общая концептуальная схема, составляющая его каркас, который содержит понятия, обеспечивающие в обобщенной форме стандартные ответы на два фундаментальных вопроса: из чего состоит мир и каков основной процесс, в силу которого происходят изменения, наблюдаемые в мире.
В отличие от миропонимания картина мира представляет собой своеобразную модель Вселенной, включающую в себя наиболее общие понятия, принципы, гипотезы природоведения, прежде всего — математики, механики, физики и астрономии, но в такой форме, которая допускает переложение в терминах обыденного языка или в чувствен но-наглядных представлениях. Научная картина мира не является частью какой-либо науки, поскольку природоведение, естествознание — не наука, а совокупность наук, в различной степени субординированных друг с другом. По отношению к отдельным наукам этого комплекса картина мира выполняет роль метатеории, обосновывая выбор приемлемых догадок и гипотез, умозрительных по своему происхождению, роль теоретического базиса естественных наук. Одновременно у картины мира есть и другая функция — оценки и ориентации в выборе направлений развития (мировоззренческая). Формирование собственной картины мира выражает стремление естественных наук выйти из-под господства универсальной Науки наук, на роль которой претендовали теология и философия. Позже, в XIX в., это стремление находит свое выражение в известном лозунге: «Наука —сама себе философия». Начиная с XVII в. среди естествоиспытателей возникает стремление освободиться от «идеологического контроля» со стороны гуманитарных дисциплин, придав естествознанию универсальный мировоззренческий характер. Конечно, такое освобождение весьма условно и относительно, а самое главное —оно не достигается сразу и вначале имеет скорее характер фронды, чем бунта, тем более, что переворот происходит и в философии, а грань между философом и естествоиспытателем вплоть до XIX в. остается весьма условной.
Связующим звеном между картиной мира и естественнонаучным миропониманием выступает концептуальный каркас того и другого в меру их соответствия. Понятия, входящие в такой каркас, обрисовывают физическую реальность, поскольку они эмпирически интерпретированы, и в то же время составляют то, что В. И. Вернадский называл «формальной действительностью», имея в виду «то представление об окружающем, которое вытекает из исследования его научными приемами, в связи с критической работой логики и теории познания[2]. Построение научной картины мира предполагает не только устранение из миропонимания последних остатков мифологии и обыденных представлений, сформировавшихся вне науки, но и философских понятий, не переосмысленных естествознанием. Столь же важно и то, что, раз возникнув, эта «формальная действительность» становится «исходным пунктом всех наших обобщений в области религиозных, научных и философских концепций. Невозможно допустить какие бы то ни было выводы, которые бы несомненно противоречили формальной действительности»[3]. Иначе говоря, формирование научной картины мира и научного миропонимания означает, что новая модель Вселенной в своем формировании принимает во внимание лишь интересы дальнейшего роста науки. Научное миропонимание и картина мира отделяются от представлений о мироздании и даже дистанцируются от них как от вненаучных.
Весь этот процесс выработки естественнонаучного миропонимания предполагает две взаимосвязанные составляющие: во-первых, выработку основных понятий концептуальной системы миропонимания в составе той или иной естественной науки и обнаружение ее парадигмального значения для остальных и, во-вторых,—? формирование образа Вселенной, для описания которой достаточно выделенных понятий.
Первая из указанных задач начинала решаться, но еще не была решена Галилеем. «Никогда, — говорит он, — я не стану от внешних тел требовать что-либо иное, чем величина, фигура, количество и более или мене быстрые движения, для того, чтобы объяснить возникновение ощущений вкуса, запаха и звука; и вообще, все качества, присущие внешним предметам, редуцируются к перечисленным выше», а все формы вещей «доступны разложению на атомы, которые совершенно неделимы»[4]. Для Галилея адекватным способом описания и объяснения всех видимых качеств вещей выступает математическое описание. Природу, по его словам, «нельзя понять, не научившись сначала понимать ее язык, и не изучив ее буквы, которыми она написана. А написана она на математическом языке, и ее буквы —это треугольники, дуги и другие геометрические фигуры, без каковых невозможно понять по-человечески ее слова: без них тщетное кружение в темном лабиринте»[5]. Иначе говоря, адекватное описание природных процессов — это описание их с помощью элементарных переменных величин как функций времени, данное в графических представлениях. Развитие математики и механики не перипатетического типа, основанной на принятии понятий инерциального движения, относительности движения, нового определения скорости и ускорения, обеспечивает постепенно решение первой задачи. Несколько сложнее с образом Вселенной, доступным описанию исключительно с помощью научных понятий и процедур.
Следует иметь в виду, что вплоть до XVII в. наука знала лишь одну модель Вселенной, разработанную в своих общих чертах еще Аристотелем. Суть ее состояла в том, что в основе построения мира лежат простые движения, т. е. такие, которые не требуют двигателя, происходят, раз начавшись, безостановочно и без изменения скорости. Важнейшим из таких движений является круговое. Два других — «вверх» и «вниз» — имеют вспомогательное значение, определяя распределение пространства в системе мира. Аристотелевская Вселенная ограничена объемом неопределенного «верха» и находится в вечном вращательном движении. Круговое движение по орбитам должно быть равномерным: небесные светила в своем движении свободны подобно богам и как боги не нуждаются ни в отдыхе, ни в смене направления вращения. Причину своего движения они заключают в самих себе. Что же до кажущегося (наблюдаемого) неравномерного движения планет, то его можно объяснить сложным взаимным движением небесных сфер.
Программа Аристотеля была по видимости выполнена Птолемеем, но только по видимости: Аристотель не допускал возможности вращения вокруг пустого места. Комбинация воображаемых круговых движений, доведенная Птолемеем до совершенства при помощи эксцентриков и эпициклов, позволяла представить любую замкнутую кривую и установить математическое отношение между любыми данными наблюдения. Но при этом центры воображаемых окружностей были пусты, что противоречит перипатетике. В этом отношении ничего существенно нового не внес и Коперник. Он характеризовал свою систему как чисто математическую модель, удобную для вычислений, оставляя открытым вопрос о том, а каково же реальное движение планет. Если же принять реальность описываемых орбит, то приходится признать, что «не существует общего центра для всех кругов, т. е. небесных сфер»[6]. Круги и сферы вращаются сами по себе. Это, согласно Аристотелю, невозможно! В поисках пути преодоления этой трудности Тихо Браге (1546−1601) и Иоганн Кеплер (1571−1630) предлагали собственные модели, но и к ним, во всяком случае к первой модели Кеплера, применимы слова Джордано Бруно, относящиеся к Копернику: «Он знал математику глубже, чем природу»[7]. Над ними продолжало тяготеть представление о порожденном высшим разумом геометрическом и кинематическом совершенстве мира. Ими владела «магия круга, магия равномерного движения».
Проблема осложнялась тем, что в те же годы, когда в математику и механику проникает идея бесконечно малых, в космологии возникла идея бесконечно большого, а не просто несоизмеримо большего по сравнению с человеком, как в Средние века. Но это означает, что Вселенная не имеет ни центра, ни периферии. Нужно было отказаться от самой идеи Вселенной, описываемой теоморфной моделью типа кеплеровской, согласно которой «в сфере мира, каковая есть подобие Бога-Творца и архетип всего мироздания, три суть области, символы трех лиц Святой Троицы: центр —символ Отца, поверхность — символ Сына и промежуточное пространство-символ Духа Святого. И тако же сотворены важнейшие части мироздания: Солнце в центре, сфера неподвижных звезд (или хрустальная сфера) на поверхности и, наконец, планетная система в области, лежащей между Солнцем и неподвижными звездами»[8].
Путь к новому мировидению лежал в направлении выработки принципиально иного, чем прежде, стиля научного мышления. Отказ от идеи конечности мира и переход к идее его бесконечности был первым шагом к новой модели мира. Но идея бесконечности медленно пробивала себе дорогу и не осознавалась как цель интеллектуального поиска. Она имела еще зародышевую, не определившуюся форму. О таких зародышевых идеях писал В. И. Вернадский: «Среди известного в изучаемую эпоху скрыты зародыши будущих широких обобщений и глубоких явлений», которые современником еще не могут быть поняты. «В оставленном им в стороне материале идут, может быть, самые важные нити великих идей, которые для него неизбежно остаются закрытыми и невидными»[9].
Первые изменения представлений о мире в сторону его бесконечности обнаруживались еще у Николая Кузанского, утверждавшего, что «мир не бесконечен, однако его нельзя помыслить и конечным, поскольку у него нет пределов, между которыми он был бы замкнут»[10]. Это еще далеко от утверждений о реальной бесконечности мира и означает лишь недостижимость точности при определении центра мира и его окружности. Но утверждение неопределенности в этих отношениях многозначно. Мысль о бесконечности мироздания находит дальнейшее развитие у Коперника, согласно так называемым аксиомам которого не существует общего центра для небесных сфер… Все пути планет окружают со всех сторон Солнце, вблизи которого находится центр мира[11]. Однако, учитывая, что, по мнению Коперника, расстояние между Землей и Солнцем несоизмеримо мало по сравнению с расстоянием до звезд, его утверждение о шарообразности Вселенной имеет своим следствием лишь вывод о «необъятности неба». Эта мысль, в совокупности с утверждением, что вращается не «хрустальная сфера звезд», а Земля внутри неподвижной сферы звезд, в неявной форме давала возможность предположить, что звезды в невообразимой дали на самом деле — далекие солнца Вселенной.
В конце XVI в. наметился прорыв и в этом отношении. Опираясь на собственную интерпретацию трудов Коперника, Дж. Бруно и Т. Диггс впервые осмелились посягнуть на конечность тварного мира — материальной Вселенной. При этом Бруно исходил из того, что бесконечность принадлежит к интеллигибельным свойствам мира: «Чувство не видит бесконечности, и от чувства нельзя требовать этого заключения; ибо бесконечное не может быть объектом чувства; и поэтому тот, кто желает познавать бесконечность посредством чувств, подобен тому, кто пожелал бы видеть очами субстанцию и сущность»[12]. Бесконечность постигается не физикой, а метафизикой, и имеет метафизический, а не естественнонаучный смысл, она есть «непостижимый образ». В отличие от Бруно, Диггс, будучи не столько философом, сколько астрономом, рисовал «модель бесконечной гелиоцентрической Вселенной со звездами, разбросанными на разных расстояниях по бесконечному пространству»[13], как имеющую физический, а не метафизический смысл и представляющую естественнонаучное следствие из оригинально истолкованной теории Коперника. Но модель Диггса была адресована не ученому, а среднему англичанину, который не имел ни возможности, ни знаний, чтобы прочесть и понять великий труд Коперника в оригинале, и имела сугубо популяризаторский характер. Все же и в том, и в другом варианте образ бесконечной Вселенной воздействовал скорее на воображение, чем на разум.
Действительно большой шаг к новому пониманию объема Вселенной был совершен Галилеем и Тихо Браге. Именно они перевели проблему конечности или бесконечности мира в естественнонаучную плоскость. При помощи изобретенного им телескопа Галилей увидел то, существование чего невозможно было предсказать заранее: горы и долины на Луне, спутники Юпитера, фазы Венеры, темные пятна на Солнце. Наконец, наблюдая Млечный Путь, Галилей понял, что он есть не что иное, как скопление бесчисленных звезд. В свою очередь Тихо Браге, наблюдая за кометой, обнаружил и, главное, математически доказал, что она движется не за областью планет, а между ними, пересекая их орбиты. Тем самым такой мифологический элемент в астрономических представлениях, как хрустальные сферы планет, оказался опровергнутым. Кроме того, его наблюдения за появлением на небе «новой звезды» (т. е. за взрывом звезды) внесли понятие об изменчивости туда, где прежде мыслилась вечность и неизменность.
И все же ни освободиться полностью от мифологических догм в гипотетических построениях, ни безоговорочно признать бесконечность мира как физический факт наука была не готова. Так, Кеплер, опровергнув идею кругового движения планет открытыми им законами, доказывая эллиптичность орбит, в то же время настаивает на том, что «мы должны остерегаться того, чтобы шагнуть в бесконечность… Если мы считаем, что спуск ко все меньшему имеет свой предел, то почему бы не положить предел и восхождению ко все большему?»[14]. Галилей же, приходя к представлению об инерции, остается в плену идеи кругового движения как естественного и относит инерциальное движение только к движению по круговой орбите. Лишь к самому концу XVII в. труды Гюйгенса (1629−1695), Лейбница (1646−1716) и Ньютона (1642−1727) приводят, наконец, к широкому признанию идеи бесконечности мира, вынуждая изменить принципы построения модели Вселенной.
Все прежние модели мира строились на основании предположения, что у Вселенной есть центр. Именно наличие центра давало возможность строить радиально-центрические модели мира, основанные на геометрической симметричности и упорядоченности частей. Таковы были модели и Птолемея, и Коперника, и Тихо Браге, и Кеплера, согласно которому «геометрия едина и вечна, она блистает в Божьем духе. Наша причастность к ней служит одним из оснований, по которым человек должен быть образом Божьим. Но в геометрии имеются пять евклидовых тел (правильных многоугольников), совершеннейший ряд фигур после сферы. По их образцу и прообразу устроена наша планетная система»[15]. Традиция требовала, чтобы модель мира выражала смысл мировой гармонии, который виделся именно в статике симметричной пространственной формы. Геометрические построения выступали признанным образцом рациональности, в том числе и для физического мира, и центрально-радиальная модель Вселенной как нельзя более соответствовала этому образцу. Для отказа от него недостаточно было отказаться от идеи конечности мира. Нужен был более радикальный шаг: утверждение того, что в методологии науки получило название «принципа Коперника».
Характеризуя этот принцип, современный американский космолог В. Картер пишет: «Коперник преподал нам очень поучительный урок, согласно которому мы не должны, не имея на то оснований, предполагать, что занимаем привилегированное центральное положение во Вселенной»[16]. Иначе говоря, в эпоху, когда еще «все знали», что Человек и его Земля — центр Вселенной, должна была утвердиться мысль, что Вселенная до такой степени однородна и лишена индивидуации в деталях, что наша часть ее —Земля и Солнечная система — построена по образу и подобию всякой иной аналогичной части мира. Но для этого земная и небесная механики, развивавшиеся раздельно, должны были слиться в одну механику, приобретавшую тем самым универсальный для всей Вселенной характер. И только Ныотон наконец завершает это объединение.
Реанимация атомизма. Предварительным условием обеспечения единства физики и математики было определение универсального физического субстрата мира, который был бы доступен для математизации, поскольку уже достаточно утвердилось мнение, что природа «говорит» языком математики. Возможности чисто геометрического описания Вселенной, безразличного к ее субстратной основе, были на тот момент исчерпаны. Конкретизация субстрата мира вела к реанимации атомистической концепции. Мы видели, что еще Галилей обращался к идеям атомизма. В период конца XVI — начала XVII вв. они получили широкое распространение среди химиков и медиков. Но химики и медики могли это себе позволить, оставаясь вне элитарной академической науки. Для проникновения атомизма в эту науку была необходима христианизация атомистического учения. В философии эту задачу выполнил Гассенди (1592−1655), соединивший идеи Эпикура, Лукреция, Аристотеля и Фомы Аквинского таким образом, чтобы обойти возможные их несоответствия важнейшим положениям христианского догмата. Это тем более было необходимо в связи с изменениями, происходившими в самом менталитете Западной Европы. Еще в XVI в., по словам немецкого физика Макса Лауэ (1879−1960), «великий подвиг Коперника… привлек очень мало внимания, не вызвав ни сочувствия, ни критики», но «с начала XVII в. расширяется круг людей, интересующихся естествознанием настолько, что можно говорить о непрерывном прогрессирующем разви;
6Q.
ТИИ" .
Проблема атомизма имела не только мировоззренческий смысл. Атомизм в физике должен был быть согласован с взглядами математиков, стоявших на позициях аристотелевского континуализма (бесконечной делимости). Выход на этом этапе виделся в том, чтобы резко разделить дискретные представления о строении материи и мир абстрактных математических образов, основанных на континуалистских началах. Характеризуя парадигмальные различия между физикой и математикой своего времени, Гассенди заметил: «Математики в своем царстве абстракции предполагают те неделимые, которые не имеют частей, длины, ширины, и то множество и деление частей, которые никогда не доходят до конца. Не таковы физики, которым, поскольку они вращаются в царстве материи, ничего из этого не дозволено… «[17][18]. В течение долгого времени такое положение казалось вполне удовлетворительным, поскольку позволяло оставлять без внимания антиатомистические возражения математического характера, но оно оставляло открытым и вопрос о строении материи с точки зрения ее субстанциальности. Сам Гассенди в 1642 г. писал: «Хотя математики и предполагают, что любое тело делимо до бесконечности, исходя, разумеется, из предположения о несуществующих вещах, каковы, например, точки, не имеющие частей, линии, не имеющие ширины и т. д., тем не менее, Природа, деля и разрезая тела на частицы, из которых эти тела сотканы, никогда не делит бесконечно или до бесконечности.
Отсюда явствует, что атомы называются так не потому, что они суть математические точки, не поддающиеся рассечению из-за отсутствия у них частей, а потому что, хотя они и являются тельцами, нет такой силы в природе, посредством которой их можно было бы рассечь или разъединить"[3].
Нужно было по-новому определить смысл субстанциальности. По Аристотелю, субстанция есть соединение материи и формы. Субстанции множественны. Природа есть множество сущих и становящихся субстанций. Становление, в которое вовлечены в той или иной мере все субстанции, непрерывно, из чего следует и непрерывность пространства, времени и движения. Материя же есть субстрат формы, но лишенный определенности, он есть чистая потенция. Материя как всеобщий субстрат мира оказывается чем-то физически неуловимым и невыразимым. Требовалось новое понимание, такое, при котором «вне ума нет ничего кроме субстанций и их состояний», лежащих в «природе вещей»[20]. Материя должна была сама стать субстанцией, обратиться во всеобщий субстрат вещного мира, наделенный физическими характеристиками, доступными наблюдению, измерению, пониманию, а состояния субстанциальных единиц должны были определяться наблюдаемыми физическими показателями.
Основы для такого понимания субстанциальности были предложены еще Галилеем: «Думая о материи или телесной субстанции, — писал он, — я подразумеваю, что она ограничена или обладает той или иной формой, что она по отношению к другой больше или не больше, что она находится в том или в другом месте, в то или в другое время, что она движется или находится в покое, одна или много… «[21] Размер, форма, координаты и перемещение — вот все, что характеризует объективно материю, в отличие от вкуса, цвета и запаха, которые имеют своим источником только наши чувства. Иначе говоря, материя мыслится им математизируемой, и там, где математизация кажется недостижимой, причина этого в неумелости исследователя, а не в неопределенности материи.
Но проблема этим еще не решалась. Требовалось создать адекватный математический язык, который бы позволил перейти к математическому описанию природы. По Аристотелю, «математика рассматривает в абстракции некоторые общие свойства материального предмета. В частности, она всецело отвлекается от движения. Когда приходят материя и движение, т. е. предмет становится более конкретным, он перестает быть однозначно определенным и ускользает от математического постижения»[22]. Обращения к атомистическому принципу было недостаточно, и атомизм первоначально, даже в работах таких корифеев, как Р. Декарт или Р. Бойль (1627— 1691), служил инструментом формирования нагл я дно-механических моделей, позволяющих вообразить, что происходит в микромасштабах при том или ином макроявлении, тогда как математическое оформление найденных закономерностей представлялось чем-то второстепенным. Нужно было найти математический аппарат, позволяющий точно описывать движение, перемещение частиц и блоков материи. Эта задача стала решаемой лишь с открытием дифференциального и интегрального исчисления.
Движение к этому открытию потребовало преодоления целого ряда препятствий на пути сближения математики и физики. В 1614 г. шотландский математик Дж. Непер опубликовал «Описание таблицы логарифмов», основанной на соотношении графика скорости как функции от времени с графиком скорости как функции от пройденного пути, т. е. в кинематическом отображении. В 1620 г. швейцарец И. Бюрги разработал и опубликовал «Арифметические и геометрические таблицы прогрессий» разработанные им независимо от Непера. А в 1645 г. Декарт завершил свою «Геометрию», которая включила в алгебру всю область классической геометрии. Сложные кривые — циклоида и геометрическая спираль — все чаще привлекали внимание математиков и механиков, содействуя взаимосвязи двух отраслей познания и в то же время определяя парадигму, которой должна была соответствовать механика в своем развитии: «Так как единственной наукой о природе, обладавшей в известной мере систематическим строением, была тогда механика, а ключ к пониманию механики давала математика, то математика стала рассматриваться как царица наук»[23]. Общим методом стало определение касательных к кривым, поддающееся кинематическому представлению. Дальнейшее развитие аналитической геометрии связано с именами Ферма, Паскаля и др.
В другом направлении, также ведущем к исчислению бесконечно малых, шли работы Кавальери и прежде всего его «Геометрия» (1635 г.), в которой разрабатывалась методика вычислений, равносильная интегрированию многочленов. Значительную роль в развитии математики и механики сыграли работы Дж. Валлиса (16 161 703) и X. Гюйгенса (1629−1695). Так постепенно осуществлялось «слияние, вплоть до отождествления, физической теории и теории математической, которое означало и отождествление соответствующих метатеорий, т. е. принятие единой логики и там и тут»[24].
Новый образ мира. Сближение физики с математикой вело к подлинному перевороту в способах описания мира как в малом, так и в мегамасштабах «эпистемологического разрыва». Реальность, какой видит ее наука, решительно отрывалась от реальности донаучного, в том числе мифологического и религиозного, мышления. Эмпирический опыт, на который опиралась наука, все дальше отходил от чувственных образов обыденного познания. На место чувственной реальности выдвинулась физическая реальность, концептуальный компонент которой, входящий в формируемое знание, был иным, чем компонент обыденного познания. С точки зрения обыденного познания «научное знание имеет дело с реальностью особого рода, а именно с технической реальностью, которая есть не что иное, как артефакт», поскольку «результат научного эксперимента, задуманного как косвенная, опосредованная логическими и математическими связями проверка гипотезы, не перестает быть фактом опыта, но не может считаться и элементом некоего чистого опыта»[25]. Коренным образом и качественно, и количественно изменилось поле возможностей научного описания. Уже не чувственные понятия естественного языка, а специально разработанные и осознанно применяемые концепты: «масса», «скорость», «ускорение», «импульс» «параллелограмм сил» и другие понятия механики, зачастую вообще не имеющие чувственного эквивалента и не выразимые в наглядно-образной форме, заняли место основных средств описания.
Введение
в математику понятия переменной величины, ставшей основой физико-математического описания движения, внесло серьезные методологические изменения в науку. Прежде всего применение понятия материальной точки, соотнесенной с центрами тяжести физических тел, открывало возможность во всех случаях, где можно, абстрагироваться от вращения, описать перемещение тел как движение по траектории вдоль некоторой кривой. В свою очередь, всякая кривая имела свой алгебраический эквивалент — математическую формулу определенного вида, и при наличии заданной системы отсчета всякое движение могло быть представлено как изменение некоторой величины в функциональном отношении ко времени. Принималось, что траектории могут сходиться и перекрещиваться, но не прерываться, поскольку количество движения в мире неизменно. Физика, таким образом, впервые получала набор математически точных средств количественного описания движения. Образ мира, возникший благодаря применению специализированных средств описания, точно так же, как и мир античной протонауки, являлся математизированным (геометризированным) миром, но по способу и результату этой геометризации он существенно отличался от античного и средневекового. Мир Нового времени обладает иной геометродинамикой с изначально заданным числом компонентов. Потенциально он представляется машиной, все детали которой связаны причинно-следственными связями по единообразному закону. В физическом мире нет ничего, кроме материи (которая есть простая протяженность, наделенная формой, но лишенная всех качеств, кроме геометрических) и движения, отождествляемого с перемещением. Тем самым достигается максимальное приближение к описанию мира как геометродинамического процесса. В основе его лежат три закона: два связанные с принципом инерции, третий, утверждающий сохранение количества движения («импульса силы»). Однако этот простой и ясный мир имел чересчур жесткие границы, внутри которых не оставалась места для явлений, не охватываемых математическим описанием, т. е. не выразимых в виде конечных математических формул. Поэтому все явления подобного рода относились к «флюидам», эфиру, ответственному за свет, тепло и тяготение. Это был чуждый теории довесок, уязвимый для внешней критики и представляющий, таким образом, ее слабое место.
С одной стороны, картезианская модель мира благодаря своей ясности и логической связанности завоевала широчайшее признание даже со стороны ее противников. По словам П. Таннери, «ни один богослов, включая Боссюэ и Фенелона, не мог уже обойтись без ее изучения и никто не мог оспаривать превосходство простой и ясной аргументации Декарта над схоластикой и силлогизмами Аквината и Аристотеля»[26]. Но, с другой стороны, физические воззрения картезианства, подобно системе Аристотеля, были построены совершенно априорно и как в трактовке специальных вопросов, так и в освещении общих проблем содержали серьезные ошибки. Не была завершена и революция в математических средствах описания, хотя поворотный пункт был уже пройден. Этим поворотным пунктом в математике «была Декартова переменная величина. Благодаря этому в математику вошло движение и тем самым диалектика, и немедленно стало необходимым дифференциальное и интегральное исчисление, которое тотчас и возникает и которое было, в общем и целом, завершено, а не изобретено Ньютоном и Лейбницем»[27]. Именно они придают новой картине Вселенной завершенный вид.
Лейбниц «искал способ, при помощи которого можно было бы изображать логические операции отвлеченными символами. Эти идеи … он и попытался применить к математическим рассуждениям… По существу, Лейбниц не создал никакого нового метода. Изучая и анализируя придуманные ранее способы решения проблемы квадратур и касательных, он… нашел средства для их символического изображения, т. е. заменил более или менее, сложные искусственные приемы решения вычислениями по единообразным и точно установленным правилам. Благодаря этому ему удалось увидеть то, чего не смогли усмотреть ни Ферма, ни Паскаль, именно, что проблема квадрирования обратна проблеме проведения касательной. Этот факт имел капитальное значение»[28].
Исходя из старой догмы схоластики о единстве онтологии, логики и теории познания (означавшей, что законы логики являются одновременно и принципами бытия природы) и парадигмы нового природознания: «Природа написана на языке математики», — Лейбниц попытался путем онтологизации разработанного им математического аппарата создать философию природы, способную объяснить природу мирового континуума, сущность пространства и времени, законов природы и мирового порядка путем согласования принципов динамики с требованиями математики. По существу, Лейбниц хотел лишь уточнить идею о математике как универсальном языке природы: «природа написана языком исчисления бесконечно малых». Однако первым и непосредственным итогом такой математизации мироздания был, к смущению Лейбница, механический атомизм, представлявший природу в качестве грандиозной мировой машины. Вводя в свою философию понятие монады, Лейбниц тем самым внес в нее двойственность: метафизически монада предстает как деятельность представления и влечения, а с точки зрения физики выступает как материальная точка —центр силы, отличающийся от всех других материальных точек своим физическим состоянием. Такой подход к индивидуации вовсе не обязывал обращаться к понятию монады.
На этот путь встал ученик Лейбница Христиан Вольф (1679- 1754). Он отрицал духовность монад, считая их атомами в реальном пространстве. Материальные монады, будучи непротяженными центрами сил, в соединении образуют материальные тела. Весь мир, на всех уровнях его организации, образует «мировую машину», движение любой части которой детерминировано положением и движением других сопряженных с нею частей, которые, в свою очередь, связаны с остальными частями. Конечные и разделенные сущности машины — ее части — раскрывают бледное, но точное отображение механизма мировых связей. Через дефиницию машины, под которую подводится «весь мир, в том числе и видимый», утверждается упорядоченность его в пространственном и временном отношениях. Машина, по этому определению, есть «сложное бытие, мутации которого возникают в процессе его движения и способа его композиции… Обоснование мутаций в ней означает объяснение механизма мира через его структуру, сцепление, соединение вещей, его образующих, либо объяснение через способ композиции мира — машины, т. е. через законы движения»[29]. Объяснение «через способ композиции» одновременно должно было преодолеть невозможность вывода пространственной протяженности материи из бесконечно малых неделимых и непротяженных точечных элементов мира (называть ли их монадами или атомами) и в то же время обосновать машиноподобность мира.
Такая попытка была предпринята учеником Вольфа хорватским ученым Р. Бошковичем (1711−1787), предложившим силовую модель атома, в которой атомы рассматривались как центры взаимодействующих сил, на близких расстояниях отталкивающие, а на больших — притягивающие друг друга. Однако наиболее перспективным и успешным оказалось иное направление развития механики и вообще математической физики — направление, связанное с именем Ньютона. Его «Математические начала натуральной философии» устанавливали достижение «классической гармонии математической структуры и физической теории»[30]. В этой работе содержится аксиоматическое построение механики и дан закон тяготения. Говоря о «Началах», можно сказать, что Ньютон «не ставил решающих экспериментов в механике, не производил систематического наблюдения планет, но свел научные знания своей эпохи в простую и исчерпывающую систему»[31]. Им определены понятия силы, массы, ускорения, основные законы механики. С введением им понятия изолированной системы описание любых систем как изолированных становится парадигмой научного истолкования.
Особую роль в механике Ньютона играл третий закон —закон равенства действия и противодействия, выражавший механический вариант общего принципа взаимодействия. Эту особенность данного закона отмечал еще Гегель. Действие и противодействие, хотя и разделены динамически, как приложенные к различным телам, одновременны в своем возникновении. Отсюда следует, что время безразлично к происходящим в нем процессам, обращено в абсолютное время. Это абсолютное, истинное математическое время само по себе и по своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и называется также длительностью. Оно выступает как абсолютная нейтральная система отсчета. Вселенная оказалась необъятным собранием неизменных элементов, все изменения в котором сводятся к изменению их позиций в пространстве, а эволюция Вселенной может быть представлена как смена мгновенных пространственных срезов, картин пространственного размещения элементов. Таким образом, Вселенная лишается истории. Ее происхождение, происхождение ее подсистем и структур, согласно Ньютону, естественными причинами не объяснимо. В этом смысле «физика Ньютона исследовала не сущности, а функции, она не доискивалась до сути тяготения, но довольствовалась тем, что оно есть на самом деле и что им объясняются движения небесных тел и земных морей»[32]. Она-то и стала фундаментом и образцом для всей физики Нового времени вплоть до конца XIX в. «Ньютон заставил физику мыслить по-своему, классически, как мы выражаемся теперь… Можно утверждать, что на всей физике лежал индивидуальный отпечаток его мысли: без Ньютона наука развивалась бы иначе»[33].
Однако такая победа была достигнута ныотонианством далеко не сразу. Созданная Ньютоном теория движения небесных тел, основанная на сформулированном им законе всемирного тяготения, быстро нашла признание на родине Ньютона, в Англии, однако была встречена в штыки в континентальной Европе. Картезианцы и вольфианцы отстаивали свой подход, предпочитая континуализм дискретизму ныотонианского атомизма. Они отвергали идею абсолютного времени и пустого пространства как простого вместилища атомов, настаивая на декартовской, нестрогой трактовке второго закона механики. Убедительным доводом в пользу Ньютона стало обнаружение приплюснутости земного шара у полюсов вместо выпуклостей, предсказывавшихся механикой Декарта. Большую роль сыграли также сделанные французским астрономом А. Клеро (1713−1765) расчеты возмущающего действия Юпитера и Сатурна на движение кометы Галлея. Но окончательное подтверждение теория Ньютона в области небесной механики получила только в 1846 г. с открытием планеты Нептун, основанном на расчетах возмущений орбиты Юпитера.
Теория флюидов. И все-таки победа ньютони&нства не была полной. По крайней мере в одном отношении Декарт оставил прочный след. В трактатах «Мир» и «Начала философии» он заложил основы учения о флюидах — «невесомых жидкостях», существовавшего в физике вплоть до XIX в. Концепция флюидов как временное модельное представление об области действительности, не охватываемой единой системой механистического описания, стала дополнением к атомизму в рамках классической физики. Физика, как и прежде, следовала механике как своему образцу, но тепловые, электрические, оптические, химические явления оставались слабо изученными; именно к ним и применялись флюидные модели. Поскольку с помощью одного единственного вида «невесомой жидкости» объяснить все эти явления не удавалось, число флюидов, наделявшихся разными, соответствующими типу физического явления свойствами (теплород, эфир, флогистон, магнитные флюиды и пр.), стало быстро увеличиваться. Это вело к тому, что физическая наука все дальше отклонялась от своего идеала — описания всего существующего на основе единой системы универсальных законов.
В совокупности концепции флюидов представляли собой конгломерат слабо связанных между собой гипотез ad hoc. Каждая из них разрабатывалась для решения отдельной проблемы путем стихийного обращения к моделированию по типу «черного ящика», когда условно подбирается и формируется модель оператора, преобразующего вход в выход, притом такая, которая может быть описана средствами математической физики. Оправданием применения таких моделей служило то, что они, во-первых, соответствовали требованиям формальной логики, т. е. представлялись достаточного обоснованными и внутренне непротиворечивыми (хотя и находящимися иногда в отношениях противоречия с другими разделами науки) и, во-вторых, то, что реальность, описываемая этими моделями считалась лежащей за пределами наблюдаемости, тогда как сами модели были вполне наглядными. А ведь именно наглядность, а не реальная наблюдаемость, оставалась основным эвристическим приемом на протяжении всей этой эпохи. Формально утверждаемый приоритет эксперимента на практике часто подменялся идеальным, мысленным экспериментом над наглядной идеальной же моделью.
- [1] Морду хай-Болтооский Д. Д. Философия. Психология. Математика. М., 1998. С. 70.
- [2] Вернадский В. И. Избранные труды, но истории науки. С. 38.
- [3] Там же.
- [4] Антология мировой философии. В 2 т. Т. 2. М., 1970. С. 225.
- [5] Цит. по: Югикеоич А. П. История математики с древнейших времен до начала XIX столетия. Т. 1. М., 1970. С. 10.
- [6] Коперник У/. Очерк нового механизма мира// Антология мировой философии. Т. 2. С. 118.
- [7] Цит. по: Климшин И. А. Астрономия вчера и сегодня. Киев, 1977. С. 94.
- [8] Цит. по: Уитни Ч. Открытие нашей Галактики. С. 29.
- [9] Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. С. 35.
- [10] 02 Куэанский Н. Соч. С. 131.
- [11] Коперник Н. Очерк нового механизма мира. С. 118.
- [12] Бруно Док. Диалоги. М., 1949. С. 295.
- [13] Уитни Ч. Открытие нашей Галактики С. 18.
- [14] Кеплер И. О шестиугольных снежинках. М., 1982. С. 65.
- [15] Там же. С. 64−65.
- [16] Картер Б. Совпадение больших чисел и антропологический принцип в космологии// Космология. Теории и наблюдения. М., 1978. C.3G9.
- [17] Лауэ М. История физики. М., 1956. С. 6.
- [18] Цит. по: Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до началаXIX века. М., 1965. С. 195.
- [19] Там же.
- [20] Спиноза Б. Избранные произведения. Ростов-на-Дону, 1998. С. 329−330.
- [21] Галилей. Избранные труды. М., 1954. С. 173.
- [22] Зубов В. П. Развитие атомистических представлений. С. 209.
- [23] 7*Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики. М., 1990. С. 128.
- [24] Погребысский И. Б. От Лагранжа к Эйнштейну. М., 1996. С. 310.
- [25] Старее D. Б. Эволюция современной французской философии науки//Критика современных немарксистских концепций философии науки. М., 1987. С. 140.
- [26] 7STawiepu П. Исторический очерк развития естествознания в Европе. 1934.С. 82.
- [27] Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 29. С. 573.
- [28] Таннери П. Исторический очерк… С. 9G.
- [29] Основы онтологии. СПб., 1997. С. 55.
- [30] Погребисский И. Б. От Лагранжа к Эйнштейну. С. 312.
- [31] Уитни Ч. Открытие нашей Галактики. С. 43.
- [32] Реале До*с.} Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.Т.З. СПб., 1996. С. 147.
- [33] Вавилов С. И. Исаак Ньютон. М., 1061. С. 194.