И последнее.
Встречная исповедь.
Психология общения с документальным героем
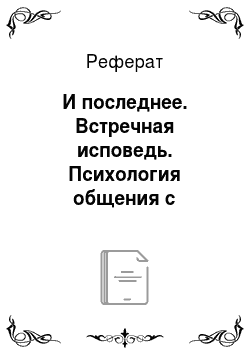
Анатолий Аграновский (многими в течение десятилетий считавшийся у нас журналистом № 1) в одной из своих книг вспоминал об уроке, который ему преподал Александр Бек. Вместе с ним он однажды попал к известному авиаконструктору. Тот принял их в генеральском мундире, в огромном кабинете, с длинной ковровой дорожкой, ведущей к массивному столу, за которым сидел конструктор, а рядом находился его же… Читать ещё >
И последнее. Встречная исповедь. Психология общения с документальным героем (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Анатолий Аграновский (многими в течение десятилетий считавшийся у нас журналистом № 1) в одной из своих книг вспоминал об уроке, который ему преподал Александр Бек. Вместе с ним он однажды попал к известному авиаконструктору. Тот принял их в генеральском мундире, в огромном кабинете, с длинной ковровой дорожкой, ведущей к массивному столу, за которым сидел конструктор, а рядом находился его же мраморный бюст. Аграновский оробел. Бек же в три минуты заставил конструктора стать самим собой. Вот как вспоминал об этом сам журналист. «Этот кто вас делал, Виленский?» — спросил Бек, кивая на бюст. Удивленный конструктор подтвердил. Бек посмотрел на него, посмотрел на бюст, сравнивая. Наконец, сказал: «А это ведь было трудно — дать сочетание высокого интеллектуального лба с курносым простонародным носом и безвольным подбородком… В общем, получилось». И конструктор на глазах превратился из генерала в обычного человека, который готов был запросто говорить со своими гостями о жизни.
Уже после встречи Бек рассказал своему спутнику, что он заблаговременно выяснил, что в кабинете есть бюст (за коробку конфет попросил заранее секретаршу генерала показать ему кабинет), и предварительно узнал, что автор бюста — скульптор Виленский. Видимо, не так уж наивно старое утверждение о том, что всякий удачный экспромт должен быть заранее подготовлен.
Четырехчасовому (впоследствии сокращенному до пятидесяти минут экранного времени) разговору с вольнонаемником Конго-Мюллером предшествовал год работы! Речь идет о картине восточногерманских документалистов «Смеющийся человек» (1966), которую Михаил Ромм назвал «фильмом века». Для съемки авторы сняли частную студию в Мюнхене, не посвящая ее хозяев в то, какую именно страну они представляют (их герою и в голову не могло прийти, что германские кинорепортеры — его политические противники). Документалисты предусмотрели более сотни вопросов и несколько сот возможных ответов, не говоря уже о предполагаемых переходах от темы к теме. Операция «Ко-Мю» была разработана до мельчайших деталей — от угощения в изысканном ресторане (жаркое из косули и нежная лососина) и дефицитной контрамарки для фрау Мюллер на музыкальное ревю «Моя прекрасная леди», идущее как раз в те часы, когда ее супруг должен был беседовать с журналистами (присутствие ее на беседе могло бы привести к срыву всей операции). Даже пристрастие майора к анисовой водке, этому излюбленному напитку современных ландскнехтов, было заблаговременно учтено в предложенном ему широком ассортименте спиртного.
«Приступая к беседе, мы знаем о человеке, который сидит перед нами, буквально все, иногда даже больше, чем он сам помнит о себе». Это утверждение авторов фильма, как и их признание, что над картиной они работали один год и четыре часа, — не риторический оборот.
«Прежде всего хотелось бы уточнить одно обстоятельство: как вы хотите, чтобы вас называли? Просто, как общепринято „господин Мюллер“, или „господин майор“, или „майор Мюллер“? Что вы предпочитаете?» — так начали они свое киноинтервью. Отлично понимая, что самое важное — не их слова, а признания собеседника, они предоставили ему для этого все возможности.
Господин майор представления не имел, что присутствует не на акте признания его героической деятельности, а, скорее, на судебном процессе, на следствии, каким становится этот фильм-интервью.
Сидя в кресле с бокалом спиртного и дымящейся сигаретой, с улыбкой, не сходящей с лица, вчерашний нацист в форме майора парашютно-десантных войск рассказывает об африканских карательных экспедициях. Он говорит о них словно об увлекательных путешествиях, заверяет, задумчиво покачивая сигаретой: «Если быть честным и откровенным, я вообще против убийств» (в то время как кадры хроники демонстрируют на экране искаженные пытками лица пленных и массовые расстрелы); отхлебывает из бокала: «Я против того, чтобы проливать кровь» (а на экране мы видим африканца в предсмертных судорогах и тело расстрелянного мальчишки, слышим за кадром треск автоматов).
Свидетельства, предъявляемые экраном, обнаруживают реальную стоимость его фраз. И все же самая разительная улика — даже не эти беспощадные доказательства. Самая поразительная улика — он сам. Его благодушие. Сигарета. Бокал. И улыбка.
Не то, что он пытается скрыть, чтобы выглядеть добродетельным, а то, чего он скрывать не пытается.
Улыбка майора наемных войск, опьяневшего от ощущения собственного величия и от привычно срывающихся глаголов «уложить», «расстрелять», «ухлопать», «прикончить», на наших глазах становится едва ли не главным свидетелем обвинения.
Отлично понимая, что их герои не слишком расположены к откровенности, да еще перед кинокамерой (наемный легионер, начальник концлагеря, глава военной хунты, гадалка из Бонна), документалисты давали им возможность предстать на экране такими, какими сами они хотели бы выглядеть, сыграть те роли, в которых они сами хотели бы выступить. Нет, авторы хроник не провоцировали своих персонажей на откровенность, как считали иные критики, полагавшие, что подобного рода военная хитрость вполне правомерна в экранном поединке с противником. Если и можно говорить тут о провокации, то не душевных излияний, а лицедейства. На экране откровенность не мысли, но маски. Собеседнику предоставляют свободу лукавить, хитрить, притворствовать. И чем успешнее он осуществляет свое намерение, тем разоблачительнее последующий эффект.
Улыбающиеся каратели. Благородные диктаторы. Сентиментальные палачи. Своего рода документальный театр социальной маски. Размаскированный маскарад.
Завершая этот раздел беседы, приведу прекрасную притчу о музыканте, который, когда ему было двадцать, без тени сомнения восклицал: «Только я!». В двадцать пять он высказывался уже более осторожно: «Я… и Моцарт». В тридцать стал еще осмотрительнее: «Моцарт… и я». И лишь с возрастом обрел уверенность: «Только Моцарт!».
Повторим еще раз: чтобы быть хорошим интервьюером, надо обладать талантом любить людей. Каждый собеседник для журналиста, вступающего в диалог перед камерой — только Моцарт (за исключением, разумеется, случаев, когда перед ним Сальери).
Не принижает ли достоинства документалиста такая апология собеседника? Не умаляет ли ценность его собственного присутствия на экране? Нет и нет. Ибо только собственной глубиной мы способны измерить глубину партнера по диалогу. Только собственной искренностью вызвать ответную искренность. Собеседник доверяет тебе настолько, насколько ты доверяешь себя ему.