Лекция VI КРЕЩЕНИЕ РУСИ
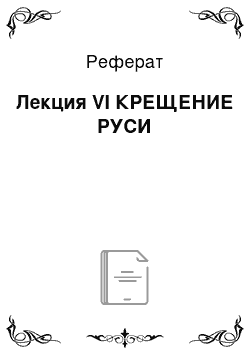
Е. В. Аничков сделал весьма любопытную попытку вскрыть даже в рассказах летописи о поведении Владимира-язычника политические мотивы 53. Он исходит из текста Повести временных лет о том, как Владимир, «постави кумиры на холму внЪ двора теремнаго Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, а Хърса, Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь» Надо признать с А. А. Шахматовым, что это текст… Читать ещё >
Лекция VI КРЕЩЕНИЕ РУСИ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Но важнейшее из исторических деяний Владимира не в этом.
Введение
христианства на Руси было не только огромным культурно-историческим событием, но и актом, который имел не меньшее политическое значение, так как подводил под еще не прочное здание молодого государства новый фундамент культурного единства.
К сожалению, история этого важнейшего исторического события весьма темна и запутанна благодаря своеобразному состоянию наших источников.
Сложной была и сама историческая обстановка этого события. Оно явилось результатом весьма сложного скрещения культурных течений и политических отношений как на русской почве, так и на византийской. В центре их изучения — русско-византийские отношения времен Владимира 48. Главный источник для них — арабско-византийский писатель Яхъя Антиохийский. Христианин Иоанн, родственник александрийского патриарха Евтихия, писавшего по-арабски и под арабским своим именем Саида Ибн Батрика хронику «Нить драгоценных камней», врач по образованию и деятельности, составил продолжение хроники ЕвтихияСаида также по-арабски [и известен под своим арабским именем Яхъи Ибн Саида]. Для нас существен рассказ Яхъи Ибн Саида о событиях 986—989 гг.
В конце 986 г. командующий азиатской армией Византии Варда Склир поднял восстание против Василия II. Весной 987 г. император призвал против Склира бывшего в опале Варду Фоку из заточения в монастыре на острове Хиосе. В сентябре 987 г. Фока захватил Склира, но сам себя провозгласил императором, а к концу 987 г. дошел со своим войском до Хризополя, крепости на малоазийском берегу, напротив Константинополя.
«И стало опасным дело его, — продолжал Яхъя Ибн Саид, — был озабочен им царь Василий по причине силы его войск и победы его над собой. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю руссов, — а они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении; и согласился тот на это. И заключили они между собой договор о свойстве и женитьбе царя руссов на сестре царя Василия (однако возможен и такой перевод: и женился царь руссов), после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его страны, и они народ великий. Не причисляли себя руссы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов, а те окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране руссов. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска руссов и соединились с войсками греков, какие были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушею к Хризополю. И победили они Фоку». 13 апреля 989 г. Василий II вторично разбил Фоку при Абидосе, и в этой битве пал сам Фока, «и была продолжительность его бунта один год и семь месяцев».
Ход событий по этому рассказу следующий: когда Фока дошел до Хризополя, т. е. к концу 987 г., император Василий обратился к царю руссов за помощью и заключил с ним договор о помощи и свойстве, под условием крещения не только личного, но и официального всей страны. Само крещение и брак совершились впоследствии, а войска руссов пошли на выручку тотчас, «когда решено было между ними дело о браке», т. е. по заключении договора. Еще в апреле 988 г. Василий в грамотах своих говорит о положении дел безнадежным тоном: победа над Вардой Фокой при Хризополе произошла, очевидно, позднее. Восстание усмирено в апреле 989 г., когда погиб Фока под Абидосом, но до ноября 989 г. Василий занят борьбой с заново восставшими Склиром и сыном Варды Фоки Львом. В марте 990 г. он уже обращается против болгар, которые, пользуясь смутой, разорили византийские области до самого Солуня. Русские войска все время и позднее (999, 1000, 1003 гг. и далее) действуют в составе малоазийской армии императора. Очевидно, их нельзя себе представить как «вспомогательное войско» от киевского князя: он организовал «варяжский корпус» и послал его императору для поступления на византийскую службу, как раньше «указывал путь» в Византию варягам, помогшим ему отнять Киев у Ярополка.
В этот ряд фактов клином врезается известие о взятии Владимиром Корсуни.
Лев Диакон описал в 10 книгах историю своего времени с 959 до 976 г., а продолжение его труда за годы 976—1077 составил Михаил Пселл. В этом продолжении упомянуто небесное знамение (явление огненных столпов) и истолковано как предвещание взятия Веррии Самуилом Болгарским и Корсуни Владимиром; дату этого знамения сообщает Яхъя: 7 апреля 989 г., стало быть, взятие Корсуни произошло после этого, также летом 989 г., как и взятие Веррии (действительно павшей летом 989 г.). О другом знамении, которое произошло 27 июня 989 г., в Хронике Льва Диакона, т. е. ее продолжении Пселлом, сказано, что оно предвещало октябрьское землетрясение. Отсюда заключают, что, по Пселлу, взятие Херсонеса Владимиром произошло между апрелем и июнем 989 г., как раз после падения Фоки под Абидосом.
Какая могла быть причина войны вчерашних союзников? «Возможен, — говорит В. Р. Розен, — только один ответ: Корсунь была взята с целью принудить Василия к исполнению какогонибудь или каких-нибудь существенных условий договора», и полагает, что византийцы, избавившись от опасности, медлили с выдачей за Владимира царевны Анны. Ведь незадолго перед тем они ответили императору Оттону Великому, который сватал за сына царевну, дочь императора Романа II: «Inaudita res est ut porphirogenita, hoc est in purpuro nati filia, in purpure nata, gentibus misceatur» ["Неслыханная вещь, чтобы порфирородная, то есть дочь рожденного в пурпуре, рожденная в пурпуре, вступала в брак с варваром"] (968 г.). А если для них был варваром новый император Запада, то тем более «царь руссов». Только мир, закончивший корсунскую войну, привел к браку Владимира с царевной Анной ценою возврата Корсуня грекам «за вено — царицы деля».
Много сложнее вопрос о самом крещении Владимира. О нем имеем ряд противоречивых русских известий. Важнейшие, по их анализу, работы принадлежат А. А. Шахматову 4-9 и Н. К. Никольскому 50. Текстов об этом крещении немного: 1) летописные рассказы Новг. I и Повести временных лет; 2) древнейшее Житие Владимира, сохранившееся в позднейшей редакции, но в нем весьма архаична выписка из летописи старшей, чем наши своды; 3) «Память и похвала русскому князю Владимиру» Иакова Мниха, составленная, вероятно, после колонизации Владимира, т. е. в конце XII—начале XIII в.; 4) обычное Житие Владимира; 5) проложное житие; 6) «Слово о том, како крестися Владимир, возмя Корсунь», так называемая Корсунская легенда; 7) переработка жития в разных редакциях (Чудовский список, Плигинский сборник, позднейшая редакция); 8) летописный рассказ позднейших сводов51.
Сравнительное изучение всех этих текстов, их взаимоотношения и т. д. составляют весьма сложную историко-литературную задачу, которую далеко еще нельзя считать законченной. А общая цель ее — выяснить источники наших текстов, общие и разные у них, выяснить и манеру пользования ими, которая привела к тем текстам, какие имеем. А ведь не эти тексты, строго говоря, должны историку служить первоисточниками, а те, древнейшие, до нас не дошедшие, поскольку возможно их разглядеть сквозь переделки и искажения позднейших редакций.
Даже старшие из дошедших до нас текстов очень неполно отражают свои первоисточники, а компилированы из них с переделками и дополнениями. А когда мы находим в позднейших памяниках письменности, например в летописных сводах XV и XVI вв., упоминания о фактах, которых нет в старых памятниках (например, известие Никоновской летописи о сношениях Владимира с Римом), мы оказываемся перед трудно разрешимым вопросом, что тут: позднейший ли вымысел и домысел или черта старинных первоисточников, ускользнувшая или намеренно пропущенная более древними памятниками, а восстановленная позднейшим книжником, который мог иметь под руками материал, до нас не дошедший?
Из всех текстов, какими мы располагаем, видно, что уже в XI—XII вв., в эпоху Повести временных лет и Начального свода, существовали различные и несогласные между собой версии сказания о крещении Владимира. Идет в них перебой киевских и корсунских преданий, притом в таких книжных обработках, которые не просто обрабатывали старый материал, а подгоняли его под определенные тенденции церковно-политических воззрений и интересов, не стесняясь заменой одних фактических сведений другими. Момент сознательного искажения исторической действительности несомненен в этой письменности и ярко освещен в трудах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. А сверх того, предания о крещении Владимира в наших письменных памятниках подверглись сильному воздействию тогдашнего книжнического творчества.
В приемах этого творчества надо отметить две особенности: его близость к приемам народного эпоса и его подражательность чужим, болгарским и византийским, образцам. Древнерусский книжник ведь и сам представитель того типа народной исторической памяти, которая легко идет по пути слияния разновременных сходных событий в одну типическую картину (например, «испытание веры»), перестановки конкретных деталей из одного рассказа в другой, по аналогии и по склонности представлять себе события в готовых эпических образах и формулах. На той же почве возникло и своеобразное подражание чужим литературным образцам. Я разумею одно историко-литературное явление, характерное для древнерусской агиографии, для исторических повествований: литературная подражательность выражается не только в усвоении общих приемов изложения, но и готовой фразеологии, которая целиком переходит из одного текста в другой при малейшем сходстве содержания, а в него переходят и элементы самого содержания, не исключая иной раз и фактической стороны изложения. Этот прием сказывается особенно ярко в древней русской литературе житий, сказаний, похвальных слов, но не чуждо ему и летописание (ср., например, описание походов на половцев под 1103 и 1111 гг. по Ипатьевской летописи).
А. А. Шахматов выдвинул гипотезу о том, что на летописном Сказании о крещении Владимира сказалось влияние болгарского Сказания о крещении князя Бориса, гипотезу весьма соблазнительную, так как ею объясняются некоторые черты русского сказания, иначе непонятные, например имя — по некоторым спискам — грека-философа, проповедовавшего Владимиру христианство, Кирилла, и некоторые другие. Таким образом, критика наших источников по истории крещения Владимира и Руси разрастается в большую историко-литературную работу над группой текстов, составители которых преследовали цели не исторического повествования, а церковного поучения и проведения в сознание читателей определенных церковно-политических тенденций, притом памятников не вполне оригинальных, а отчасти даже переводных и в значительной мере подражательных по отношению к болгарским и византийским образцам. В своем изложении я могу остановиться только на главнейших вопросах, поднятых этой работой, поскольку они касаются фактической стороны утверждения христианства на Руси.
На первом месте — вопрос о взаимном отношении трех событий: крещения Владимира, крещения Руси и взятия Корсуня, причем под «крещением Руси» разумею не сцену в водах Почайны, а установление на Руси церковного строя — иерархии, миссионерства. Обычный рассказ по Повести временных лет сливает эти три события в один исторический момент. Но составитель Повести временных лет, а вернее, его ближайший источник, Начальный свод, Киево-Печерский временник игумена Иоанна, не скрыл от нас, что ему было известно предание, излагавшее последовательность и связь событий иначе. «Се же, — пишет он с укоризной, — не сведуще право глаголютъ, яко крестилъся есть (Владимир) в КиевЪ, инии же рЪша — в Василеве (на реке Стугне; в 996 г. Владимир построил тут церковь Преображения), друзии же инако скажютъ».
Действительно, в древнейшую редакцию Жития Владимира попал отрывок летописной записи, где читаем:
«На другое лЪто къ порогомъ ходи по крещении; на третье лето взятъ Корсунь; на четвертое лЪто церковь камену святые Богородици (Десятинную) заложи; на пятое лЪто Переяславъ заложи, на девятое лЪто блаженный князь Владимир, христолюбивый, церкви святые Богородици вдаде десятину отъ имЪния своего». Сама датировка не по годам от сотворения мира, а счетом лет от одного события до другого, обличает древний тип летописных записей, еще не примкнувших к хронологической сети какого-либо летописного свода; быть может, житие взяло эти строки из записей при Десятинной церкви?
Тут взятие Корсуня — на третье лето по крещении Владимира. Это указывало бы при сопоставлении с сообщениями Яхъи Антиохийского и Льва Диакона (Пселла) на личное крещение Владимира в конце 987 г., т. е. немедленно по заключении им договора с Василием II «о сватовстве и женитьбе». Этот расчет подтверждается и словами того же жития, что «по святомъ крещении поживе блаженной князь Владимиръ лЪтъ 28». Владимир умер 15 июля 6523/1015 г. Стало быть, житие относит его крещение к 987 г. Наконец, намек на крещение Владимира в 987 г. можно найти и в Повести временных лет как плохо затушеванный след старшего ее источника. Ведь под 987 г. Повесть временных лет рассказывает о совещании Владимира с боярами о том, «гдЪ крещенье приимемъ», но на их ответе, «гдЪ ти любо», прерывает изложение сколько-нибудь понятной связи событий и вместо сообщения о крещении переходит к рассказу о походе на Корсунь, вставя дату «в лЪто 6496» (988 г.) в середину фразы: «И минувшу лЪту в лЪто 6496 иде Владимиръ съ вой на Корсунь», — притом в явном противоречии со словами «минувшу лЪту» (после 987 г., что дало бы взятие Корсуня в 989 г., согласно Яхъе и Льву Диакону). Надо признать с Шахматовым, что в древнейшем Киевском летописном своде за рассказом о проповеди «грека-философа» следовал «не дошедший до нас рассказ о крещении Владимира в Киеве» (или Василеве?). Причем А. А. Шахматов полагает, что тогда же крестились и сыновья Владимира и бояре его Летопись наша строит свой рассказ иначе, из элементов весьма разнородных. Под 986 г. Повесть временных лет дает рассказ о приходе к Владимиру проповедников различных вер — болгармагометан, немцев, евреев хазарских. Перед нами поистине эпическая картина, уснащенная народным юмором и полемически злыми выходками. Но она может иметь в основе кое-какие обрывки реальных исторических воспоминаний. Вспомним известия западных хроник (Регинона и Хильдесхеймской) о сношениях Ольги с Оттоном и посылке на Русь епископа из Германии, вспомним неведомо откуда взятые известия позднейших сводов — Никоновской летописи — о приходе из Рима послов к Ярополку (979 г.) и сношениях с Римом Владимира. А. А. Шахматов и их считает случайными литературными заимствованиями из болгарской Повести о Борисе болгарском. Но это как-то плохо вяжется с их летописной формой и обилием: 988 г. — «приходиша послы из Рима от папы и мощ святых принесоша к Володимеру»; 991 г. — «приидоша к Володимеру послы из Рима от папы с любовью и честью»; 994 г. — «послы Володимеровы приидоша в Киев иже ходиша в Рим к папе»; 1000 г. — «приидоша послы от папы Римского»: 1001 г. — «посла Володимер гостей своих, аки в послех в Рим». А с другой стороны, в одном арабском сочинении XIII в., в «Сборнике анекдотов» Мухаммеда ал-Ауфи, находим рассказ о посольстве Владимира (Буламира) в Ховарезм с разговорами о желании Руси принять мусульманство и о посольстве на Русь мусульманского имама для обращения в магометанскую веру. Встречи Киевской Руси с еврейской пропагандой при сношениях с хазарами и наличности евреев-купцов в Киеве более чем вероятны. При международных сношениях Руси как отдельные факты разноверного миссионерства, так и народные рассказы на эту тему могли лечь в основу той эпически обобщенной формулы, какую с литературной точки зрения представляют летописные рассказы о беседах Владимира с представителями разных религий и о его посольствах для «испытания веры» в разные страны.
Такой же литературной легендой, но уже книжнического типа, выступает рассказ о приходе к Владимиру греческого «философа» для проповеди. Все приписанные ему речи без остатка разлагаются на элементы литературной компиляции из памятников переводной церковно-славянской письменности, частью позднейших по времени. Нет повода думать, что тут хоть что-нибудь восходит к «современной» записи. А. А. Шахматов и самую схему рассказа, и его основные мотивы считает подражанием какому-то до нас не дошедшему болгарскому рассказу о крещении Бориса.
А за этими моментами летописного рассказа идет описание корсунского похода, взятия Корсуня и крещения Владимира в Корсуне. Рассказ этот, уснащенный также и эпическими и житийно-литературными чертами, в общем выдает свое корсунское происхождение хорошим знакомством с топографией Херсонеса. Это греческое по своему происхождению сказание вышло, вероятно, из среды корсунского духовенства, сыгравшего видную роль в организации русской церкви. Его успех в русской традиции придал ему значение официальной церковной версии, устранив другие киевские предания, отделявшие крещение Владимира от корсунских событий. Оно, это корсунское сказание, явилось орудием определенных церковно-политических тенденций, торжество которых было закреплено внесением «корсунской легенды» в Начальный свод в ущерб прежним русским известиям о крещении Руси и исторической правде.
Выяснение этих тенденций связано с другим вопросом — о первоначальной организации русской церкви. И этот вопрос, пожалуй, еще больше запутан противоречиями источников, чем история самого крещения.
Весь уклад деятельности Владимира — строителя Киевского государства — и связь истории его крещения с русско-византийскими отношениями делают несомненным, что вопросы политические играли значительную роль в самом решении Владимира принять христианство и в том, как он это решение выполнил.
Е. В. Аничков сделал весьма любопытную попытку вскрыть даже в рассказах летописи о поведении Владимира-язычника политические мотивы 53. Он исходит из текста Повести временных лет о том, как Владимир, «постави кумиры на холму внЪ двора теремнаго Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, а Хърса, Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь» Надо признать с А. А. Шахматовым, что это текст, развитый и дополненный позднее нагромождением имен сомнительных богов русского «Олимпа», но едва ли он прав, сводя первичную редакцию к словам: «постави кумиры на холму вн* двора теремнаго». Дело в том, что варианты Радзивилловского и Академического списков не раз дают лучшие чтения, чем основной Лаврентьевский: «кумир» — указывает на текст, где был назван один Перун, который и в договорах с греками — один, рядом с Велесом, чей идол (каменный) стоял в Киеве в ином месте — на Подоле, на торгу. А чтение «Володимиръ постави кумиръ на холму внъ двора теремнаго, Перуна древяна и главу его сребрену, и творяще потребу ему съ людьми своими» в соответствии дальнейшему (новгородскому) известию — «Володимиръ же посади Добрыню в НовЪгородЪ, уя своего, и пришедъ Добрыня къ Новугороду, постави кумиръ (Перуна кумиръ. — Новг. I) надъ рекою Волховомъ, и жряху ему людье новгородьстЪи, акы богу», лучше еще подходило бы к построению Аничкова. Чтение же это представляется наиболее вероятным как древнее, первоначальное. Так вот Аничков толкует этот текст как попытку «объявить свой военно-дружинный культ общим культом». Культ Перуна, «дружинно-княжеский культ киевских Игоревичей», получает новое значение, когда «князь и дружина» окончательно превратились в «политическую власть» на Руси, т. е. при Владимире. Владимир в связи с этим затеял «религиозно-политическую реформу», поставил богатый идол Перуна «внЪ двора теремнаго», т. е. «предназначил этого бога для общественного поклонения» (так толкует этот акт Владимира и Ф. Е. Корш) 54 Все это построение Аничкова опирается на весьма ценный анализ древнерусского язычества, с одной стороны, а с другой, на представление, что дружина была первоначально особым, замкнутым в себе, учреждением — с особым своим внутренним строем как «огнище» князя и своим особым культом, а затем развертывается в настоящую политическую силу. К этим весьма, помоему, ценным построениям я вернусь, когда буду говорить о дружине. А пока отмечаю только «религиозно-политические» мотивы деятельности Владимира-язычника ради аналогии, какую находим для них в его действиях как просветителя Руси христианством.
Общий исторический смысл образования Киевского государства — в южной ориентировке всей восточнославянской жизни. Оно, по выражению А. А. Шахматова, «ослабило связь севера с центрами балтийской культуры и повернуло Новгород лицом к Киеву и Царьграду; разрушение Хазарского царства оторвало вятичей от восточных владений и повернуло также и их лицом к юго-западу». Но в частностях шахматовская оценка исторического смысла Владимировых времен не совсем понятна. «Приобщением государства к византийской цивилизации, — пишет он, — Владимир дал ему определенный облик и создал могущественные средства для внутреннего единения». Про поход Владимира на греков (корсунский) А. А. Шахматов говорит, что его цель «установить непосредственное общение с греческой культурой, проникавшей раньше через посредство Болгарии». А между тем, по А. А. Шахматову же, «не подлежит сомнению, что Владимир принял веру именно от болгар и что в X в. Киев поддерживал самые оживленные сношения именно с Болгарией». «Киев, объединяя русские племена Поднепровья и соседних северных областей, является проводником особой культуры, которую можно назвать южнорусской». Эта культура взращена разнородными влияниями: византийскими и малоазийскими с сильным восточным элементом — через Крым, Кавказ (ясы, касоги, хазары) и через кочевников; северными — варяжскими, западными, романо-германскими, — через Чехию и Польшу. На первом месте по значению, глубине и силе стоит именно болгарское влияние. «Для историка русской культуры, — пишет А. А. Шахматов, — в частности и языка, это обстоятельство имеет большое значение: Киев получил через Болгарию то могущественное орудие духовного просвещения, которое сделало его духовным центром всех русских племен и содействовало их объединению: получив из Болгарии христианство, Киев одновременно заимствовал оттуда книжный язык». Но все эти несомненные и важнейшие явления в истории русской культуры остаются в источниках наших без сколько-нибудь достаточного исторического комментария. «Момент, сыгравший чрезвычайную роль в деле объединения русских племен в создании единой для всего русского народа южнорусской культуры», с фактической, бытовой своей стороны весьма нам плохо известен Как ни строго отнеслась наша ученая критика к труду М. Д. Приселкова «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.», нельзя не признать, что это единственный труд, в котором сделана серьезная попытка разрешить историческую загадку болгарских основ нашей древней киевской культуры в связи с ранней историей русской церкви 55. Приселков, как и Шахматов, признает, что Владимир принял крещение в конце 987 г., тотчас по заключении договора с императором Василием II, причем говорит об этом так: «Владимир крестился вместе с семьей и боярами, а может быть, и народом; уже христианином киевский князь оказал военную помощь императору Василию и спас его колебавшийся трон». Далее, основной вопрос о введении на Руси православной церкви, т. е. об установлении церковной иерархии. Старейшие источники, поскольку они отразились в Повести временных лет и в Новг. I, не знают при Владимире никакого митрополита на Руси.
Повесть временных лет сообщает, что Владимира окрестил в Корсуни «епископ корсуньский с попы царицыни», а потом повенчал его с «царицей». О возвращении Владимира из Корсуня в Киев Повесть временных лет пишет: «Володимеръ же посемъ поемъ царицю и Настаса и попы корсуньски, с мощми святаго Климента и Фива, ученика его, пойма съсуды церковный и иконы на благословенье себь». В дальнейшем его советники — епископы. О митрополите или архиепископе нет и помину. То же и в Новг. I. Однако кто же такой Анастас Корсунянин? По построении храма св. Богородицы Владимир «поручи ю Настасу Корсунянину и попы корсуньскыя пристави служити в ней, вдавъ ту все, еже бъ взялъ в Корсуни: иконы и съсуды и кресты». Церкви этой он дал «отъ имЪнья моего и отъ градъ моихъ десятую часть», «и вдасть десятину Настасу Корсунянину». Этот Настас выступает еще сперва в рассказе, где ему приписано изменническое содействие Владимиру при взятии города, а затем уже, по смерти Владимира, в истории господства польского короля Болеслава в Киеве, когда он захватил Киев, придя на помощь Святополку против Ярослава: Болеславу пришлось бежать из Киева, ибо население стало избивать ляхов, и он «побЪже ис Кыева възма имЪнье и бояры Ярославле и сестре его, и Настаса пристави десятиньнаго ко имЪнью, бъ бо ся ему ввЪриль лестью». Больше о нем ничего не знаем. Разве что к нему отнесем, согласно нерешительному предположению А. А. Шахматова, одно известие Титмара Мерзебургского. Титмар про те же события 1018 г. так сообщает: когда Ярослав в первый раз отнял Киев у Святополка, пришли на него Болеслав с Святополком, и ему пришлось бежать из города. «Архиепископ этого города со всем духовенством» с почетом встретил прибытие Святополка и Болеслава в св. Софии. А затем Болеслав посылал этого архиепископа к Ярославу для переговоров о размене пленницами: у Ярослава в плену была Болеславова дочь, жена Святополка, а Болеслав захватил в Киеве мачеху Ярослава, его жену и сестер. Некого признать в этом «архиепископе», кроме Анастаса Десятинного. «Епископом» называет Анастаса и одно из житий Владимира. Епископом признают Анастаса и А. А. Шахматов с Приселковым. Но почему наши тексты так странно с ним обходятся? Зовут его просто Настасом. Едва ли достаточно объясняется это его непристойным политическим поведением. Но пока примем, что Анастас был епископ, поставленный в Корсуни для Киева, как Иоаким Корсунянин — епископом для Новгорода, и обратимся к другим данным о русской церкви при Владимире Святославиче.
В нашем рукописном материале имеются разные списки русских митрополитов. Старейшей редакцией надо признать ту, какую читаем в тексте Новг. I: этот список начинается с Феопемпта, поставленного на Русь константинопольским патриархом уже при Ярославе; он в первый раз упоминается под 1039 г. по поводу освящения церкви (вероятно, св. Софии, «митрополии», заложенной Ярославом в 1037 г., а не Десятинной, как сказано в Повести временных лет!). Но в позднейшей письменности Феопемпт оказывается то четвертым митрополитом после Михаила, Леона, Иоанна, то вторым после Леона; есть и такой порядок: Леон, Михаил, Иоанн; Михаил и Леон как киевские митрополиты не имеют никакого права на историческое бытие. Весь «вопрос» о них сводится к догадке, откуда забрели их имена в списки митрополитов и в иные памятники позднейшей письменности. На это пытались дать ответ и Голубинский, и Шахматов, и Приселков То Михаила, то Леона или Леонта называют первым митрополитом киевским уставы св. Владимира в разных редакциях в связи с анахронизмом тех же редакций, что-де «взят» этот первый митрополит Владимиром у «патриарха Фотия», который на сто лет старше Владимира. Имя Фотия навело Голубинского, а за ним и А. А. Шахматова на мысль, что связь по имени с «Михайлом» или «Леонтом» не случайна, а забрели они на Русь вместе либо из Сказания о крещении руссов в 860 г. (Михаил), либо из Сказания о крещении болгар (Леонт). Но то или иное историколитературное объяснение этих имен ничего не прибавит и не убавит к их историческому небытию на почве русской церкви. Сложнее дело с Иоанном. Киевский митрополит Иоанн засвидетельствован для 20-х годов XI в., стало быть, ранее Феопемпта, в рассказе об обретении Ярославом мощей св. Бориса и Глеба и перенесении их в Вышгород, как у Нестора в его «Чтении о житии и погублении св. кн. Бориса и Глеба», так в другом «житийном» сказании о них. Эти сказания, согласно весьма убедительным заключениям А. А. Шахматова, использовали с фактической стороны записи, ведшиеся при Вышгородской церкви, стало быть, и их показания существенны. Житие Бориса и Глеба притом колеблется в титуле Иоанна: именует его то митрополитом, то архиепископом. Естественно признать (с Приселковым и А. А. Шахматовым), что подлинный старый титул — «архиепископ», естественно замененный словом «митрополит» в труде позднейшего книжника, привыкшего именовать так главу киевской церкви.
Итак, в 20-х годах XI в. в Киеве был архиепископ Иоанн. Приселков отождествляет его с тем «архиепископом», о котором говорит Титмар: это весьма невероятно, ибо едва ли Ярослав мог примириться со сторонником или, по крайней мере, угодником своих врагов. Приселков идет и дальше: того же Иоанна он отождествляет с главой болгарской церкви Иоанном, патриархом охридским, который в 1018 г., когда Болгария была сокрушена Василием II Болгаробойцей, был посредником между византийским императором и болгарами при заключении Струмицкого договора об условиях подчинения Болгарии, а зато сохранил свое положение, даже получил расширение своей власти по трем императорским хризовулам, но с титулом уже не патриарха, а архиепископа автокефальной охридской церкви. Против последнего отождествления Шахматов представил веские возражения: киевский архиепископ Иоанн в 1018 г. был на Руси, в Киеве, затем идет в Новгород к Ярославу для переговоров, а охридский Иоанн едва ли мог разъезжать по Руси в то время, когда решалась судьба Болгарии и его патриархата. Правда, Струмицкий договор заключен в феврале-марте 1018 г., упоминание об Иоанне киевском относится к августу, но первый хризовул императора Василия Иоанн охридский получил в 1019 г., стало быть, весь 1018 г. был еще слишком «горячим» временем, чтобы архиепископ мог покинуть надолго Болгарию. Отождествление двух Иоаннов нужно Приселкову для обоснования основной гипотезы, что при Владимире русская церковь была подчинена не византийскому, а болгарскому патриарху. Объясняет он это тем, что Владимир не столковался с греками ввиду их стремления держать местные церкви в строгом подчинении константинопольской церкви и связывать это церковное подчинение с идеей политической зависимости новообращенной страны от Византийской империи. Недовольный Владимир тогда и обратился к болгарскому патриарху и от него получил нужное ему поставление епископов, опору и руководство в организации русской церкви. Устраняя отождествление двух Иоаннов, А. А. Шахматов думает устранить по существу приселковскую гипотезу и считает более вероятным как раз обратное, именно что «Владимир приобщил русскую церковь именно к греческой, разорвав исконную церковную связь Киева с Болгарией».
Дело в том, что эту «исконную церковную связь» А. А. Шахматов выдвигает сильнее, чем это делает Приселков, справедливо удивляясь, почему Приселков «не остановился на вопросе, откуда же пришло христианство в Киев?». Если бы Приселков поставил вопросы: «кто ставил попов в церкви св. Илии?» и «какому епископу была подчинена церковь?», он мог бы в их наиболее вероятном решении найти «несколько веских аргументов» в пользу своей «охридской гипотезы». Не сведи Приселков всего церковного вопроса на политическую почву, он глубже оценил бы значение.
«культурных отношений», которые, несомненно, издревле связывали Киев именно с Болгарией. Насколько постоянны были русскоболгарские сношения, видно, как метко подчеркивает А. А. Шахматов, из того, что греки не раз получали из Болгарии предостережения о готовящихся набегах Руси; указывает А. А. Шахматов на такие черты болгарско-хазарских отношений, как болгарская мода на еврейские имена (Давид, Моисей, Аарон, Самуил). Болгарское влияние на Руси должно было быть сильным, может быть, и ранее времен Игоря. С христианством, ранее Владимира, появились на Руси церковнославянский язык и болгарская письменность. Договоры с греками А. А. Шахматов считает «древнеболгарскими» по языку. На этом же языке, конечно, совершалось и богослужение в церкви св. Илии попами из Болгарии, стало быть, под юрисдикцией болгарской церкви. Но что же произошло при Владимире?
Владимир крестился на Руси. Едва ли следует принять, что крестил его грек-миссионер. Вероятнее, что он мог креститься в той же церкви св. Илии. Но А. А. Шахматов полагает, что Владимир в 989 г. разорвал «исконные церковные связи» с Болгарией. Причина та, что первые епископы в Киеве и в Новгороде — корсунские греки, что сильная и древняя традиция говорит о деятельной роли в «крещении Руси» корсунских попов и корсунской церковной утвари. Недаром у нас и позднее все особо ценное, редкостное или древнее в церковном искусстве называли «корсунским», даже знаменитые новгородские «корсунские врата», хотя они немецкой работы. Однако сам же А. А. Шахматов указывает, что, если бы мы даже признали достоверным предание о крещении Владимира греками, «мы все-таки должны допустить обращение к Болгарии за книгами и учителями». Шахматов легко мирится с тем, что это «обращение» как-то исчезло из наших источников, словно современники «крещения Руси» и их ближайшие потомки и не заметили его: он видит в этом лишь доказательство того, что «наши сношения с Болгарией шли путем неофициальным».
Совсем не понимаю, что тут может означать «официальный» или «неофициальный», раз речь идет об обращении князя, организующего церковь, в соседнюю страну за «книгами и учителями». Летописец рассказывает, что Владимир «нача ставити по градом церкви и попы» и «нача поимати у нарочитые чади дети и даяти нача на ученье книжное». И попы и книги несли в русскую среду болгарский церковный язык и болгарскую письменность. Кадр грамотных и книжных людей в Киеве при церкви св. Илии не мог быть особенно значителен. Обращение в Болгарию за просветительными силами и средствами было крупным делом, близким и важным для всякого киевского книжника, а наши источники о нем молчат. Естественно приходишь к мысли: причина этого умолчания та же, что причина третирования Анастаса, что путаница с «митрополитами», что появление «корсунской легенды», затершей почти совсем следы подлинной обстановки крещения Владимира и т. д., т. е. тенденциозное искажение, ad majorem Byzantiae gloriam [к вящей славе Византии], всей ранней истории русского христианства и русской церкви. В этом глубокое основание гипотетических построений Приселкова. По недостатку данных он насилует тексты и создает факты иной раз с излишней смелостью. Но не всегда удачные аргументы и иллюстрации его мысли не должны затемнять оценку его меткой критики традиционных представлений и верного чутья исторических отношений в их сути, хотя и мудрено облечь эту «суть» по состоянию материала в конкретную форму исторического рассказа о том, как же дело на самом деле происходило6.
Надо, кажется, признать первым киевским епископом Анастаса. Приселков признает, что «киевская церковь времени охридского господства представляется как три епископии: киевская, новгородская и белгородская», а киевским епископом считает Анастаса Корсунянина. Так двое — корсунские греки, третьего мы не знаем по имени. Приселков считает их поставленными по воле Владимира «рукою охридского патриарха». На это нет, конечно, указаний, но нет их и на поставление их от патриарха константинопольского. Правда, Яхъя пишет, что император Василий «послал к нему впоследствии митрополитов и епископов», которые окрестили Владимира. Но это стоит в противоречии с корсунской легендой, которая почему-то в Корсуни знает только корсунского епископа при крещении и бракосочетании князя. Правда, Новг. I под 989 г. пишет: «Крестися Володимиръ и вся земля Руская, и поставиша в КиевЪ митрополита, а Новуграду архиепископа, а по иным градомъ епископы и попы и диаконы». Но она же знает первым митрополитом Феопемпта, а епископ новгородский стал архиепископом только в 1165 г. (Илья). Наибольшее недоумение вызывает вопрос об иерархической подчиненности киевской епархии и вообще ранней русской церкви. Епископское поставление Анастаса и Иоакима тотчас по браке Владимира с царевной Анной трудно вести с Приселковым из Охриды. Ведь эти корсунские греки могли быть поставлены как будто только в Корсуни. Быть может, Яхъя и прав, что в свите Анны были «митрополиты и епископы», ибо трудно себе представить, чтобы царевну отпустили из Византии без сопровождения двух-трех видных церковников. Это, может быть, и не противоречит первой роли при бракосочетании местного корсунского епископа. Но ведь и в культурно-историческом отношении важно то «обращение к болгарам», которое остается невыясненным и для которого недостаточно шахматовских оговорок.
У того же А. А. Шахматова (в его рецензии на Приселкова) находим ряд указаний, свидетельствующих о позднейшем сближении Владимира с Болгарией в ущерб его византийским связям.
Эти указания связаны с вопросом о последнем браке Владимира. Анна умерла, по согласному свидетельству Титмара и наших летописей, раньше Владимира, а между тем в событиях по смерти Владимира упоминается мачеха Ярослава. Летопись называет его младших сыновей Бориса и Глеба сыновьями «болгарки»; считать их рожденными в языческие времена до 988 г. нельзя, потому что, по согласному показанию источников, они убиты в отроческом возрасте, а ведь им было тогда уже под 30 лет. Характерно, что со всеми иными «болгарофильскими» чертами исчезло не только имя этой мачехи Ярославлей, но и всякое о ней упоминание из русских источников.
Но указание Титмара не может быть отброшено. Если принять это рассуждение, гипотеза Приселкова получила бы несколько иной вид и примирена бы была с несомненной значительной ролью корсунского духовенства в крещении Руси. Но тут есть одно большое препятствие. Повесть временных лет дает год, когда «преставися цариця Володимеряя Анна», именно 1011. Если Владимир после того и женился, то Бориса и Глеба придется признать сыновьями Анны, на чем Приселков настаивает. Но откуда тогда столь определенная запись, что они «отъ болгарыни»? Ведь в житиях св. князей, да и в летописи бережно сохранили бы, даже особенно подчеркнули бы, что это сыновья «цесарицы». А. А. Шахматов предпочитает признать недостоверность летописной даты, хоть и нерешительно («если только она скончалась раньше, чем указывает русская летопись»). Прием этот, конечно, рискованный и не вяжется он с наблюдением А. А. Шахматова, по которому даты событий в княжеской семье (рождений, смертей), пожалуй, наиболее достоверны, так как идут из церковных записей. Мы перед еще одной неодолимой трудностью. Нельзя, однако, не признать, что дата смерти Анны не вяжется никак с остальными известиями о Борисе и Глебе. А ведь их искажение тоже необъяснимо. И легче понять ошибку в записи краткого известия под определенным годом, чем подмену цесарицы Анны безымянной болгарыней в роли матери князей. Характерно и то, что об Анне нет у нас ни одного известия — только брак да смерть, хотя по летописи выходит, что она жила в Киеве с 989 по 1011 г., целых 22 года. Если строить «гипотезы» со смелостью Приселкова и А. А. Шахматова, то осталось бы предположить, что Анна кончила жизнь в монастыре. Что-то неладно с известиями о ней: монах-летописец к ее имени не приставил даже эпитета «благочестивая», не то что какого-нибудь похвального слова, а поминает ее кончину так же, как какой-нибудь Малфреди или Рогнеды.
Что Анне несладко жилось в замужестве, видно из слов Титмара, что, женившись на греческой принцессе, Владимир хотя принял христианство, но «не украсил новой веры justis operibus, erat enim fornicator immensus et crudelis magnamque vim Danais mollibus ingessit» ["праведными делами, ибо был великий развратник и жесток, и чинил великие насилия над слабыми греками"].
Большой заслугой Приселкова надо признать, что он покончил с представлением об установлении греческой иерархии на Руси в виде киевской митрополии. Как ни много спорного в его предположениях о подчинении русской церкви охридскому патриархату, она, в общем, не больше вызывает сомнений, чем ходячее представление о каких-либо «митрополитах» при Владимире, и, несомненно, выросла из прямой научной потребности объяснить темноту известий о ранних русских церковных отношениях. Его построения впервые дают некоторую возможность понять, что же, собственно, произошло в церковных делах при Ярославе. Вначале тот же Анастас был епископом в Киеве. Случайно ли, по ошибке ли, Титмар его титулует архиепископом? Или это результат сближения Владимира с Болгарией, женитьбы его на болгарке в связи с уступками от болгарского патриархата в пользу киевской церкви? Затем — архиепископ Иоанн, о котором мы также мало знаем. Не знаем, кто его поставил; возможно, что его охридский соименник, которого нет достаточного основания с ним отождествлять, как делает Приселков. Но Ярослав, утвердившись во власти, идет иными путями в церковной политике. При нем впервые организуется в Киеве митрополия с греком-митрополитом Феопемптом, ставленником византийского патриарха. Эта перемена стояла в связи с событиями на Балканском полуострове. С 1018 г., со Струмицкого договора, Болгария — под властью Византии, в 1019 г. закончена борьба Ярослава с Святополком. К этому моменту естественно отнести исчезновение из Киева Анастаса, примкнувшего к Святополку и Болеславу польскому, и стало быть, поставление в Киеве архиепископом Иоанна. По Струмицкому договору, Иоанн Охридский сохранил управление своей церковью, променяв звание патриарха на архиепископа. В хризовулах, определяющих его права, перечислены его епархии; но киевской, или русской, среди них нет. Приселков, пользуясь тем, что хризовулы дошли до нас только в списке XIII в., полагает, что русские епархии были в них упомянуты, но исключены в тексте XII в.; однако возможно и другое, что русская церковь была с 1019 г. изъята из-под власти Иоанна Охридского, как архиепископия, подчиненная константинопольскому патриархату или хоть самостоятельная, подобно охридской. Последнее было бы актом византийской политики, нуждавшейся в дружбе русского князя, чтобы он не мешал расправе с Болгарией. Но и то было бы лишь кратким переходным моментом: в 1037 г. умер Иоанн Охридский, на охридскую кафедру поставлен из Константинополя грек Лев и «автокефальная охридская церковь стала орудием духовного порабощения болгар». Тогда же организуется и на Руси митрополия для грека-митрополита Феопемпта.
В этих церковных событиях крылась перемена, существенная для дальнейших судеб русской церкви и всей русской духовной культуры. Приселков яркими красками рисует «гонение», воздвигнутое «греками» на порядки и традиции «болгарского», Владимирова периода в истории русской церкви. Пошло в ход то тенденциозное искажение ранней истории русского христианства, которого наиболее ярким выражением была пресловутая «корсунская легенда». Старому центру христианского культа, Десятинной церкви, приходит на смену новый собор — «митрополия», св. Софии премудрости божией. Чрезвычайно характерно в наших старших летописных сводах сказывается перебой двух церковных традиций, двух церковно-религиозных воззрений, из которых одно связано с именем Владимира, другое — Ярослава. Княгиня Ольга, «бысть предтекущая крестьянсгЪй землЪ аки деньница предъ солнцем и аки зоря предъ свЪтом», а Владимир «дивно же есть се, колико добра сотвори Русьстей земли, крестивъ ю», «сего бо память держать русьстии люди, поминающе святое крещение, и прославляютъ бога въ молитвах и въ песнях и псалмЪх, поюще господеви, новые людье, просвещении святымъ духомъ».
Гимном радости о своем спасении звучат воспоминания о Владимире. При нем, так мечтают русские книжники, «избра богъ страну нашу на последнее время», и восклицают: «Кого богъ тако любить, яко же ны возлюбил есть, кого такъ почелъ есть, яко же ны прославилъ есть и възнеслъ»? 56 Н. К. Никольский в любопытных своих этюдах о древнерусском христианстве57 отмечает в древней русской письменности черты верои нравоучения, которые идут от времен Владимира и носят особый характер, чуждый каких-либо черт монашеского аскетизма и отрицания мира (летопись, жития Владимира, Иаков Мних, писания митрополита Иллариона; из переводных: Толкования на пророка, Толковая Палея). Суть этого раннего русского христианства, по Никольскому, в вере, что крещеные безусловно спасены, в твердой, уверенной надежде, в большом «религиозном оптимизме». Путь к спасению — крещение (при малой роли покаяния), а милостыня — главная «заповедь» этого учения. Милостыне приписывается «спасающая» сила, такая же, если не большая, как таинствам («Златоструй», «Эпитимейник»). Другая заповедь — апостольство, первое просвещение («равноапостольный») и учительство — просвещение: «христианство, принятое Владимиром, есть книжная вера, которая просвещает землю, разгоняя мрак бесовского кумирослужения и насевая истину в прежнем царстве неведения и лжи». В то же время это вера деятельной любви, примиряющая радость веры с радостью жизни.
Идеалами милостыни и нищелюбия охристианены знаменитые «пиры Владимира», о которых и Титмар, столь суровый к нему, сообщает, что он выкупал пленных и кормил их. С этим у Никольского связаны указания на полное отсутствие данных, чтобы монахи играли какую-либо роль в крещении Руси. Миссионерами были не иноки; так и Константин принял монашество лишь перед смертью с именем Кирилла. Не иноки и епископы X в.: духовничество — дело белого духовенства. А при Ярославе вливается в русскую жизнь с большой силой монашеско-аскетическая струя. Ее утверждение на Руси относится уже ко временам после Ярослава в связи с деятельностью Феодосия Печерского. Но это течение само связывает себя с Ярославом, при котором (а не при Владимире) «нача вера христианская плодитися и расширятися, и черноризци почаша множитися, и монастыреве починаху быти». Время Ярослава — эпоха водворения церковности уставной и иночества: «.. .бЪ Ярославъ любя церковныя уставы, попы любяше повелику, излиха же черноризьцЪ». С него началось, а не с Владимира, «сетованье» «врага, побеждаемого новыми людьми христианскими».
«Следы такого же религиозного оптимизма, — замечает Никольский, — мы находим в X в. в Болгарии, например, у Косьмы пресвитора»; но аналогичное течение, постепенно уступавшее аскетическому, существовало и в самой Византии; Никольский предполагает одно из гнезд его в Корсуни, примиряя представления о болгарском и корсунском влияниях в русской церкви времен Владимира.
Таким образом, подводятся глубокие основы под крупное различие между укладом киевской церковно-религиозной жизни времен Владимира и Ярослава, а гипотеза Приселкова, как ни трудно ее точное обоснование, историческое и документальное, получает большое значение как научная попытка объяснить церковно-политические условия отмеченных существенных отличий в иерархическом строе и характерных течениях духовной культуры X и XI вв.