Дополнения.
Лекции по русской истории.
Киевская русь
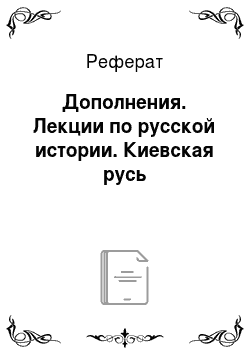
Возвращаясь к десятине, отмечу, что под 1037 г. летопись изображает ее так: Ярослав «церкви ставляше по градомъ и по мЪстомъ, поставляя попы и дая имъ от имЪнья своего урокъ, веля имъ учити люди*1. Так и в позднейшем Уставе, около 1135 г., Всеволода Мстиславича князь дает новгородской церкви св. Ивана на Опоках (в Новгороде) доход «отъ своего великоимЪния**, а по Уставу 1137 г. новгородского… Читать ещё >
Дополнения. Лекции по русской истории. Киевская русь (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
а В редакции 1907—1908 гг. вступительная лекция А. Е. Преснякова имела другое содержание и назначение:
«Обычное, шаблонное заглавие моего курса «Киевский период русской истории** требует объяснения и оправдания. Та общая схема — тоже обычная, традиционная, на которую оно как бы указывает — несомненно требует некоторого пересмотра и теоретического освещения. Я назвал ее традиционной: она имеет свою историю, хорошо выясненную в главных чертах известным трудом П. Н. Милюкова «Главные течения русской исторической мысли**. Быть может, вы эту историю знаете. Но мне представляется нелишним вам ее напомнить. Милюков удачно связал происхождение этой схемы с той работой историко-политической мысли, которая совершалась в сознании московских книжников XV в. Жизненной задачей этих книжников было теоретически осмыслить и исторически оправдать рост Московского государства и осветить те широкие притязания, с которыми оно выступило во времена Ивана III. Рассматривая государство как «вотчину» государеву, они и в основу своей исторической теории, слагавшейся под давлением помянутой публицистической потребности, положили династическую или, точнее, генеалогическую точку зрения. Стремление московских собирателей земли Русской к созданию объединенного национального государства «всея Руси44 в теории книжников оправдывалось их династическими, вотчинными правами на все наследие рода Рюриковичей. И московский великий князь представился прямым наследником киевского, предъявляя на Киевскую Русь свои исторические права.
Учение о «наследственных44 правах московского правительства на Киевщину было натянуто и искусственно, по крайней мере с точки зрения генеалогической. Но и речь у московских книжников шла не столько о фамильном, сколько о политическом наследстве на «от прародителей вотчину44 московских князей. Проводилась «идея тождества и наследственной связи московской и киевской государственной власти44. Представляя себе киевское великое княжение монархией наподобие Московского царства, московские книжники удельное время объясняли как время смут и распадения, вызванного ошибочной политикой великих князей, деливших землю между младшими князьями, и, отодвигая его на задний план, получали внешне стройную схему единой истории русского государства, начавшейся в Киеве, продолжавшейся в Москве. В основе схемы — утверждение исконного единства русского национального государства и толкование его распадения как случайного, ненормального явления. Не только обособленное существование Новгорода и Пскова, не только самостоятельность среднерусских удельных княжеств характеризовались этой печатью случайной ненормальности, но и захват значительной части русских земель Литовским великим княжением рассматривался в московской схеме как узурпация.
В хронологический промежуток между падением Киева и возвышением Москвы выдвигалась фигура владимирского князя как носителя общерусской власти, и тем достраивалась до конца ставшая традиционной схема истории русского государства с периодами киевским, владимирским, московским.
Такова политическая подпочва, на которой выросла наша схема. Позднейшая историография XVIII и XIX вв. сильно от нее зависела, да и до сих пор зависит. Жизнь прибавила период петербургский, научная разработка выдвинула значение некоторых эпох, например удельной или Смутного времени, теснее связала XVII в. с XVIII в., чем с временами Ивана Грозного, передвинув на столетие назад понятие «перелома44, связанное с именем Петра Великого. Но все эти — очень важные сами по себе — частичные изменения общей конструкции едва ли разрушали влияние и даже господство старой схемы. То, что в ней есть случайного, ненаучного, особенно ярко сказывается теперь, когда рядом с так называемой общерусской историей выросла в целую богатую отрасль нашей исторической науки история Западной Руси, Литовско-Русского государства. Вы знаете, вероятно, каким скудным, случайным придатком обзор истории Западной Руси является в наших общих курсах, если только вовсе из них не исчезает. Пример первого имеем в курсах покойного К. Н. Бестужева-Рюмина и С. Ф. Платонова. Московские же историки проходили, так сказать, мимо Западной Руси. У Ключевского, у Милюкова вы истории Литовско-Русского государства и литовско-русской культуры не найдете в обзоре русской истории и «Очерках по истории русской культуры» История Западной Руси выделяется при специализации занятий в особую самостоятельную дисциплину, связанную с историей Руси Московской не более и скорее менее, чем с историей не только Литвы, но и Польши.
Вот эти элементарные факты современной историографии нашей привели к постановке ряда существенных вопросов как о месте, занимаемом так называемым Киевским периодом в общей системе русской истории, так и о законности самого понятия единой «русской истории» и тем более истории русского народа.
Обращусь опять-таки к некоторым явлениям нашей исторической литературы.
В «Очерках по истории русской культуры» П. Н. Милюкова отсутствует Киевская Русь со всем складом ее политических, социальных и культурных отношений. И это не случайность. «На протяжении семи веков, от IX до XVI, прежде чем Москва создала хотя какую-нибудь связь между окраинами России, — по мнению Милюкова, — каждая отдельная область жила своей отдельной исторической жизнью и переживала особого рода местный процесс, не похожий на процессы других областей». Итоги исторической жизни восточного славянства до эпохи образования Московского государства представляются Милюкову крайне элементарными, своего рода преддверием к более широкому течению государственной и национальной жизни в рамках возникшего на северо-востоке Великорусского государства. Этим и история Киевской Руси IX—XII вв. низводится на уровень узкоместного процесса наравне с исторической жизнью любой области в так называемый удельный период.
Такое представление о древнерусской истории тесно связано с той конструкцией, какую у Милюкова получила история русского «национального самосознания». Тот склад воззрений на свою национальность, какой сложился у московских книжников на рубеже XV и XVI вв., Милюков согласно своим общим социологическим воззрениям считает первичным, исходным пунктом этой истории, отсюда и начинается ее изложение Таким образом, так называемый Киевский период оказывается если не совсем вне, то по крайней мере в своеобразном преддверии общей системы русской истории, построенной у Милюкова, в сущности, на основах традиционного отождествления русской истории с московской, великорусской, постепенно разрастающейся по мере роста государства во всероссийскую, имперскую, если можно так выразиться. Схема упрощена отсечением ее первого члена, но едва ли принципиально переработана. Русскую историю в собственном смысле этого слова оказывается возможным в школе Милюкова строить, в сущности, без Киевского периода. Эволюционная связь между ним и позднейшими периодами истории России, которая сводится для средних веков к истории Руси Московской, порвана. Это Милюков и выразил в таком тезисе: «Можно сказать, что русская народность, достигнувшая значительных успехов на юге, на севере должна была начать всю историческую работу сначала» .
Милюков в своем отрицании связи между историческими процессами, совершавшимися на юге в IX—XIII вв. и на северовостоке в XII—XVI вв., не стоит одиноко. Вот, например, что говорит другой историк московской школы, Сторожев, в предисловии к сборнику «Русская история с древнейших времен до Смутного времени»: «Днепровская Русь — древнейший период нашей истории, не хронологически только, но и реально очень далекий от последующей истории собственно России, выросшей из удельного княжества северо-восточной Руси. Русь днепровская и Русь северо-восточная — две совершенно различных исторических действительности». Называя древнейшее прошлое Днепровской Руси «совершенно особым и законченным историческим процессом», Сторожев отмечает и особую этнографическую причину этой обособленности южнои севернорусской истории: «Историю той и другой Руси создают не одинаково два различных отдела русской народности» .
Так, разрушая традиционное единство схемы русской истории, современная историография приходит к вопросу об этнографических основах русской исторической жизни — спорность представления о единстве так называемой русской истории вела неизбежно к более глубокому вопросу о единстве русской народности.
Сам по себе этот вопрос не нов, и он имеет свою литературную историю, начало которой восходит к 60-м годам прошлого века и даже ко времени более раннему 1 — к разыгравшейся в 50-х годах полемике между Погодиным и Максимовичем о том, кто, южане или северяне, были «россы» по преимуществу, кому из них принадлежит по преимуществу древняя киевская русская история и заслуга основания русского государства и национальности. В 80-х годах этот спор возгорелся с новой силой между проф. Соболевским и украинскими учеными Особенно резко с украинской точки зрения поставил вопрос львовский проф. Грушевский2. Сделав весьма ценную попытку цельного изложения истории украинского народа с древнейших времен, Грушевский отрицает генетическую связь между «киевским периодом» и историей северо-восточной Руси. «Киевское государство, — говорит он, — право, культура были созданием одной народности — украинско-русской; владимиро-московское — другой, великорусской». Сопоставляя отношения двух половин древней Руси с отношением Рима и Галлии, Грушевский говорит о рецепции киевского права и культуры великороссами, считая Владимиро-Московское государство не преемником Киевского, а выросшим на своем корню.
«Киевский период» у Грушевского получает новый смысл сравнительно с традиционной схемой «русской истории»: он перешел не во Владимиро-Московский, а в Галицко-Волынский — XIII в., потом в Литовско-Польский — XIV—XVI вв. и оказывается первым отделом не русской истории вообще, а истории украинского народа.
Навстречу этой точке зрения идет ряд исследований, выясняющих связь социально-политических отношений ЛитовскоРусского государства и его права с киевскими традициями. Труды Любавского, Максимейко, Ясинского как бы дополняют и уясняют общую конструкцию Милюкова, устанавливая непосредственную преемственную связь между исторической жизнью древней Киевщины и Литовской Руси Многое, добытое на этом пути изучения, несомненно составляет существенное приобретение исторической науки. Но если так, то не имеем ли мы перед собой действительно задачу строить схему и теорию двух различных исторических процессов — истории великорусской и украинской?
Более обоснованный и обстоятельный ответ на этот вопрос может быть дан только в конце такого курса, как предполагаемый мной. Но я считаю необходимым теперь же установить некоторые точки зрения, которые, быть может, помогут нам разобраться в нем.
Раз вопрос переносится на этнографическую почву, то и ставится он так: говорят, русская история есть история русского народа. Что понимать под историей русского народа? Что разуметь как содержание самого понятия «русский народ» ?
Я не знаю, что вы ответили бы на эти вопросы. Думаю, что не ошибусь, предположив, что многим из нас самые вопросы покажутся очень простыми. На самом деле они очень сложны. Мы и в разговорной речи и в литературе постоянно встречаем выражения: «народ», «народность», «нация», «национальность» в довольно-таки разнообразных значениях и оттенках значения, то как синонимы, то — нет. Точнее и даже резко разграничены выражения, означающие определенные общественные направления, как «национализм» и «народничество», или качественные признаки — народный, национальный.
Часто сказывается в нашем деле первородный грех исторической науки — отсутствие четко и критически установленного содержания в смысле общих понятий, какими оперирует историк. Так и тут: в употреблении терминов «народность», «народ» ,.
«нация1* мы постоянно встречаемся с колебаниями их значения, свидетельствующими о неустойчивости целого ряда понятий. Я, конечно, не могу вдаваться в теорию исторических понятий. Ограничусь несколькими замечаниями о тех из них, с какими мне сейчас приходится иметь дело, и притом с чисто практической целью, — условиться о значении тех терминов, какие приходится и еще придется употреблять в моем изложении.
Речь идет о «русском народе», его единстве или отсутствии этого единства. В чем же может или должно состоять это «единство» ?
Обыкновенно первое, что приходит в голову при таком вопросе, это единство крови, породы, антропологического типа и языка. В основе антропологических особенностей каждого народного типа лежат его расовые особенности. Большое значение им в наше время приписывают такие писатели, как Гобино Чемберлен и их сторонники. Но среди историков — и, я думаю, правильно — господствует довольно скептическое отношение к значению не только рас в вопросе национальном, но и племенного происхождения. Антропология давно и твердо выяснила, что на земном шаре вообще, а в Европе, быть может, особенно, мы напрасно стали бы искать более или менее чистые расы. Единство французского народа нисколько не нарушается тем, что его этнографическая основа — сложное сплетение кельтических и романских, германских, иберийских и даже семитических элементов. Оставляя в стороне вопрос о единстве русского народа как величину еще искомую, напомню общеизвестный факт сложного этнического состава, например, великорусской народности из элементов славянских, финских, тюркских, монгольских, с позднейшей примесью различных западноевропейских и западнославянских элементов. Теперь часто трунят над рядом иностранных фамилий в составе русского народа. Но обруселые в ряде поколений немцы, евреи, поляки, конечно, действительно принадлежат русской, а не какой-либо иной народности. Основные антропологические признаки — строение костяка, длинноили короткоголовость, цвет волос и т. д. — так перемешаны в среде любого из современных европейских народов, что установить общий, хотя бы в самых общих чертах, антропологический тип для каждого из них совсем невозможно. Точных, научных определений народности по признакам антропологическим быть не может.
Более твердым признаком народности часто представляется нам язык. И представление это опирается на такие очевидные факты, что, казалось бы, тут мы имеем признак бесспорный. Но не надо забывать столь же несомненного факта, с одной стороны, существования крепкого единства швейцарского народа, говорящего на трех языках, или, наоборот, существования двух народов — датского и норвежского, говорящих на двух филологически весьма мало различающихся наречиях, гораздо меньше, чем малорусский язык от великорусского. Среди наречий единого германского народа можно найти такие, которые отличаются друг от друга едва ли меньше, чем славянские языки или наречия между собой. А язык голландского народа есть незначительная разновидность platt-deutsch, которым говорят многие «чистокровные44 немцы.
Но если мы в самом деле откажемся от антропологических признаков и от языка как средств для различения и определения народности, то что же нам останется? Современная литература по этому вопросу пробует подойти к понятию народности с двух сторон: психологической и политической.
«Народность44 или «национальность44 — оба слова употребляются безразлично — есть явление «культурно-психологическое44, и притом явление, которого реальным носителем является не народ, не племя, не этническая группа, а человеческая личность. Это свойство личности, и притом не природой ей данное, а выработанное исторически в культурной эволюции. Принадлежность личности к данной народности, или, как вернее было бы сказать с этой точки зрения, — принадлежность данной народности тому или иному лицу — есть явление его, этого лица, отчасти бессознательной, отчасти сознательной политической жизни. Бессознательными элементами этой субъективной народности, если можно так выразиться, являются те психические навыки, какие с детских лет прививаются человеку влиянием той национальной среды, в которой он растет, развивается и живет. Факторы этого влияния крайне разнообразны.
Родной язык сам по себе уже несет ряд психологических явлений, представляя собой целую сокровищницу определенных представлений и понятий, навыков мысли и тонов чувства, образов и символов, глубоко воздействующих, и притом незаметно, бессознательно, на духовное развитие. Бытовой склад жизни, в котором не меньше, чем в языке, веками сложившихся и медленно изменяющихся элементов, взращенных данной национальной средой, также неизменно, глубоко и прочно влияет на это психическое развитие. Прибавьте влияние национальной литературы, исторических преданий, традиционных симпатий и антипатий и получите приблизительный, достаточный для иллюстрации психологического явления личной, субъективной народности комплекс факторов, ее создающих. «Национальность, — скажем словами Милюкова, — есть социальная группа, располагающая таким единственным и необходимым средством для непрерывного психического взаимодействия, как язык, и выработавшая себе постоянный запас однообразных психических навыков, регулирующих правильность и повторяемость явлений этого взаимодействия44. Я бы только прибавил оговорку, что язык — весьма важное, но не обязательное, как показывает пример Швейцарии, или не основное, как видно на примере датско-норвежских отношений, условие выработки народности в культурно-историческом процессе. Какой из многих факторов создания народности является основным, это решается ходом истории той социальной группы, которая постепенно вырабатывается в народность. Но наряду с факторами, вырабатывающими, народность» лица и его бессознательной жизни, стоят и явления сознательной жизни, акты сознания и воли. Но эти последние настолько в действительной жизни тесно связаны с политической стороной вопроса, что лучше их и указать, сперва выяснив эту сторону.
В отличие от слов «народность», «национальность» термин «нация» и в нашей и в западноевропейской литературе начинают употреблять в особом техническо-политическом смысле. Венгерцы говорят о своей нации, господствующей над народностью хорватов. Хорваты не без успеха стремятся стать из народности нацией, приобретая известный круг самостоятельных государственно-политических прав. Немцы себя называют нацией, признавая познанских поляков только народностью. Поляки стремятся стать нацией в полном смысле слова, стремясь к государственной автономии, или считают себя нацией, временно утратившей политическую самостоятельность, так сказать нацией в ненормальном положении. «Нацию без стремления к государственной жизни невозможно себе и представить» , — говорит один немецкий писатель. Итак, нацией называют народность, создавшую для себя государственную организацию. Но исторически такое определение не точно. Множество исторических фактов говорит о том, что государства возникали раньше, чем населявшее их территорию население слагалось в действительную нацию.
Для того чтобы это последнее явление произошло, необходимо, чтобы в общественной жизни совершился культурно-психологический факт, который можно назвать возникновением национального самосознания или лучше национальной воли. Воля к общей политической жизни, стало быть, явление коллективной психики данного населения, есть основная черта как личной, так и общественной «народности» или «национальности» на той ступени исторического развития, когда создаются нации.
Я сказал, что государства часто возникают раньше наций. Теперь эти слова понятны: для того чтобы говорить о существовании «нации» в указанном смысле слова, необходимо предполагать или иметь налицо в населении данного государства известный уровень сознательного отношения к политической жизни и определенное направление коллективной политической воли. Вот почему напряжение национального чувства и так называемое национальное самосознание прямо пропорциональны политической самодеятельности народа и, стало быть, развитию у него политической свободы.
Вернемся к нашей исходной задаче — определению понятия народа, народности, нации. Мне кажется, что у нас вместо обычного определения получается, пожалуй, объяснение, почему это понятие принципиально по существу неопределимо. Оно, как и многие исторические понятия, развертывается при анализе в эволюционный ряд — от расового инстинкта через субъективную народность к политически сознательной нации. Вы, может быть, скажете, что эти явления, которые я пробую уложить в эволюционный ряд, разного порядка, и не только сменяют друг друга в историческом развитии, но и сосуществуют. Отчасти такое замечание было бы и справедливо. Тут эволюция не простая, а сложная. Более элементарные и первоначальные явления, участвуя в развитии, неся его, так сказать, переживают эволюцию, входя в ряд все новых и более сложных сочетаний с другими факторами жизни, входя в состав новых, более сложных явлений, не уничтожаясь, но отступая по жизненному своему значению на второй, третий и т. д. план. Таков характер эволюции многих социальных явлений (например, семья — род — племя — община — государство).
В заключение этих общих рассуждений мне хотелось бы отметить значение в этой национальной эволюции, кроме упомянутых культурно-психологических факторов, еще особенно два, так сказать, внешних, объективных: территорию и государственную организацию. Изучение влияния природных географических условий на жизнь человеческих обществ сложилось почти на наших глазах в особую научную дисциплину — антропогеографию. И одним из ценных ее приобретений нельзя не назвать выяснение роли территории в образовании народностей и наций. Сама природа, говорят нам, как бы начертала известные формы территорий, предназначенных для единства культурно-исторического и социально-политического населения, их занявшего. Это предначертанное природой единство обусловливается естественным единством географических и климатических, а потом экономических и далее социальных условий быта, а с другой, международно-политической, стороны — так называемыми естественными границами государств в виде моря, горных кряжей, больших рек. В таких географически индивидуальных районах скрещиваются, смешиваются элементы разных рас, в них оседая, живут общей жизнью хозяйственной и культурной, наконец, спаиваются при соответствующих обстоятельствах в политическую организацию, в государство. Это последнее часто, даже обыкновенно возникает раньше, чем его можно в полном смысле слова назвать национальным. Оно, говоря словами С. М. Соловьева, вначале только, хирургическая повязка" на теле, еще лишенном внутренней сплоченности, внутренней связи. Как внешне объединяющая форма оно помогает охваченным ею одному или нескольким племенам или народностям, частям разных племен или народностей выработаться в нацию, воспитаться к сознательной общей жизни.
Если мы подумаем над этими вопросами и примем во внимание вышесказанное, то и самый спорный в нашей историографии вопрос о единстве русского народа и русской истории примет несколько иной характер и получит несколько иное значение. Указание на разноплеменный состав населения и на различие исторических судеб тех или иных его элементов само по себе не разрешает вопроса. Да и само решение этого вопроса из прошлого переносится скорее в настоящее и будущее. Вернее, явления, которых он касается, развиваясь в многовековом историческом процессе, представляют собой одну из тех сторон исторической жизни, которые мы наблюдаем в непрерывном процессе изменения и движения то более, то менее интенсивного, с моментами то задержки и регресса, то ускорения и прогресса и которые именно потому так трудно определить, что законченности в них нет и по существу быть не может.
В грубой своей безусловности и утверждение и отрицание единства русского народа в его целом является, таким образом, ненаучным и некритическим. В исторической же действительности прошлое — до XI—XII вв. включительно — и позднейшее время — XVII—XIX вв. — так тесно принадлежат одинаково к истории обеих ветвей русского народа или обеих народностей русских — великорусской и украинской, что без ущерба для полноты и правильности научного изучения, без измены исторической правде разрывать изучения их судеб нельзя. Что касается последних трех веков, то нет основания называть как государственную, так и духовную жизнь России великорусской. При несомненно доминирующем значении в ней великорусского элемента слишком глубоко, содержательно и важно было значение в ее развитии украинского народа, его культуры, его дарований. В XVII, отчасти и в XVIII вв. им следует даже приписать в некоторых отношениях руководящую роль в созидании общерусской культуры. С другой стороны, и в тот период, XIV—XVI вв., когда обе половины русского славянства резко разошлись в своих политических и культурно-исторических судьбах, наблюдаем ряд явлений, указывающих, что сознание национального единства долго поддерживалось оживленным взаимодействием и сношениями, лишь постепенно замирая и ослабевая под влиянием исторических условий для того, чтобы возродиться позднее.
Вот те теоретические и научно-практические соображения, которые заставляют меня сохранять понятие единства русской народности в его историческом развитии, еще не оконченном, а Киевский период рассматривать как пролог не южнорусской, а общерусской истории, которая для следующей эпохи распадается на два самостоятельных, равносильных и параллельных отдела: историю Западной Руси и историю Руси северо-восточной. Фактическое обоснование этого воззрения, конечно, приходится оставить на долю обстоятельного изложения и анализа исторических данных.
Для Киевского периода решающее значение в данном случае имеет полное отсутствие признаков, которые позволяли бы сказать, чтобы между южноруссами и северноруссами тех времен существовало сознание племенного и национального различия. Вражда киевлян и новгородцев, киевлян и суздальцев проявляется не в иных и не в более резких формах, чем, например, соперничество в борьбе владимирцев и ростовцев во время усобиц между сыновьями Андрея Боголюбского.
Вывод из сказанного: нельзя ставить понятие данной определившейся национальности в начале исторического процесса и самое явление национальной, самобытной индивидуальности рассматривать как носителя, как основу исторической жизни в так называемой национальной истории. Наоборот, выделение восточнославянских племен из общей массы племен славянских, начало их культурно-исторической индивидуализации и постепенного объединения в новую народность и составляет первый вопрос курса древнерусской истории. Как сложное и живое явление народность возникает, развивается, строится в течение всей исторической жизни народа непрерывно, без конца или гибнет с концом исторической жизни данной страны. Возникает она и растет на почве различных, скрещивающихся и перемешанных расовых и племенных элементов, обыкновенно, впрочем, с преобладанием одного из них, у нас восточнославянского.
Эта восточнославянская основа позднейшей русской народности и ее различных элементов требует поэтому особого рассмотрения" (Архив ЛОИИ. Ф. 193. On. 1. Д. 1. С. 1—20)3.
6−6 В редакции 1907—1908 гг. данному образцу соответствует следующий историографический и теоретический экскурс:
«Задружная теория сменила прежние: родовую (Эверс, Соловьев, Никитский) и общинную (К. Аксаков) как естественный, логически необходимый результат дальнейшего развития науки. На них я останавливаться не буду, так как их надо признать уже отошедшими в область пережитого прошлого, истории науки. У всех трех, если брать задружную [теорию] в ее первоначальной, лентовичевской редакции, есть одна общая черта, которая стоит того, чтобы ее отметить: это были именно теории, социологические конструкции, имевшие целью, определив исходный пункт русского исторического процесса, логически стройно объяснить развитие первоначальных форм русской государственности из принятой предпосылки — рода, общины, задруги. Основное явление, какое та или иная из этих теорий принимала за такой исходный пункт, должно было удовлетворить этой задаче — объяснения, как из данной социальной ячейки постепенно развились и дифференцировались более сложные, исторически наблюдаемые формы русского социального и политического быта.
В этой теоретичности лежала и односторонность метода. И сказалась она в том, что оставлены были без внимания другие явления племенного славянского быта, для восстановления которых имелось не менее данных, чем для построения гипотез о роде, или общине, или задруге как исходных моментах исторического процесса. И эти другие явления, если бы на них обратили должное внимание, дали бы более твердые основания для ответа на вопрос о происхождении наряду с кровными союзами территориальных общин иного характера и большего объема, а также о происхождении первичных организаций политического значения.
Слишком догматично и отвлеченно пыталась старая историография объяснить происхождение этих последних явлений из развития одной социальной ячейки — рода, общины, задруги, как будто в общеславянском наследии русских племен ничего иного и не было" (Архив ЛОИИ. Ф. 193. On. 1. Д. 1. С. 65—66).
" в В редакции 1907—1908 гг. А. Е. Пресняков устанавливал общественный строй восточных славян, основываясь на сравнительно-историческом анализе восточнославянских и германских племен, а также привлекая ретроспективный метод:
«По-видимому, сходные формы племенной организации имели и славяне в эпоху переселений. На первых же порах исторической жизни Днепровской Руси встречаем ряд известий о тысячно-сотенной организации и притом с явными признаками устарелости, так как она, несмотря на скудость известий, является довольно определенно замирающей и перерождающейся на глазах истории под влиянием новых условий княжеско-дружинного строя. В историческое время должность тысяцкого рисуется вполне зависимой от князя. Князь «дает тысячу44 своему княжому мужу. Тысяцкий — воевода в стольном городе. Он же, по-видимому, и главная судебно-административная должность в стольном городе: держит тысячу и весь ряд. Но две черты отличают тысяцкого от всех других должностных лиц княжескодружинного строя. [Во-первых,] хоть он и выходит из рядов дружины, но как воевода стоит уже вне ее: его воеводство есть военное начальство над народным вечевым ополчением, тысячей. Во-вторых, наши известия дают впечатление постепенного упадка этой должности в Южной Руси. Сперва мы имеем известия о большем числе тысяцких, чем позднее. Были, например, тысяцкие во второстепенных городах — Белгороде, Вышгороде и притом ранее, чем эти города стали княжими, стольными; потом они исчезают, и тысяцкие стоят рядом с князьями там, где князья сидят. Кроме того, должность тысяцкого выглядит в наших известиях учреждением, которое, постепенно умаляясь в своем значении, долго еще сохраняет следы своей самостоятельности: тысяцкий стоит как бы рядом с князем. В Киевщине долго — еще в начале XIII в.—датируют события не по князю только, но и по тысяцкому: «воеводство держащю Киевския тысячи такому-то*4. Наконец характерное для тысяцкого значение «воеводы** вымирает. В истории старых войн мы тщетно будем искать видного участия «тысяцких-воевод**... И все больше преобладания получает другая — позднейшая сторона тысячно-сотенной организации: судебно-административная. Где тысяцкие дольше всего уцелели и лучше нам видны, как в Новгороде? Их роль — судебно-полицейская. (Вероятно, и в Москве?). Соответственно этому видим и «сто» на Волыни в XIII в. в роли финансово-административного округа сельского, как и «сто** городское, купецкое.
«Сто** как территориальная административная единица засвидетельствована текстами. Но имела ли когда-нибудь территориальное значение «тысяча**? Единственное указание на возможность такого значения термина «тысяча** находим в известии Ипатьевской летописи под 1149 г., где в составе удела, взятого великим князем Святославом Ольговичем у Изяслава Мстиславича, названы: Курск с Посемьем и Сновьская тысяча (Сновь — правый приток Десны; г. Сновеск) 4. То, что это ала? ?*ev6pevov [некогда упомянутое], как бы подтверждает, что мы тут имеем дело с пережитком, случайно, в силу местных условий уцелевшим в Черниговской земле. Эти черты потому представляются лишь пережитками, архаизмами, что они в современный им княжеско-дружинный строй входят как нечто ему постороннее и параллельное, из него необъяснимое, им перерабатываемое и устраняемое. «Должность тысяцкого, — говорит Сергеевич, — не могла пережить тех условий, которые ее вызвали, то есть веча и зависевших от него городовых полков**.
И невольно возникает представление об иной, племенной, докняжеской военной организации, которую новый строй отчасти приспособил к себе, отчасти упразднил.
Но этой гипотезой, согласно которой тысячно-сотенная доисторическая военная организация племен дала готовую форму для раздела территории на округа при расселении отдельных частей племени на захваченной им территории, вопрос о происхождении древнейших территориальных союзов далеко не исчерпывается.
Прежде всего отмечу, что сказанное выше уже дает рядом черты, которые трудно связать в логически-стройную систему. Речь шла о племенных князьях, притом о многих или нескольких князьях на одной племенной территории. Шла речь и о тысячной организации военных сил племени, может быть генетически связанной с образованием на племенной территории отдельных округов, вероятно особо связанных при утверждении оседлости в одно политическое целое. Отождествлять ли эти два явления? Они скорее представляются разнородными. Но надо помнить, что показываемый племенной быт едва ли основательно было бы представлять себе однообразным на всем протяжении поселений восточного славянства. «Имяху бо обычаи свои и законъ отець своих и преданья, кождо свои нравъ», — говорит летопись о бытовом складе жизни русских племен. Можно ли предполагать при значительных бытовых отличиях однообразие в формах организации? Вспомним, что Тацит говорит о древних германцах: у одних племен он упоминает наследственных князей, у других — выборных вождей, указывая на разнообразие германских племенных организаций.
Во всяком случае, как бы мы ни представляли себе суть древнейших форм племенной политической организации, представляется правильным, не перенося в древнейшую историческую действительность отвлеченной, хотя бы социологически и верной, теории о происхождении общества из индивидуального брака, семьи, которая, разрастаясь, переходит в род и племя, признать исходным пунктом в развитии восточнославянского быта существование наряду с семейно-общинными, кровными группами также союзов иного характера, сыгравших при первой оккупации новых территорий роль организованной силы, захватывавшей ту или иную область, и, оседая в ней, превращавшихся в союзы территориальные с функциями, говоря по-нашему, публичноправовыми.
А внутри таких территорий организация племенного быта и хозяйства может быть характеризована задружным, семейнообщинным хозяйством и строем гражданских, говоря по-нашему, отношений" (Архив ЛОИИ. Ф. 193. On. I. Д. 1. С. 85—90).
г«г В редакции 1907—1908 гг. в отличие от редакции 1915—1916 гг. А. Е. Пресняков более подчеркивал в образовании Древнерусского государства не политические, а экономические факторы:
«Характер дани, ее сбора и ее значения ясно выступает из приведенного выше рассказа Константина Багрянородного Получается отчетливое впечатление, что не политическое господство, а экономическая эксплуатация была целью первых киевских завоеваний. Ольге предание приписывает упорядочение сбора дани установлением ее размеров — уставов и уроков, и административных центров, куда дань свозилась, — погостов. Еще характерные другие черты этого предания, приписывающие Ольге меры для прямой хозяйственной эксплуатации подчиненных территорий. Она устанавливает ловища и перевесища княжие Ловище — место лова зверей, перевесите — место установки больших сетей, перевесов, для ловли птицы, а иногда и мелкой зверины.
Эта уставная деятельность Ольги охватывает старые владения — Ильменские и новые — землю Деревскую. События, связанные со смертью Игоря, привели к устранению племенной княжой власти деревских князей, подчинению Древлянской земли тяжкой дани и промысловой эксплуатации" (Архив ЛОИИ. Ф. 193. On. 1. Д. 1. С. 180—181).
д В редакции 1907—1908 гг. определению общественного строя Руси IX—X вв. посвящен также следующий экскурс:
«Если мы будем представлять себе владычество княжескодружинного элемента над восточным славянством как явление вначале для большей части племен внешнее, лишь поверх племенного быта, не нарушая его внутреннего склада, не изменяя и основ его экономического быта, то дальнейшая история русского государства представится нам процессом постепенного усиления органической связи между городскими центрами и волостями путем развития двух элементов социально-политического быта: 1) управления, 2) экономического господства социальных верхов над массой.
Внешней формой обоих этих явлений были развитие княжеской правительственной власти и возникновение княжеского и боярского землевладения.
В городских центрах, живших своею жизнью, необходимо предположить постепенный рост населенности, развитие ремесла, сравнительно более интенсивного местного торга, постепенную подготовку позднейшего более сложного городского быта.
Но к этим внутренним явлениям мы можем присмотреться ближе, собственно, только позднее, когда они достигли уже такой сравнительной зрелости, что стали отражаться в известиях о текущих явлениях южнорусской жизни в летописных текстах и памятниках церковной письменности.
Постепенное нарастание государственного быта на первых порах, до Владимира, заметно для нас лишь в скудных указаниях на зачатки внутреннего управления и во внешних отношениях Киевской Руси с соседями. Более глубокие процессы разложения старых форм племенного быта и выработки нового строя социальных отношений можно опять-таки конструировать лишь путем осторожных заключений из позднейших фактов, освещая их сравнительно-историческими наблюдениями.
Указание на начатки нового управления можно видеть в известиях летописного предания о «мужах», сидящих по градам. Так, предание, сохранившееся во II редакции Повести временных лет (Ипатьевская летопись), говорит о Рюрике, что он срубил город над Волховом (Новгород) «и сЬде ту княжа и раздал мужемъ своимъ волости и городы рубати, овому Полътескъ, овому Ростовъ, другому БЪлоозеро». Олег, взяв Смоленск,, прия городъ … и посади. .. мужь свои", то же и в Любече, и в прочих городах,, по тЪмъ бо городомъ сЪдяху князья подъ Ольгомъ суще", как выражается договор 907 г. (ср. договор 911 г.).
Я уже отмечал, что представлять их себе членами одного рода нет никаких оснований и явно противоречит выражениям летописи и договоров. Им приписано строение городских укреплений, чего не следует смешивать с основанием городов. О правительственной их деятельности нет никаких указаний, кроме сбора дани. Да и о ней наши известия говорят лишь относительно киевских князей.
Эти новые вожди, по-видимому, заменили прежних племенных князей и тысяцких. Это видно из позднейшей судьбы сана тысяцкого, ставшего княжим воеводой, но долго сохранявшего важное и самостоятельное значение. Усиление центральной княжеской власти и переход к разделу владения Русской землей между княжими сыновьями и членами рода княжого вытеснило их из первоначального крупного значения, а быть может, и было более прямым средством для устранения их чрезмерно самостоятельного положения. Этот первичный момент нового строя можно связать с вопросом о «происхождении44 городов в том смысле, что старые племенные центры получают новое значение, новый характер, а рядом с ними возникают и новые центры городские. По-видимому, только с появлением новой военной княжеской власти Днепровская Русь становится по-настоящему Гардариком, страной городов, покрываясь рядом более значительных укреплений. Город как крепость, как центр власти, как более крупный рынок является фактором, разлагающим и перестраивающим племенной быт славянства. Прежде всего тем, что его влияние усиливает значение территориального, волостного начала на счет племенного, разрывая постепенно прежнюю связь между ними. В летописном предании постепенно исчезают племенные имена в довольно точном соответствии с постепенностью в развитии значения городов. Имя словен и части кривичей покрывается словом «новгородцы44, «кияне44 вытесняют полян, Полоцк, Смоленск, Чернигов захватывают собою племенной состав соответственных волостей. Давно указано, что земли-волости исторического времени не совпадают со старыми племенными территориями. Население стало группироваться по-новому вокруг волостных городских центров. Когда Киевская земля подчинила древлян, то почти вся Деревская земля вошла в состав Киевщины вместе с полянами и южной частью дреговичей, северная часть которых потянула к Полоцку. Северяне поделились между Переяславлем и Черниговом, который господствует и над вятичами, и над частью радимичей. Радимичи поделились между Черниговом и Смоленском, городом юго-восточных кривичей. Кривичи разбились между Псковом, Полоцком и Смоленском и т. д. Но старые отличия племенных территорий отчасти сказались заново позднее, при дроблении земель на уделы.
О внутреннем содержании новых форм мало что можно сказать. Судя по кратким упоминаниям о дани и погостах при Ольге, в то время непосредственная власть киевских князей распространялась на Полянскую и Новгородскую земли, а заново подчинила себе Древлянскую. Дань остальных волостей, по-видимому, шла в местные их центры. Это косвенно подтверждается и позднейшей более тесной связью именно Новгорода с Киевом.
Наряду с известиями о дани стоят отрывочные намеки на то, что я назвал «прямой хозяйственной эксплуатацией подчиненных территорий4*. Ловища и перевесища Ольги — зачаток княжих промысловых сел, населенных княжими бортниками и бобровниками, предки позднейших сокольничего, ловчего и других «путей44. Лишь позднейшая редакция текста поставила рядом с ними и «села44 княжиепо-видимому, развитие земледельческого хозяйства на княжой двор — явление позднейшее» (Архив ЛОИИ. Ф. 193. On. 1. Д. 1. С. 195—200).
е Редакция 1907—1908 гг. содержала также следующий текст:
«Организация церкви русской должна была начаться непосредственно после официального введения христианства в Киеве, которое последовало за бракосочетанием Владимира и царевны. Анны. Вопреки идиллической картине принятия христианства, какую нам рисует древний книжник, его введение надо назвать актом княжой власти, как читаем в знаменитом «Слове о законе и благодати44 с похвалой «кагану нашему Владимиру44 первого митрополита из русских Иллариона (1051 —1055 гг.?): «И заповЪда по всей землЪ своей хреститися … и не бысть ни единаго же противящеся благочестному его повелению: да аще кто и не любовью, но страхомъ повелЪвшаго крещахуся, понеже бь благовЪрие его съ властию съпряжено44. Само собою, что и в этих словах и в позднейших восхвалениях Владимира за то, что он «всю землю русскую крести отъ конца и до конца44 (Иаков Мних), много риторического преувеличения. Новая вера раньше всего укрепила свое влияние в высшем княжеско-дружинном строе и лишь постепенно из городских центров завоевывала себе практическое значение в народной массе.
Первым шагом к утверждению новой веры должны были служить построение церквей, основание монастырей и меры для распространения нового книжного просвещения, хотя бы для того, чтобы иметь своих проповедников и свое духовенство.
Окрестив киевлян, Владимир «повелЪ рубити церкви и поставляти по мЪстомъ, идеже стояху кумиры44. На месте, где стоял идол Перуна, поставлена была церковь св. Василия, но первую солидную постройку Владимир начал, когда «помысли создати церковь пресвятые Богородицы и пославъ приведе мастеры отъ Грекъ44. Закончив постройку, князь поручил ее Настасу Корсунянину и корсунским попам, поместив в нее все, что привез из Корсуни: иконы, сосуды и кресты. Обращает на себя внимание способ материального обеспечения нужд этой церкви, примененный Владимиром: «Даю, — сказал он, — церкви сей. .. отъ имЪнья моего и отъ градъ моихъ десятую часть». Дело в том, что этот вид дотаций церкви не был употребителен в греческой церкви, а, напротив, широко распространен на Западе 5.
Правда, между русской и западной десятиной есть существенное отличие: там (со времен капитулярия Карла Великого, 779 г.) десятина слагалась из десятой части государственных доходов и десятой части доходов со всего населения, у нас же она не стала общей податью, а шла только с княжих доходов. Но различие, очевидно, не принципиальное, а обусловленное тем, что политический строй Киевской Руси не давал князю возможности ввести в пользу церкви подобный налог, что было бы и несомненной ошибкой в деле распространения христианства.
Правда, до нас дошли церковные уставы князей, изображающие десятину иначе. Во-первых, так называемый «Устав Владимира Святого о церковных судах** гласит: «Се язъ князь Володимеръ поставихъ церковь святыя Богородицы въ КиевЪ и дахъ церкви той десятину по всей Русской земли въ всехъ градЪхъ» (так в краткой редакции, а более пространная развивает: «отъ всего княжа суда десятую вЪкшю, а ис торгу десятую недЪлю, а изъ домовъ на всяко лЪто отъ всякого стада и отъ всякого жита чюдному Спасу и чюдней его матери**). Формула краткой старшей редакции устава вполне совпадает с показанием летописи. Но добавление пространной расширяет десятину до налога «изъ домовъ на всяко лЪто1*, что можно понять как налог общий, хотя формула, изъдомовъ» необычна и вызывает уже сама по себе недоумение. Помимо того, пространная редакция носит характер позднейшей литературной обработки, довольно давней, так как старейший ее список — в Кормчей конца XIII в.; так, она говорит вначале о восприятии святого крещения Владимиром от Фотия, патриарха цареградского, и о первом митрополите: в одних списках — Леоне, в других — Михаиле.
Этот текст пространной редакции Владимирова устава повторяется в начале Устава великого князя Всеволода с именами Фотия и Михаила, причем говорится еще подробнее: «И даша ей (церкви св. Богородицы) десятину въ всей РустЪи земли и съ всЪхъ княжений (?) въ соборную церковь св. Богородицы, иже въ КиевЪ (повторение!) и святЪй СофЪи Кыевъской и святъй Софеи Новгородцкой (анахронизмы: речь идет о Владимире и Ярославе, хотя последний не назван, а св. София в Новгороде заложена в 1045 г.) и митрополитомъ Киевскимъ и архиепископомъ (? с 1165 г.) Новгородскимъ, отъ всякого княжа суда десятую вЪкшу, а исъ торгу десятую недЪлю, а изъ домовъ на всякое лЪто отъ всякого стада и отъ всякого жита св. Спасу и пречистей его матери и премудрости божии св. Софии**, — а в дальнейшем Устав Всеволода великого князя сродни пространной редакции Устава Владимира, да и вообще носит следы интерполяций и переделок, и сам поэтому дошел до нас отнюдь не в первоначальном своем виде Так шла литературная история старшего устава, развившегося в еще более поздней письменности в повествование о льготах и заботах, какими церковь и духовенство пользовались со стороны Владимира Святого и других князей.
Возвращаясь к десятине, отмечу, что под 1037 г. летопись изображает ее так: Ярослав «церкви ставляше по градомъ и по мЪстомъ, поставляя попы и дая имъ от имЪнья своего урокъ, веля имъ учити люди*1. Так и в позднейшем Уставе, около 1135 г., Всеволода Мстиславича князь дает новгородской церкви св. Ивана на Опоках (в Новгороде) доход «отъ своего великоимЪния**, а по Уставу 1137 г. новгородского князя Святослава Ольговича — «Уставь, бывъший преже насъ въ Руси отъ прадЪд и от дЪд нашихъ» — состоит в том, что «имати пискупомъ десятину отъ даний и отъ виръ и продажи, что входить въ княжь дворъ всего**. Наконец, и Устав Ростислава смоленской епископии 1150 г. дает церкви десятину от всех даней смоленских, «что ся наречетъ области Смоленское, или мала или велика дань, любо княжа, любо княгинина, или чья си хотя, — правити десятину святЪй Богородици**. Церкви в XI—XII вв. идет десятина только с княжих доходов, идущих лично ему или уступленных им княгине, боярам и судьям, которым уставы запрещают нарушать церковные привилегии. Их же надо разуметь и под «людьми своими** князя Ростислава, а не вече, как хочет Владимирский-Буданов Не одна десятина составляла эти привилегии. Уставы старшие главным содержанием имеют определение суда церковного. Но вопрос о характере и объеме церковного суда более осложнен сомнительностью текстов уставов, особенно старейших, чем вопрос о десятине. Несмотря на ссылки уставов (начиная с пространной редакции Владимирова) на греческий «номоканон», на «уряженья** греческих царей и вселенских соборов, привилегии судебные церкви по уставам нашим значительно шире тех, какие были предоставлены самой греческой церкви. Кроме того, сомневаясь в достоверности уставов, указывают обыкновенно на два противоречия: между ними и бытовыми условиями древнерусской жизни, состоящие в том, что Устав Владимира передает в заведование епископов больницы, гостиницы и странноприимные дома, которых на Руси не существовало, и между уставами, с одной, и Русской Правдой, с другой стороны, состоящее в том, что споры о наследстве по Русской Правде подсудны княжому суду, а по уставам — епископскому.
Сами по себе все эти соображения не имеют решающего характера. При шлое духовенство могло своим влиянием расширить свою судебную компетенцию, по-своему излагая и греческие узаконения. Подобная тенденция могла естественно вытекать не только из столь обычного в истории церкви стремления ее иерархов усилить свое влияние, но и из мотивов, связанных с задачами церковно-просветительного влияния в новообращенной среде, влияния особенно на ее семейный быт. Упоминание о благотворительных учреждениях могло быть простым переносом греческой формулы и греческой практики, имевшей для духовенства на Руси значение привычной программы, плана действий. Наконец, противоречие между Русской Правдой и уставами относительно споров о наследстве, в сущности, мнимое. Русская Правда не говорит о подсудности спора о наследстве князю, а лишь о том, что «аще братиа растяжются предъ княземъ о задници, то который дЪтьскыи идеть ихъ дЪлити, тому взяти гривна кунъ»б; тут, по существу дела, не подсудность, а обращение к третейской роли княжого чиновника при спорах о семейном разделе.
Уставы Владимиров и зависящий от него Всеволодов относят спор братьев или детей о наследстве к судам, которые даются «церквам, всем епискупиям на Русской земле** с оговоркой, что «князем и бояром и судьям в те суды не вступатися». Тут наряду с попыткой духовенства монополизировать в свою пользу известную функцию можно видеть, ввиду того что речь идет о споре, решаемом в порядке третейского разбирательства, конкуренцию двух тенденций. Но как бы то ни было, и последний пример, и весь характер истории текста уставов заставляют видеть в них скорее выражение стремлений и притязаний духовенства, чем кодификацию норм действовавшего права. Быть может, наиболее правильным следует признать мнение о подлинности Устава Владимира Святославича, высказанное покойным канонистом А. С. Павловым на VIII Археологическом съезде (в Москве) Оно сводится к отрицанию, что Владимир был составителем устава, но что в основе его содержания лежат правила, установленные при Владимире. Сам же устав образовался, как и Русская Правда, путем работы частного лица, конечно духовного, причем к старейшей его части приписывались отдельные случаи — разновременные — передачи тех или других дел церковному суду. В таком случае устав в своей торжественной официальной форме является фальсификатом, но содержание его в целом ряде случаев, определимых только гипотетически, отражает действительность историческую или притязания духовенства.
Содержание это распадается на две части. По некоторым делам епископскому суду подсудны все христиане. Эти дела: роспуст (развод), смильное заставье (delictum flagrans; ср. чешское smilny — lascivus, smilstwo — fornicatio), пошибенье между мужем и женой о животе (драка), женитьба в недозволенных степенях родства или свойства, ведьство, зелийничьство (знахарство), уреканье — развратом, знахарством или еретичеством, зубояжа (?), побои, нанесенные детьми родителям, «братни ли дъти тяжутся о задници», церковная татьба, «мертвеца волочат, крест посЪкут или на стЬнах режут, скоты или псы или поткы безъ велики нужи введеть или что неподобно въ церкви подЪет44. «Тъ вся суды, — по Уставу Владимира краткой редакции, — церкви даны суть44 7.
Дополнения в перечнях подсудных церкви дел в пространной редакции Устава Владимира и в ее переделке в Уставе Всеволода не меняют общего их характера. Это дела по преступлениям против нравственности, против религии и церкви и дела семейного характера. Особый характер носит так называемый Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах. Он также дошел в ряде редакций, то более, то менее полных, с различными введениями. Две черты в нем особенно привлекают внимание: 1) за ряд преступлений полагается денежный штраф епископу,, а князь казнитъ" или, а казнять его волостельскою казнью", под чем разумеется, вероятно, тот или иной вид физического наказания; 2) плата за преступления различна, смотря по значению потерпевшего лица. Последняя черта будет нами рассмотрена особо в связи с той же особенностью Русской Правды.
А первая дала Ключевскому повод очень высоко оценить внутреннее достоинство Ярославова устава, который, «углубляя понятие о преступлении44, «значительно расширил область вменяемости44, так как почти вся определяемая им компетенция церковного суда, обнимавшая жизнь семейную, религиозную и нравственную, составилась из дел, которых не считал преступлениями или не предусматривал древний обычай. Это меткое замечание касается вообще древнейших уставов о церковном суде. Оно подчеркивает общую их тенденцию изменить представление о каре как мести или вознаграждении потерпевшего другим, более государственным, видящим в наказании акт власти, которая поставлена от бога, как говорили епископы Владимиру, «на казнь злым, а добрым на милованье44.
Напомню вам предание об этой беседе: «Живяще же Володимеръ в страсЪ божьи и умножишася разбоеве, и рЪша епископи Володимеру: „Се умножишася разбойници, почто не казниши ихъ?“ Он же рече имъ:, Боюся грЪха». Они же рЪша ему: «Ты поставленъ если отъ бога на казнь злымъ, а добрымъ на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со испытомъ44. Володимеръ же отвергъ виры, нача казнити разбойникы, и р’Ьша епископи и старци: «Рать многа; оже вира, то на оружьи и на конихъ буди44. И рече Володимеръ: «Тако буди44. И живяше Володимеръ по устроенью отьню и дЪдню».
В сопоставлении с Уставом Ярослава этот рассказ, может быть, получает не лишенный интереса исторический смысл как след попыток византийского по воззрениям и происхождению духовенства привить на Руси новые представления о роли государственной власти. Будущее, далекое историческое будущее, было за этими представлениями. Но ближайшее время их не приняло. Поэтому рассказ летописи заканчивается известием о возврате к системе обычных денежных кар за преступления. Поэтому и Устав Ярослава, имеющий, вероятно, историческую основу, что поддерживается его родством с Русской Правдой, и в градации взысканий и в денежной системе, должен быть признан памятником, выражающим тенденции духовенства, нашедшие, может быть, поддержку со стороны Ярослава, но не может служить источником для изучения действительной практики того времени. Вот почему и стоит он так обособленно даже в ряду других церковных уставов.
Не имея никаких документов, которые познакомили бы нас с действительной практикой церковных судов, мы не в состоянии дойти до желательных результатов в выработке отчетливого представления об их роли и вынуждены ограничиться самой общей характеристикой круга дел, подлежащих их ведению относительно всех мирян.
Другую сторону судебно-административных привилегий церкви составляло изъятие, полное или ограниченное, из-под ведения княжого суда и княжой администрации так называемых церковных людей, т. е. духовенства и служащих при церкви, живущих при церквах или монастырях или на церковных землях, состоящих под опекой церкви людей. Краткая редакция Владимирова устава говорит без ограничений, что «митрополитъ или епископъ вЪдаетъ межю ими судъ или обиду, или котора, или задница*4; если же есть дело между и сторонними людьми, то «обчий** суд, т. е. судят и делятся судебными доходами вместе судьи духовный и княжой.
То же находим в одной — полагаю, старшей — редакции Ярославова устава: «А что дЪется въ домовыхъ людехъ и церковныхъ и въ монастырех — и не вступаются княжи волостели въ то, а то выдают епископли волостели**.
Позднейшие редакции обоих уставов содержат уже оговорку: «Судити ихъ оприсно мирянъ, развЪе татьбы съ поличнымъ, то судити съ моимъ, та же и душегубление, а въ иные дЪла никакоже моимъ не вступатися» .
Состав этих «церковных людей** определяется в краткой редакции Устава Владимира так: «А се церковные люди: игуменъ, попъ, дьяконъ, и кто въ клиросъ, черньцъ, черница, попадия, проскурница, поповичь, лЪчецъ, прощеникъ, задушный человЪкъ, монастыреве, больници, гостиници, странноприимници: то люди церковный, богадЪльные**. Устав Всеволода, развивая Владимиров, добавляет паломника, свечегаса, странника, слепца, хромца, а слово «прощеник** заменяет словом «пущеник**, затем добавляет изгоев с знаменитым определением: «изгои трои: поповъ сынъ грамотЪ не умЪеть, холопъ исъ холопьства выкупится, купецъ одолжаеть**. Три термина в этом перечне требуют объяснения: «прощеник44 («пущеник44), «задушный человек44, «изгой44.
Слово «прощеник44 обыкновенно объясняют: получивший чудесное исцеление. Основание для этого видят в передаче Герберштейном Владимирова устава, именно в словах «Volodimerus potestati spirituaHum subjecit... et hos qui miraculum ab aliquo sanctorum acciperint44 ["Владимир подчинил власти духовных лиц … и тех, кто получил чудесное исцеление от какого-нибудь святого44], в том, что слово «прощеник44 в других текстах — «прощеники божии44, получившие прощение грехов или исцеление у святых мощей. Другое пояснение предлагает Голубинский, опираясь на текст Маржерета: «В России есть особенный орден, состоящий из людей, которые, предчувствуя приближение смерти, были соборованы маслом, однакоже не умирали; такие люди обязываются носить до самой кончины платье, похожее на монашеское. .. жены их имеют право выйти за другого замуж44. Голубинский указывает, что в некоторых местностях России и теперь выздоровевшие по соборовании считаются как бы воскресшими из мертвых и обязанными жить не как другие люди, но аскетически. Таких он и предлагает разуметь под прощениками Некоторое недоумение в исследователях вызывало большое количество «прощеников44 и выделение их в особый класс. Так, в грамоте князя Ростислава смоленской епископии (1150 г.) читаем: «А се даю святЪй Богородици и епископу прощеники, съ медомъ и съ кунами, и съ вирою и съ продажами, и не надобЪ ихъ судити никакому же человеку». Этот текст в сопоставлении с такими топографическими именами, как Прощеник (близ Пскова, Новг. I) вызывает представление о существовании поселений «прощеников44.
Вероятно, такие впечатления заставили Срезневского предложить — правда, с вопросительным знаком — отождествление прощеника с задушным человеком, что можно поддержать ссылкой на замену слова «прощеник44 пущеником в Уставе Всеволода Ольговича. В таком случае прощеник оказался бы холопом, отпущенным на волю «бога деля44. Но едва ли есть прямое основание так суживать значение термина «прощеник44, скорее обходя этим трудность его толкования, чем разрешая ее. Сопоставим лучше его значение с термином «изгой44.
Глосса в грамоте Всеволода Ольговича знает три вида изгойства — безграмотного поповича, разорившегося купца, выкупившегося на свободу холопа. Этимологический смысл слова достаточно ясен. Не знаю только, есть ли прямое основание считать его заимствованным: указывают на латышское izgois — вышедший, на готское usgais jan — выходить, usgauja — изгнанник; среди современных провинциализмов указано Беляевым выражение «изгойные поля44 в смысле «отдельные44. И с этим ставят в связь значение «вышедший из своей социальной группы, выбитый из обычного строя жизни и общественного положения», считая основным источником изгойства выход холопа из холопства 8. Действительно, в древнем «Наставлении духовнику о принятии кающихся» читаем требование, чтобы, кто продает челядина, брал за него не больше, чем сам дал, и чтобы, кто выкупается на свободу, давал за себя столько же, сколько за него заплачено. Лишек при таких сделках называется в этом наставлении «изгойством44, «и се пакы горЪе всего емлющимъ изгойство на искупающихся отъ работы44 и не удовлетворяющимся «ценою уреченою44, а требующим еще после выкупа платы с бывшего холопа или ищущим изгойства с его детей, родившихся на свободе, с помощью лжесвидетелей 9. Изгои, подобно прощеникам и больше их, играли видную роль в княжеском и церковном землевладении. В той же местности, под Псковом, где мы встретили Прощеника, находим княжье село Изгои , 0. «Села со изгои44 упоминаются в актах. В грамоте Ростислава смоленского князь дает св. Богородице и епископу «село Дросенское, со изгои и съ землей44, «село Ясенское и съ бортникомъ и съ землею и съ изгои44, а «изъ двора своего44 — «на горЪ огородъ съ капустникомъ и съ женою и съ дЪтми, за рЪкою тетеревникъ съ женою и съ дЪтми44; устав о мостовой повинности в Новгороде: «А владыцЪ сквозЪ городная врота съ изгои, а съ другыми [изгои] до Острое улици44
Климент Смолятич подчеркивает эту экономическую роль изгоев в развитии крупного землевладения, осуждая «славы хотящихъ, иже прилагають домъ къ дому, и села къ селомъ,згои же и сябры, и борти, и пожни, ляда же и старины44
Чтобы получить полное представление о материале для толкования занимающих нас терминов, вспомним и о задушных людях. Это тоже холопы, вышедшие из холопства, но не выкупом, а отпущенные на волю «на помин души44 по духовным завещаниям.
Осмыслить и объединить все эти разрозненные впечатления можем, сопоставив их с данными позднейшего времени о составе населения, работавшего на монастыри и зависевшего от них. Тут находим «трудников44, которые с малых лет в монастырских огородах «тружаются44, безродных сирот, которые «за сиротством44 кормятся при монастыре, работая в его хозяйстве, людей, которые «были крестьянами, да за скудостью сошли на монастырский двор и живут в коровниках, скотниках» и т. п., — видим добровольных работников, которые по обету временно, годами или вечно живут при монастырях в положении монастырских работников, как это и в XX в. можно было наблюдать, например, в Соловецком монастыре. Такими были прощеники, изгои и другие обездоленные судьбой, находившие на монастырской земле или за монастырской оградой зависимое, но определенное положение, защиту и материальное обеспечение.
Перед нами, как увидим, пока разрозненные черты очень глубокого и важного социального процесса, к которым мы еще вернемся в связи с вопросом о происхождении и значении крупного землевладения — княжеского, церковного и боярского" (Архив ЛОИИ. Ф. 193. рп. 1. Д. 2. С. 231—252).
ж Редакция 1907—1908 гг. содержала также следующий текст:
«Какие выводы можно сделать из перечисленных фактов относительно характера княжеского владения в древней Руси до смерти Ярослава Владимировича?
Прежде всего надо подчеркнуть то, что уже отмечалось: полное отсутствие каких-либо указаний на понятие старейшинства, каких-либо преимуществ первородного сына. Борьба идет каждый раз за всю отчину, за все, чем владел отец, и кончается, лишь когда кто-либо начнет один владеть в Русской земле.
Иной, конечно, характер носят столкновения Владимира с сыновьями: тут борьба отца за власть над сыновьями, борьба с их попытками выбиться из-под нее и, стало быть, выделить в полное особое владение себе то, что получено от отца в заведование как частью общего целого. Удалось это фактически одному Изяславу — после смерти отца или раньше, не знаем. Но Полоцкая волость сразу становится отдельным владением Изяславова рода, а позднейшие попытки Ярослава, его сыновей и внуков восстановить зависимость Полоцка от Киева не давали прочных результатов.
Как только прекратилось сиденье княжого рода совместно одним гнездом в Киеве, с первого реального раздела владений между братьями-сыновьями перед Киевской Русью стоят только две возможности: восстановление единства путем борьбы и уничтожения родичей или дробления на ряд обособленных владений.
Такая оценка перечисленных фактов не только прямо из них вытекает, но объясняется и подтверждается путем сравнения с древнейшими формами княжеского владения у других славянских народов и сопоставления с особенностями древнего обычного наследственного права вообще.
Чтобы понять эти явления, надо иметь в виду, что перед нами такой момент в развитии понятий и фактов наследования, который, во-первых, связан с семейными, а не родовыми отношениями, а, во-вторых, осложнен и обусловлен политическими интересами служившего объектом владения и наследования молодого государства.
Все, что мы наблюдали, происходит в пределах одной семьи, состоящей из отца и сыновей-братьев. Для объяснения этих явлений неприложимы, по крайней мере взятые во всей их сложности, понятия, заимствованные из области кровно-имущественных отношений задружного или родового быта, господствовавших в племенном быту и обычном праве восточного славянства. Основным фактором наследования в семейном союзе является воля отца. Строй семьи, основанный на отцовской власти над детьми, осложняет вопрос об имущественных отношениях членов кровного союза. Если вообще «право наследства возникает не из искусственного размышления, а коренится в совладении лиц, живущих в одном доме с наследодателем, разделявших вместе труды приобретения имущества и право пользования им», то эта общая основа древнего обычного наследственного права в союзе семейном осложняется началом отцовской власти. И в результате нормы семейного права оказываются результатом компромисса между двумя разнородными началами, их создававшими.
Воля отца не безгранична в распоряжении имуществом; завещания в смысле римского тестамента древнее право не знает. Оно незыблемо определяет круг наследников: это сыновья. Но раздел между сыновьями в воле отца. Как гласит Русская Правда: «Аже кто умирая разделить домъ свои дЪтемъ, на томъ же стояти». Если же отец раздела не произведет, а «умреть без ряду», то наследство всем детям. Старинное обычное право не знало различия в правах сыновей, не знало его и древнейшее княжое право, ничем не выделявшееся до поры до времени из общего обычного правового уклада.
Результат раздела — прекращение совладения, распад связанной им социальной группы. Но результат этот осуществлялся в полной мере в тех случаях, когда не было налицо иных интересов неимущественного характера, достаточно сильных, чтобы вызвать к жизни явления нового порядка.
А такие интересы бывали налицо и в недрах старого славянского племенного быта. Глава рода, общины задружной, был не только распорядителем работ совместных и общего имущества, он представитель рода перед богами, своего рода жрец, и управитель, хранитель норм обычного права, имевших в древнейшем быту сакральный характер и. И слово «князь» в истории своей у различных славян сохранило следы двойственности первоначальной племенной власти. Оно значит «священник и князь». С распадением хозяйственного, имущественного единства кровного союза сохранялось единство культа и обычноправового порядка. Связанные с этими интересами функции и у славян и у германцев оставались часто в руках одной семьи, из которой и выходили их носители. Но понятие наследования, выросшее на почве имущественного совладения, к этому новому явлению было неприложимо. Оно и не прилагалось, заменяясь выбором вождей, но непременно из определенного рода, сохранявшего традиционную привилегию такого характера.
Не прилагалось, как мы раньше видели, понятие наследства и к должности главы задруги, домачина, старейшины или как бы он там ни назывался. И тут решающее значение имели тот или иной фактический авторитет или выбор при отсутствии строго определенного порядка преемства.
Вообще, если сказать по-современному, гражданское или частноправовое понятие наследства в древности ни у славян, ни у германцев не прилагалось к публичноправовым функциям власти. Это не значит, чтобы оно не применялось вообще к княжескому владению. Напротив. По смерти князя-отца его княжение как вотчина переходило ко всем его сыновьям, открывая перспективу либо раздела, либо совладения. Первые же попытки пойти по пути раздела приводили, однако, к опасности полного разрушения вековой работы ряда деятелей, ряда поколений. И раз за разом в кровавой борьбе восстанавливается единство государства путем уничтожения соперников-братьев и прочей родни, если она была налицо.
Кровавы первые страницы молодых государств славянских и германских. И это не «случайность», не «черта нравов» грубой эпохи. Это жестокая историческая необходимость эпохи первого возникновения государственности, еще не успевшей окристаллизоваться в подходящих для ее потребностей формах. Вполне сходно положение вопроса о судьбе княжения при наличности нескольких сыновей у умершего князя — и у нас, и в Чехии, и в Польше. Понятие наследства ведет к распаду, потребность сохранить раз созданное единство — к кровавой борьбе. И то же положение дел наблюдаем в германском мире. И там, за одним любопытным исключением, долго не создавалось политического наследства, понятия и факта преемства власти, престола, а такой же, как у нас, склад обычного имущественного наследования грозил молодым политическим организмам полным распадом. Противоядий было два. Народное избрание единого конунга из членов княжого рода часто предотвращало дробление государства между сонаследниками, или же кровавая борьба разрешала вопрос , 2. «Лишь общее право на корону принадлежало вообще всем членам королевского дома: в каждом отдельном случае выбор народа определял, кто из нескольких, самих по себе призванных к короне, на этот раз будет возведен, независимо от степени близости по родству к предыдущему конунгу» , 3. «Прочное преемство, которое установило бы преемство определенного лица, не получило правовой силы ни в одном из германских государств».
Итак, отмеченное явление имеет общеисторическое значение. Но в дальнейшем развитие вопроса о государственном преемстве получило различный характер у славян и германцев. В германском мире начало народного избрания сыграло несравненно более крупную роль, чем у славян, а затем уступило место назначению, по римскому примеру, преемника самим государем, с коронацией и соправительством еще при жизни предшественника. Эти приемы и у нас сыграли позднее большую роль. Но Киевская Русь их не знает. И выход нашелся иной, такой же, как у чехов и поляков, выход, подсказанный самой жизнью и некоторыми явлениями, встречавшимися, вероятно, часто в родовом задружном быту.
В 1055 г. Бржетислав чешский завешал своим сыновьям новый порядок, заклинания их принять и хранить его. Суть была в том, «дабы всегда старейший имел верховную власть и стол княжения, а все его братья и все, кто из княжого рода, были бы под его властью».
Через 80 лет на тот же путь вышла и Польша. Известия о завещании Болеслава Кривоустого, умершего в 1138 г., находятся в целом ряде польских хроник. Но наиболее четкую формулу приведу из письма папы Иннокентия III к архиепископу гнезненскому (9 июля 1210 г.): «Когда Болеслав, бывший князь Польши, раздал отдельным сыновьям своим определенные части в Польше, оставляя старшему город Краков, он установил, чтобы всегда, кто старейший в его роде, имел этот город, так чтобы если старейший умрет или откажется от своего права, то вступал бы во владение этим городом тот, кто во всем роде после него старейший»14. Тут, согласно с темой письма, речь идет только о владении столицей. Но другие источники, например Хроника Кадлубка, поясняют, что мысль Болеслава была в том, «ut penes majorem natu et cracoviensis provinciae principatus et auctoritas resideret principandi» ["чтобы в обладании у старшего по рождению находилось и княжение Краковской областью, и княжеская власть"), указывая притом письменное завещание Болеслава (testamentales соdicillii).
В Киеве годом раньше Бржетислава чешского умирал Ярослав. Перед кончиной он «наряди сыны своя», увещал их жить в мире и держаться дружно. Руководящая мысль его наряда — сохранение «земли отець своихъ и дЪдъ своихъ, юже налЪзоша трудомъ своимь великымъ». С этой целью он делает такое постановление: «Се же поручаю в собе мЪсто столъ старейшему сыну моем и брату вашему Изяславу Кыевъ, сего послушайте, якоже послушаете мене, да той вы будеть в мене место» , 5.
Самый текст не дает указания на установление Ярославом общей нормы на будущее время. Только то, как понималось его завещание позднее князьями, дает основание видеть в нем установление нового политического порядка, подобного тому, какой ввели в Чехии и Польше Бржетислав и Болеслав.
Как видите, нет никаких оснований для вывода княжеского порядка «родового» владения Киевом и великим княжением из обычных гражданских отношений наследования и преемства. Это не значит, чтобы между ними не было связи. Не наследство установлялось этим порядком, а преемство во власти старейшинства, притом так, что один из вариантов, возможных в практике жизни семейных общин, возводился в норму княжого преемства. Существенным недостатком Эверсо-Соловьевской родовой теории было упущение из виду различия между семейным или родовым наследством — с одной, и преемством во власти старейшины, с другой стороны. В завещании Ярослава речь шла только о последнем.
Нет оснований искать корни этого порядка в германском быту. Германский мир не знал ничего подобного, за одним, как сказано, исключением. Именно Гейзерих вандальский (ум. 477 г.) установил преемство по так называемому принципу сеньората (в отличие от майората) так, чтобы вступал во власть каждый раз старейший из родственников по мужской линии умершего короля 1б, притом без зависимости от степени ближайшего родства с предшественником" (Архив ЛОИИ. Ф. 193. On. 1. Д. 1. С. 214—225)
ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ. КИЕВСКАЯ РУСЬ.