Основные изменения семейных отношений в России в XX в
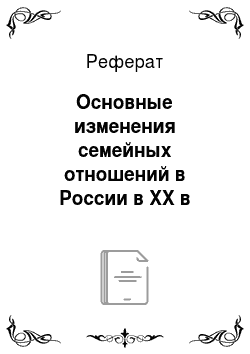
Однако нельзя не отметить, что все социальные изменения во всех странах, так или иначе улучшавшие положение женщин, вели к изменению/снижению роли отцов. Оглядываясь назад, подчеркнем, что во всех развитых странах к середине XIX в. авторитет отца, как светский, так и религиозный, начал падать. Под влиянием фабричного производства семейная экономика, т. е. экономика домохозяйств, слабела. Так… Читать ещё >
Основные изменения семейных отношений в России в XX в (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Отметим, что из истории и русской художественной литературы вполне очевидно, что ни дворянская, ни крестьянская семья в дореволюционной России не были ориентированы на воспитание детей как приоритетную функцию семьи. Да, детей рождалось, как правило, много в семьях разных сословий. Но это было связано и с нормами православия, и с отсутствием противозачаточных средств, но не с идеей сверхценности детей. Да и вряд ли такая идея могла возникнуть в обществе, где к началу XX в. до 18 лет доживало пятеро из десяти рожденных детей. Кроме того, нужно подчеркнуть, что крестьянская семья (напомним, что в соответствии с результатами первой переписи населения России в 1889 г. около 85% населения относились к этому сословию) была в первую очередь домохозяйством, а приоритетными у домохозяйства были экономические функции и обязательства, отношения собственности и порядок ее наследования, а вовсе не эмоциональные отношения родительства.
Осмысление семейных норм и практик воспитания также не было однозначным. Можно выявить две противоречивые модели. В. Вейдле «называет „семейное родство“ главной чертой русской культурной модели в сравнении с западной. Он уточняет это понятие, говоря об „инстинкте рода“, об „остром чувстве человеческого гнезда“ или о тесном сообществе, в которое каждый из членов так глубоко погружен, что испытывает трудности, отделяясь от него. В этой модели единство рода кажется более важным, чем личность, оно поддерживается самими индивидами. Более того, главенство этого органического жизненного принципа распространяется за пределы семьи, которая не только не замкнута на себя, но, напротив, совершенно открыта для посторонних лиц. „Непрерывное чувство общности“ с близкими распространяется не только на членов семьи, но и на членов своего клана или своей социальной группы. По Вейдле, именно эти особенности отличают русскую семью от французской. Он описывает эту последнюю как новую социальную ячейку, которая отпадает от общества и опирается более на право, чем на мораль, и более на мораль, чем на элементарный инстинкт» [цит. по: Курильски-Ожвэн, 1995].
Исходя из этих соображений можно предположить, что советская семья так быстро потеряла приватность в ситуации интенсивных вмешательств советского государства в 1920— 1930;е гг., поскольку не имела опыта приватности и защиты своих границ от внешней среды. Конечно, данный вопрос связан еще и с общей идеологией индивидуализма/коллективизма. Однако те же французы никогда не были индивидуалистами, но к семейной приватности, равно как и границам частной жизни, всегда относились более бережно, чем россияне. Изложим эти соображения более подробно.
Революция 1917 г. была и революцией в семейно-брачных отношениях. В послереволюционной России/СССР был отменен церковный брак, а индустриализация и урбанизация быстро поменяли и представления о традиционных семейных обязательствах, и модель репродуктивного поведения. Вместо православия как государственной религии гражданам страны в качестве идеологической основы социализации предлагалась сначала широко обсуждавшаяся новая художественная литература, а затем, в более позднее время, — суррогат библейских заповедей — «Моральный кодекс строителя коммунизма». Обозначенные в нем семейные ценности — это «взаимное уважение в семье, забота и воспитание детей», что не так плохо, если этому следовать, однако получилось, что забота и воспитание детей остались полностью женским делом [Моральный кодекс, 1971].
Средством воспитания масс вместо религии надолго стала социалистическая литература. Она отзывалась на те новшества, которые были связаны со строительством «нового быта», созданием новых форм взаимоотношений между полами. Одними из действительно первых литературных произведений, пробивших брешь в традиционной картине весьма пуританского изображения отношений полов, стали литературные опыты А. М. Коллонтай. Серия рассказов, объединенная единым заголовком «Любовь пчел трудовых», куда вошли также рассказы из серии «Женщина на переломе (психологические этюды)», а также «вторая серия» произведений, опубликованных четыре года спустя (повести «Большая любовь» и «Василиса Малыгина», рассказы «Сестры», все — 1927 г.) [Коллонтай, 1923, 1927], поставили проблему изменения сексуальных отношений, показав возможность обсуждать эту «трудную тему» прямо и откровенно, но при этом корректно и достойно.
Становление «нового быта», естественно, вызывало огромный интерес, поскольку значительная часть молодежи жила коммунами, где было «все общее: и пальто, и стакан, и ботинки, и даже нижнее белье». Такие коммуны создавались повсеместно, были свои коммуны и в МГУ, где «все коммунары должны были называться „братьями и сестрами“». Однако то, что описывалось А. М. Коллонтай и другими авторами и что действительно существовало в студенческой, пролетарской среде — все это стало вызывать раздражение. Это была настолько нелицеприятная правда, что от нее идеологам «нового быта» показалось разумнее всего отречься[1]. И к началу 1930;х гг. в литературном дискурсе медленно, но верно стала происходить подмена бывшей когда-то символом эмансипации от старых моральных норм идеи свободных отношений между полами идеей медленного возвращения к хорошо забытому старому: необходимости строительства «длительной парной семьи как единственной формы семьи, которая нам нужна» [Луначарский, 1927]. «Нужная» форма семьи предполагала вполне традиционное распределение семейных ролей, но такая семья должна была состоять из равноправных (для социума) работников.
В это чрезвычайно динамичное и противоречивое время, с одной стороны, стал более массовым новый тип городской семьи, где мать длительное время не работала, поскольку дети были маленькими. Поэтому петербургские социологи С. И. Голод и А. А. Клецин, анализируя становление и развитие семьи в России, указывают на 1920;е гг., как на время формирования семьи детоцентристского типа [Голод, Клецин, 1994]. Подчеркнем, что семья могла стать таковой, если бы параллельно характер отношений между государством, родителями и детьми не менялся столь быстро. С одной стороны, дети были нужны государству, с другой — ему нужны были и женщины, которые «сидели дома». Вытащить их оттуда стало предметом заботы государства, нуждавшегося в рабочей силе. Это новое понимание связывалось с необходимость участия женщин в строительстве нового общества, а проще — с новыми видами занятости вне дома, на заводах, фабриках, стройках.
Параллельно советский тип мужественности складывался под сильным воздействием милитаризованного государства. Плакатно-демонстративные спортсмены и воины формировали восприятие нескольких поколений. Предполагалось, что семья находится на обочине тех государственных задач, которые предстоит решать мужчинам. А с семейными делами справятся женщины, которым поможет государство. Готовность отдать жизнь за Родину и пожертвовать всем находила множество литературных и киновоплощений, причем в образах отнюдь не «бумажных» солдат.
Обложки книжек по истории социальной политики иллюстрируют и символизируют изменения отношений между государством, женщинами и детьми. На обложке книги о первом послереволюционном периоде видим женщину-работницу на фоне Вождя, политбюро, мавзолея и ребенка…
Образ «работницы-краснокосыночницы» намеренно акцентирован, вынесен на передний план. Она как бы вовсе не имеет отношения к ребенку, она на плакате и не мать вовсе, а «строительница нового мира». Ребенка поддерживает отец, но опять же не обычный, а «Отец нации» и вождь народов Сталин. За спиной Сталина — Политбюро, Правительство, государство…
Эта обложка, воспроизводящая плакат того времени, наглядно показывает новые отношения между матерью, ребенком и государством. Из него совершенно ясно, что государство поддерживает детей для того, чтобы матери могли работать. При этом государство несет детям «счастливое детство».. Одним из широко распространенных и массово тиражированных символов «детства» в 1930—1950;е гг. в Советском Союзе был образ бурятской девочки Гели Маркизовой на руках вождя И. Сталина с девизом: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Данный визуальный объект стал настолько излюбленным средствами информации и в массовой культуре, что фигурировал в довоенное и послевоенное время в качестве пропагандистского символа на открытках, плакатах, коробках конфет, в виде скульптур в парках отдыха, санаториях, школах, детских лагерях, на улицах и площадях городов Советского Союза. Важным семантическим символом обоих плакатов выступает «роль Сталина как отца, который замещает роль реальных отцов. Объятия, в которые он заключил ребенка, задают ощущение защищенности, опеки, покровительства. Снимок становится транслятором ценности вождя и его заботы о детях. Показушная приветливость, лакировочность ко всем эпитетам и образам вождя успешно дополняется образом любимца детей. Вождь и девочка архетипически выражают связь поколений, гармонию, всеобщее благо, полноту бытия, комфорт, уют» [Дашибалова, 2007]. Особую интонацию заботы в этой ситуации подчеркивает то, что родители реальной Гели были репрессированы.

Большинство исследователей согласны, что основным фактором, повлиявшим на демографическое и социально-экономическое развитие в XX веке, был выход женщин на рынок труда, относительно более постепенный на Западе и стремительный в СССР. Этот новый фактор существенно изменил как характер политических решений, поскольку государство требовало участия женщин в производстве (долой буржуазный быт!), так и модели семейного поведения, считавшиеся нормативными, и практики организации повседневной жизни семьи.
Однако нельзя не отметить, что все социальные изменения во всех странах, так или иначе улучшавшие положение женщин, вели к изменению/снижению роли отцов. Оглядываясь назад, подчеркнем, что во всех развитых странах к середине XIX в. авторитет отца, как светский, так и религиозный, начал падать. Под влиянием фабричного производства семейная экономика, т. е. экономика домохозяйств, слабела. Так, в США перемены в законодательстве середины XIX в. понизили авторитет и ответственность отца. Решение суда штата Пенсильвания о родительстве от 1839 г. создало новый прецедент. Было установлено, что правительство может забирать детей от родителей, если те ими пренебрегали и нарушали закон. Суд впервые дал государству власть над детьми, и гораздо большую, чем отцам. Несколько десятилетий спустя были изменены законы об опеке над детьми, в которых предпочтение отдавалось отцу. В 1820 г. отец (а после его смерти — и мать) обычно становился опекуном ребенка, поскольку считалось, что отцы, по сути своей, «естественные защитники», дающие детям образование и поддержку. Однако в конституции 1859 г. штата Канзас, была введена новая модификация закона, быстро адаптированная всеми другими штатами и направленная на защиту прав женщин, включая их равные права на обладание ребенком. К началу XX в. практически уже стало правилом отдавать роль опекуна матери. Это показывает, что произошло полное переосмысление старого правила и отрицание прав отцов как «естественных защитников» детей.
Религиозный аспект отцовства также пострадал. В конце XIX в., когда мужчины переместились на фабрики и в офисы, их роль религиозных учителей ослабла. Отцовское лидерство в изучении Библии и в молитвах стало весьма редким, религиозное лидерство в доме перешло к матери. Христианство в целом становилось как бы женской верой.
Уже в середине XX в. концепция «планируемого родительства» исходила из того, что государство не может регулировать или запрещать аборт в течение первого триместра беременности, когда доктор и пациентка заняты медицинскими аспектами здоровья. Право матери принять решение по уничтожению эмбриона оказалось выше права отца защитить его. Опять же в США судья Уайт писал: «Удивительно, что большинство находок в Конституции — это доказательство более сильного права матери уничтожить потенциальную человеческую жизнь посредством аборта по отношению к отцовскому праву предоставить человеческому эмбриону право стать ребенком».
В СССР примерно в то же время возникла новая, «пролетарская», семья как бюрократическая и направляемая, государством организация (та самая «нужная», по выражению Луначарского), а вовсе не семья — ячейка общества[2]. Было принято довольно проработанное законодательство, созданы общедоступные детские ясли и сады, позволявшие матери совмещать родительство и работу. Однако качество услуг в детских учреждениях было крайне низким, дети болели, что не давало матери сосредоточиться ни на детях, ни на работе. В новой семье, где женщина стала экономически самостоятельной, «мужкормилец» стал терять значительную часть своего влияния, реального и символического. Было бы попросту несправедливо отрицать позитивные моменты этих изменений, а именно:
- — женщины получили доступ к образованию и занятости;
- — экономически самостоятельные женщины стали гораздо меньше зависеть и от мужчин, и. от общественного мнения, могли иметь детей в браке и вне его;
- — возникла социальная инфраструктура, поддерживающая материнство: детские ясли, сады, продленные группы и дома пионеров.
Эти изменения отражены на следующем плакате, послужившем обложкой книжки о новом этапе советской социальной политики.

Но эти же изменения вызывали негативные следствия, или, как сейчас требует их назвать социологическая мода, новые риски:
- — политически акцентировались родительские обязанности женщин, а отцы куда-то исчезли из дискурса семейно-родительских отношений. Оказалось, что их единственная обязанность — приносить в дом зарплату;
- — у женщин стала повсеместной двойная занятость, причем равноправие на работе «усугублялось» полным отсутствием, как правило, участия мужа/отца в решении семейнородительских и бытовых проблем;
- — поддерживающие учреждения давали возможность общаться с ребенком минимальное количество времени, поскольку даже летом детей отправляли в пионерлагеря, чтоб не оставались без надзора. Как сказал бы по этому поводу М. Фуко, теперь уже не только женщин, но и детей вытащили из дома и семьи и заперли в надзорные учреждения, где они осваивали школьную науку вместе с нормативными моделями поведения. Таким образом, можно сказать, что индустриализация и урбанизация завершили историю больших многопоколенных домохозяйств, поскольку они были по преимуществу крестьянскими. А развитие городского образа жизни очень быстро превратило «дом», т. е. городскую квартиру, в пустое, с точки зрения целого ряда функций, место. То, что раньше делалось семьей, в кругу семьи и т. п., было вынесено за ее пределы. Из семьи «вытекли» ее функции вместе со временем, необходимым для них. Теперь семьей стало нужно успевать заниматься после работы, и, конечно, рекордсменами такого успевания были женщины.
В этом смысле можно согласиться с точкой зрения, что советская семейная политика, делавшая акцент на поддержке именно материнства, может быть названа «политикой дефамилизации».
- [1] Подробное изложение вопроса см. в статье А. М. Пушкарева, снабженной серьезным библиографическим аппаратом (см.
список литературы
).
- [2] Многие авторы давно высказывают сомнения в том, что семья когда-либо таковой была, и сомнения небезосновательные. Так, Ф. Ариес в уже цитированной книге о детях отмечает: «Я не думаю, что большая семья, включаяпредставителей нескольких поколений или нескольких ветвей родственников, существовала где-либо, кроме воображения моралистов (например, Альбертив XV в. или французских социалистов-традиционалистов XIX в.)». Однако онделает исключения для ряда стран или эпох, связанные, в первую очередь, с порядком наследования. Если следовать этой логике, то большие крестьянские семьи в России существовали именно потому, что до смерти отца имущество не делилось, да и с делением земельных наделов были определенныесложности. Поэтому все жили вместе «из нужды», а не из родственных чувств. О воспитательных практиках крестьянских семей написано довольно много, и очевидно, что они были более чем простыми.