Критика, устанавливающая научно-историческую ценность показаний источника о факте
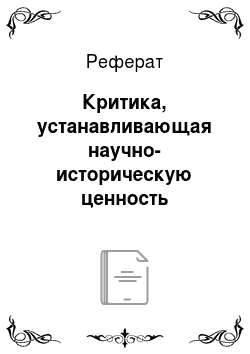
Ложное известие нередко возникает так же, как и ложное свидетельское показание: посредник может кое-что убавить из него или прибавить к нему, ослабить или усилить некоторые его черты и т. п. Передавая чужое показание не в полном его виде, т. е. скрывая часть его, посредник может, конечно, и не вполне извратить, а только урезать его содержание. После сражения при Бородине, например, Кутузов… Читать ещё >
Критика, устанавливающая научно-историческую ценность показаний источника о факте (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Вообще, можно сказать, что всякий, кто высказывает какое-либо суждение о факте, дает показание о нем.
Простейшее из таких показаний, казалось бы, состоит в утверждении или отрицании факта; но и оно обыкновенно оказывается довольно сложным.
В самом деле, утверждая или отрицая факт, субъект уже включает в свое показание несколько понятий, в сущности заключающих суждения, хотя бы в скрытой форме; вместе с тем он обыкновенно судит о том, что факт случился или не случился, по нескольким признакам, не выделяя каждый из них, что также осложняет содержание его показания; далее, он часто оценивает факт и, значит, включает в свое показание более или менее ясно сознаваемый критерий своей оценки, свое «настроение» и т. п.; наконец, высказывая свое мнение о факте, он, с принятой им точки зрения, понимает, строит и изображает его, далеко не всегда выделяя его из других связанных с ним фактов; следовательно, он часто дает показание не об одном, а о нескольких фактах и легко смешивает вышеуказанные суждения о них между собою. В громадном большинстве случаев историк и имеет дело со сложными показаниями: каждое из них может содержать несколько суждений, более или менее связанных между собою и касающихся одного или даже нескольких фактов.
Естественно, что при таких условиях даже то показание, которое высказывается на основании данных собственного своего чувственного восприятия, может быть истинным или неистинным и, значит, может оказаться пригодным или непригодным для познания исторической действительности: каждое из суждений, входящих в его состав, подлежит проверке, прежде чем опираться на них для построения исторической действительности.
На основании принципа систематического единства сознания каждый из нас признает показание истинным, если содержание его согласуется с таким принципом, и, обратно, считает показание неистинным, если содержание его противоречит такому принципу; в той мере, например, в какой я могу отнести содержание данного показания к какой-либо истине, уже опознанной мною, я могу включить его элементы в систематическое единство моего собственного сознания и, значит, имею основание признать показание истинным; и наоборот, если я не могу включить их, я не считаю его истинным.
Истинное показание дает основание сделать достоверный вывод, неистинное ведет к выводу недостоверному; в таком смысле можно говорить и о достоверности или недостоверности самого показания; но историк придает этим терминам особый смысл в зависимости от того рода истины или неистины, с точки зрения которой показание получает свое значение для истории: оно может быть фактически истинным или неистинным, т. е. содержать истинные или неистинные суждения о действительно бывшем, и в таком смысле давать достоверное или недостоверное знание о факте, т. е. быть фактически достоверным или недостоверным; оно может обладать также большей или меньшей степенью фактической достоверности или недостоверности, что соответственным образом отражается и на источнике, образованном из таких показаний.
В самом деле, историк приписывает достоверность источнику, если он может отнести его показания к фактической истине; и обратно, он приписывает ему недостоверность, если он не может отнести его показания к такой истине. Следовательно, историк признает источник достоверным, если он на основании его показаний о факте может научно судить о том же факте, как если бы он сам испытал или не испытал его в своем чувственном восприятии; и обратно, он считает источник недостоверным, если на основании его показаний он не может судить о таком факте в вышеуказанном смысле.
Действительно, можно приписывать достоверность показанию и в положительном, и в отрицательном смысле. Понятие о связи между отнесением показания к фактической истине и суждением на его основании о факте, как если бы тот, кто о нем судит, испытал его в своем чувственном восприятии, ясно само по себе; но понятие о связи между таким же отнесением и основанным на нем суждением о факте, как если бы сам судящий не испытал его в своем чувственном восприятии, пожалуй, нуждается в некотором пояснении; дело в том, что историк может приписывать достоверность и такому показанию, которое сообщает, что (мнимый) факт, интересующий историка, не существовал в действительности; в таком случае историк судит на основании показания о факте, как если бы он сам не испытал его в своем чувственном восприятии. В соответственном, но обратном смысле те же понятия входят и в определение понятия о недостоверности показаний источника.
Понятие о достоверности или недостоверности источника формулировано мною с той теоретико-познавательной точки зрения, которая уже была обоснована выше; но оно может показаться слишком сложным, например, приверженцу позитивизма. С точки зрения последнего, пожалуй, проще всего было бы определить понятие о достоверности или недостоверности источника в смысле «соответствия или несоответствия его показаний с действительностью». Такое определение едва ли можно, однако, признать удовлетворительным: ведь всякий, кто «судит» о действительности, в сущности имеет дело со своим представлением о действительности, т. е. с построением ее, хотя бы и очень элементарным, а не с действительностью, самой по себе взятой в ее целостности. Вместе с тем легко заметить, что определение, формулированное с той теоретико-познавательной точки зрения, которая была принята выше, покрывает собою и понятие о достоверности отрицательного показания, что не имело бы места, если бы оно было построено с реалистической точки зрения: ведь нельзя подвести понятие об отрицательном показании под понятие о достоверности показания в смысле соответствия его с действительностью.
Легко заметить, что в том случае, если показание признается безусловно истинным или безусловно неистинным, нельзя рассуждать о степени его достоверности или недостоверности; но если оно безусловно не заслуживает одной из таких квалификаций, приходится выяснять степень его достоверности или недостоверности.
Следует иметь в виду, что такое понятие прилагается не к факту, а к знанию о факте, обнаружившемуся в показании о нем; но знание о факте может быть более или менее достоверным или недостоверным; значит, и знание, осложненное показыванием того, что знаешь о нем, т. е. показание, также может быть более или менее достоверным или недостоверным. В самом деле, нельзя говорить, например, о степени достоверности или недостоверности факта, который случился или не случился, но можно рассуждать о степени достоверности или недостоверности знания, показывающего о том, что факт случился или не случился в действительности, тем более что его показание часто состоит из нескольких суждений о факте и что не все они могут оказаться правильными. Следовательно, можно сказать, что в той мере, в какой всякое показание есть некоторое знание о факте, и показание источника о том, что факт случился или не случился, может иметь разную степень достоверности или недостоверности. Впрочем, следует различать понятие о степени достоверности или недостоверности показания о том, что факт случился, от понятия о степени достоверности или недостоверности показания о том, что факт не случился; ведь и отрицательное суждение подобного рода может иметь разную степень достоверности или недостоверности. Во всяком случае, и наше знание о том, что факт случился или не случился, основано на чужом показании и, значит, может иметь соответствующую степень достоверности или недостоверности в той мере, в какой оно зависит от данного показания.
Степень достоверности показания находится в зависимости от того соотношения, в каком «верные его элементы» находятся ко всей совокупности включенных в показание элементов; но точно установить соотношение подобного рода чрезвычайно затруднительно. Простой подсчет таких элементов, очевидно, нуждается в достаточно ясном их расчленении; но нелегко различить в показании все привходящие в него понятия и суждения и точно исчислить их; далее, такой подсчет предполагает или равнозначимость элементов, или, по крайней мере, наличность групп равнозначимых элементов; но ни отдельно взятые элементы, при таком условии в сущности уже теряющие свое значение, ни группы их неравнозначимы. Следовательно, для того чтобы выяснить соотношение верных элементов показания к совокупности всех привходящих в него элементов, нельзя довольствоваться их подсчетом; приходится взвешивать значение каждого из элементов, показавшихся верными, и значение остальных, вместе с верными образующих данную совокупность, что и ведет к критике показания. Аналогичное рассуждение можно сделать, конечно, и относительно степени недостоверности показания: понятие о ней получается путем выяснения того соотношения, в каком «неверные его элементы» находятся к совокупности всех элементов, образующих показание; но и в подобного рода случае понятие о степени его недостоверности выясняется не столько путем подсчета его элементов, сколько благодаря критике показания. Таким образом, можно хотя бы приближенно установить фактическое значение показания, обладающего некоторой степенью достоверности или недостоверности, подвергнув исторической критике все его элементы, что и дает возможность проверить вывод касательно степени его достоверности выводом касательно степени его недостоверности.
Все сказанное о степени достоверности или недостоверности показаний тем более применимо к показаниям о собственно исторических фактах: каждый из них представляется весьма сложным, и знание о нем, а значит, и показание о нем может иметь весьма различные степени достоверности или недостоверности.
В связи с понятиями о степени достоверности или недостоверности показания можно рассматривать и понятие о «вероятности» или «невероятности факта». Следует, конечно, иметь в виду, что в рассуждениях подобного рода речь идет не о степени вероятности или невероятности самого факта, а о степени вероятности или невероятности нашего знания о нем, т. е. нашего суждения или нашего заключения о том, что описанный факт (в том виде, в каком он описан) происходил или не происходил в действительности; но степень вероятности или невероятности такого суждения или заключения находится в зависимости от степени достоверности или недостоверности показания о том же факте. В самом деле, степень достоверности, какую мы приписываем показанию, обусловливает и степень вероятности заключения, что основанное на нем суждение об историческом факте имеет положительную ценность, т. е. приближается к фактической истине; и наоборот, степень недостоверности показания обусловливает и соответствующую степень невероятности такого заключения или вероятности погрешности, которую можно сделать, если судить об историческом факте на основании того же показания[1].
Замечания, сделанные выше о степени познавательной ценности показания, разумеется, в еще большей мере относятся и к источнику: он обыкновенно состоит из нескольких показаний; в числе их могут быть показания достоверные, но могут быть и показания недостоверные; да и каждое из них может иметь отличную от других степень достоверности или недостоверности; следовательно, можно говорить о степени достоверности или недостоверности источника в двояком смысле: или в том, что источник состоит из смеси достоверных и недостоверных показаний; или в том, что он включает показания, имеющие разную степень достоверности или недостоверности; значит, можно соответственно различать и степени вероятности или невероятности заключений, делаемых на основании такого источника; но в обоих случаях приходится выяснять соотношение между показаниями, образующими данный источник, а не только между элементами одного и того же показания, что, разумеется, соответственно осложняет и критику источника.
При пользовании вышеуказанными понятиями следует различать основания, в силу которых показание признается достоверным или недостоверным, от причин, которыми объясняется, почему оно оказывается достоверным или недостоверным; иными словами говоря, нельзя смешивать критерии его достоверности или недостоверности с генезисом достоверного или недостоверного показания.
В самом деле, достоверность или недостоверность показания, а значит, и степень их устанавливается лишь на основании известных критериев; можно различать такие критерии в зависимости от того, решается вопрос о том, мог или не мог случиться показываемый факт, или вопрос о том, был он или не был в действительности.
При решении вопроса о том, мог или не мог случиться показываемый факт, историк, в сущности, исходит из понятия о систематическом единстве сознания вообще и с точки зрения отнесения к «абсолютной» истине данного показания судит о его значении: он придает ему положительную или отрицательную ценность, смотря по тому, может оно быть включено в такое единство или не может, соответствует оно или не соответствует «законам сознания» или «законам природы».
Критерий «абсолютной» истины показания сводится, значит, к понятию о тех законах сознания или природы, которые историк признает (разумеется, в формальном смысле) «абсолютно» истинными и согласно с которыми, по его убеждению, описываемый факт и должен был произойти: если показание или точнее его содержание, т. е. суждение показывающего о каком-либо факте, соответствует тем законам, согласно которым он должен быть представлен, то историк и признает его «возможным»; в обратном же случае он считает его «невозможным»; таким образом, он соответственно приходит к заключению, что показание может быть достоверно или недостоверно.
С указанной точки зрения, соблюдение или нарушение «законов» логики, заключаемое в данном показании, уже служит основанием для суждения о «возможности» или «невозможности» сообщаемого факта, а значит, и о научной ценности самого показания: если историк сознает, что основные правила логики соблюдены в нем, он полагает, что показание может быть достоверным; и наоборот, если он сознает, что они нарушены в нем, он полагает, что показание (по крайней мере, в его целом) не может быть достоверно; если историк находит, например, самопротиворечивое показание или показание, одновременно утверждающее и отрицающее нечто об одном и том же факте, т. е. в сущности содержащее противоречивые показания об одном и том же факте, он, разумеется, получает основание сомневаться в достоверности одного из них, может признать одно из них недостоверным и т. п.
Следует иметь в виду, однако, что критерий логического единства сознания теряет свою силу, если объекты показаний различны; нельзя искать логическое единство в показаниях одного и того же свидетеля о сложном историческом факте, не подвергнув предварительному исследованию, действительно ли объект показания оставался одним и тем же; сложный исторический факт мог представляться свидетелю в виде совокупности более мелких фактов, и, одинаково называя данную их совокупность в разных своих показаниях, он мог относить их, в сущности, к разным объектам; тогда и противоречие между показаниями данного субъекта о такой совокупности может оказаться кажущимся, или мнимым. Если, например, А называет В и правдивым, и лживым, то противоречие между показаниями, А о В окажется лишь в том случае, если А называет В правдивым и лживым в одном и том же отношении; но может случиться и то, что, А называет В правдивым, имея в виду, положим, строгость его научных приемов исследования в какой-либо специальной области, и называет того же В лживым, имея в виду его суждения о нравственных достоинствах своих конкурентов, противников и т. п. Так как источник может содержать несколько показаний его автора-свидетеля об одном и том же факте, то и вышеприведенная аргументация может с тем большим основанием получить применение, особенно в тех случаях, когда историк обсуждает достоверность или недостоверность источника.
Впрочем, предложенная выше формулировка критерия «абсолютной» истины показания предполагает возможность судить о нем и с точки зрения его соответствия или несоответствия с «законами природы»; но соответствие показания с законами природы может и не иметь значения критерия его достоверности, поскольку всякое показание в известном смысле есть естественный продукт данной совокупности условий и, значит, всегда, даже будучи недостоверным по своему содержанию, находится в соответствии с законами природы; следовательно, в данном случае под показанием нужно разуметь суждение показывающего о факте, на основании которого и историк может заключать не о факте показания, а о показываемом факте, и знание о котором считается достоверным или недостоверным, смотря по тому, соответствует оно или не соответствует «законам природы».
Соответствие показания или целого источника с законами природы, согласно с которыми описываемые факты должны были совершаться, — необходимое, хотя и недостаточное условие фактической его достоверности: если изучаемое показание по своему содержанию соответствует законам природы, оно может оказаться фактически достоверным; и наоборот, показание, не соответствующее им, признается фактически недостоверным.
В самом деле, на основании показания, которое противоречит законам природы, историк еще не может рассуждать о факте как о таком, который произошел в действительности, а только как о таком, который мог произойти в действительности; но в случае противоречия показания с законами природы он, напротив, вправе отрицать самую возможность факта и, значит, имеет основание заключить, что он не случился в действительности: ведь невозможный факт — такой (мнимый) факт, который не мог быть, а значит, и не был в действительности.
Впрочем, для того чтобы утверждать, что фактическое содержание показания противоречит законам природы, надобно обладать полным знанием законов природы; можно привести случаи, когда историк готов был бы утверждать достоверность показания лишь потому, что он слишком мало знает те законы, с которыми содержание изучаемого им показания находится в соответствии.
В самом деле, широко понимая соответствие между содержанием показания и «законами природы», можно подводить под него и понятия о соответствии его содержания с законами душевной и даже общественной жизни. Так как они, однако, далеко не все прочно установлены, то и противоречие с ними показаний не всегда можно доказать; значит, в таких случаях тем легче ошибиться в признании факта невозможным, т. е. не бывшим в действительности.
Многие явления душевной жизни далеко еще не настолько обследованы, чтобы можно было, с точки зрения категорий возможности или невозможности, принимать или отвергать известия о них, хотя бы содержание их и казалось сомнительным. В прежнее время, например, некоторые ученые готовы были признать рассказы о появлении «стигматов» на руках и ногах, на боках и на лбу мистиков плодом расстроенного воображения; но позднейшие изыскания в области истероэпилепсии доказали, что рассказы подобного рода могут быть достоверными, поскольку они констатируют наличие самого факта появления стигматов: кожа такого субъекта под влиянием проведения по ней линий или нажимания на нее каких-либо предметов может вдоль внушенных таким образом направлений покраснеть или испускать кровь[2]; значит, и известия о фактах подобного рода, повторявшихся и в позднейшее время (ср. рассказ о стигматизированной девушке Maria Mori в Кальтерне подле Боцена в 1830-х гг.), могут быть достоверны. Впрочем, отсюда, разумеется, еще не следует, чтобы все они действительно произошли или чтобы объяснения, которые современники давали происшедшим фактам, были приемлемы.
Тем легче ошибиться в тех случаях, когда речь идет о несоответствии данных показаний с «социологическими законами». Всем знакома, например, легенда о Ромуле и Реме, основателях Рима, будто бы вскормленных волчицею; но не всем, может быть, известно, что в ней, пожалуй, заключается зерно правды, хотя бы легенда и не имела прямого отношения к собственно римской истории. Судя по рассказам целого ряда лиц, в числе которых можно указать и очевидцев, в Индостане бывали случаи, когда дети вырастали среди волков; в их сообществе будто бы находят детей четырех и даже десяти лет. Когда им предлагают пищу, они обнюхивают ее перед тем, как взять, и предпочитают сырое мясо; чтобы доставить им особенное удовольствие, стоит только предложить им кости, на которые они набрасываются с жадностью; от всех этих детей-волчат отдает специфическим запахом хищных зверей, которым они пропитаны настолько сильно, что даже самое энергичное мытье мылом не избавляет их от этого запаха. Дети-волчата представляются в высокой степени одичавшими; они не могут говорить, а лишь ворчат, подобно собакам, или взвизгивают; умственная их деятельность находится на самой низкой степени развития. Один свидетель, взявший к себе такого ребенка, рассказывает, что спустя некоторое время его пришли навестить три волка; когда они увидели своего названного брата, то бросились к нему и принялись играть с ним; дня через три они опять явились, но на этот раз уже с двумя другими волками, и т. п.[3] Положим, что такие известия заслуживают некоторого доверия; тогда и содержание известной легенды о Ромуле и Реме нельзя признать безусловно баснословным: она могла возникнуть на такой же почве, хотя бы и не имела прямого отношения к собственно римской истории.
Таким образом, можно говорить об отсутствии соответствия между содержанием показания и законами природы, в особенности с законами душевной и социальной жизни, только тогда, когда есть достаточное основание утверждать, что нельзя допустить их; без такой оговорки заключения подобного рода могут страдать «гиперкритикой» и оказаться ошибочными.
Во всяком случае, для того чтобы установить научно-историческое значение показания, недостаточно отнести его к «абсолютной» истине в той мере, в какой она отождествляется с какими-либо законами: показание может соответствовать им и, тем не менее, содержать суждение лишь о том, что могло быть, а не о том, что было в действительности; и хотя обратное суждение, что нечто не могло быть, ведет к отрицанию того, что действительно было; такой вывод все же не имеет положительного исторического значения, да и придти к нему далеко не всегда оказывается возможным.
В самом деле, смешение критерия абсолютной истины с критерием истины фактической ведет к ложной оценке показания (в широком смысле) о факте: если ценить такое показание с точки зрения абсолютной истины, можно признать сообщение о том, что могло быть в действительности, истинным, хотя оно, с точки зрения фактической истины, и не дает основания утверждать, что возможное в действительности произошло на самом деле и, значит, может оказаться в таком смысле неистинным. Нельзя без смешения понятий заявлять, что «свидетельство людей есть, в сущности, свидетельство моего собственного разума»: для того чтобы оценить его, недостаточно отнести его к «абсолютной» истине; нужно придать ему фактическое значение, нужно найти в последнем основание для чужого опыта, т. е. данных чувственного восприятия не моего, а чужого «Я», вызванных фактом, которого я не наблюдал в действительности; нужно установить степень доверия, с каким я могу принять такое показание. Следовательно, нет возможности смешивать и доказательства, приводимые в пользу одного рода истин, с доказательствами в пользу другого рода истин[4].
Итак, при решении вопроса о том, был или не был показываемый факт в действительности, нельзя довольствоваться критериями «абсолютной» истины показаний: приходится устанавливать еще критерии фактической истины показаний; историк пользуется ими для того, чтобы выяснить фактическую достоверность или фактическую недостоверность показаний; он принимает только те из них, которые фактически достоверны, т. е. на основании которых он может положительно утверждать, что известный из них факт был или не был в действительности, и вместе с тем по возможности должен доказать, что остальные недостоверны, т. е. не могут служить для заключений подобного рода.
В числе главнейших критериев фактической достоверности или недостоверности показания о том, что факт был или не был в действительности, можно, в сущности, отметить те принципы, которые, с иной точки зрения, уже были затронуты выше, при рассмотрении критики источника как факта: и тут приходится иметь в виду понятие о единстве сознания, обнаружившемся в данном показании, а также понятия о соответствии его с той культурой и той индивидуальностью, которой он принадлежит.
Критерий единства сознания в его приложении к оценке фактической достоверности или недостоверности показания получает, однако, особое значение и находится в тесной связи с понятием о фактической истине, с точки зрения которой историк может усмотреть некоторое единство в интересующем его показании.
Само собою разумеется, что тот, кто рассматривает фактическую достоверность или недостоверность показания, опирается и на понятие о фактической истине в объединяющем для его сознания смысле: историк исходит из нее, когда он принимает или отбрасывает показание, смотря по тому, имеет он или не имеет основание включить его содержание в совокупность своих представлений о фактах, объединяемых им с точки зрения такой истины; он пользуется ею, когда стремится установить более или менее непосредственную связь между содержанием показания и теми фактами, которые он сам испытал в действительности.
Ввиду того, однако, что понятие о фактической истине предполагает наличие данного конкретного факта, в отношении к которому она кемлибо утверждается и за отсутствием которого она кем-либо отрицается, даже в том случае, если историк принимает, что свидетель высказал «абсолютную» истину, он в сущности интересуется самым фактом ее высказывания и, значит, должен признать действительное существование того именно, кто ее высказал; если же он ссылается на показание о действительно бывшем факте, он уже предполагает наличие того именно, кто испытал его в собственном своем чувственном восприятии, хотя бы показание давалось не им, а с его слов сторонним лицом; лишь с такой точки зрения историк может говорить о фактической достоверности показания или, при обратных условиях, о фактической недостоверности показания. В своих рассуждениях о научной ценности показания историк, значит, уже пользуется фактической истиной и в той мере, в какой он переносит общезначимые критерии своего сознания на то «чужое Я», которому он приписывает действительное существование: он полагает, что и свидетель руководился ими или нарушил их и что такое состояние его сознания соответственно отразилось и на его показании. Действительно, историк пользуется понятием о единстве или разъединенности сознания для того, чтобы путем перенесения его на составителя источника в качестве предпосылки исходить из понятия о единстве или разъединенности его сознания при критической оценке его показаний. В сущности, каждый историк рассуждает таким образом, когда пользуется критерием единства или разъединенности сознания для установления научной ценности данного показания[5].
Такой предпосылки, однако, недостаточно для того, чтобы установить научно-историческую ценность показания с точки зрения отнесения его к фактической истине; желая придать ему объективное значение, историк исходит еще из понятия о ценности фактической истины для человеческого сознания вообще и применяет его к тому индивидууму, который дал показание или составил источник[6]. Без такого критерия историк в сущности не может признать показание фактически истинным: лишь исходя из вышеуказанной предпосылки, он рассуждает о том, что автор-свидетель говорит правду или неправду, т. е. что его показание, с точки зрения рассматриваемого критерия, имеет или не имеет ценность фактической истины.
Итак, критерий единства сознания в его приложении к изучению фактической достоверности показания находится в тесной связи с признанием ценности фактической истины: последнее придает особого рода единство или связанность его мысли с опытом, т. е. сосредоточивает его мысль на эмпирически данном содержании показания и, таким образом, обусловливает фактическую достоверность самого показания; и наоборот, пренебрежение к фактической истине в лучшем случае открывает простор мысли, принимающей возможное за действительное, и ведет к недостоверному показанию.
Предпосылка подобного рода лежит в основе многих рассуждений о достоверности или недостоверности показаний, имеющих генетический характер. Историк исходит из нее, например, когда доверяет «искренности» автора, его «правдивости» и «откровенности» или «простоте» и «безыскусственности» его рассказа или когда он не доверяет автору, показание которого производит на него обратное впечатление — скрытности, искусственности и т. п.[7] Историк пользуется тем же понятием о признании всяким ценности фактической истины и в том случае, когда ссылается на совпадение нескольких, независимых друг от друга показаний об одном и том же факте для доказательства их достоверности: он придает положительное значение подобного рода совпадению, лишь исходя из предположения, что каждый из свидетелей был способен признавать и в данном случае действительно признавал ценность некоторой фактической истины; в противном случае, т. е. предполагая совершенно случайное совпадение подобного рода, историк в сущности был бы не в состоянии доказывать им достоверность показаний; случайное совпадение может обнаружиться и между ложными показаниями; и наоборот, историк придает отрицательное значение разногласию независимых показаний относительно одного и того же факта, поскольку оно обнаруживает, что те, которые подавали их, не все признавали ценность фактической истины и, следовательно, могли дать недостоверные показания.
Во многих частных случаях историк действительно пользуется критерием ценности фактической истины; с такой точки зрения, он устанавливает, например, значение мемуаров Тюрення или Наполеона I: он замечает, что Тюреннь высоко ценит фактическую истину показаний, так как сам сознательно приводит факты, свидетельствующие о его промахах и ошибках, а Наполеон I, напротив, слишком мало ценит ее, так как сам старается скрыть их, хотя бы они и не наносили большого ущерба его славе; на основании рассуждений подобного рода историк приходит к заключению, что мемуары Тюрення гораздо более достоверны, чем мемуары Наполеона I[8].
Тем не менее вышеуказанный принцип, сам по себе взятый, все же представляется во многих случаях довольно слабым основанием для суждения о достоверности данных показаний, главным образом, потому, что нельзя смешивать предпосылку о наличии в сознании вообще критерия ценности фактической истины с понятием об истинном, т. е. правдивом, в каждом отдельном показании о факте.
Прежде всего следует иметь в виду, что полное признание ценности фактической истины в сущности предполагает ее опознание: лишь сознав все различие между истинным и ложным, человек в состоянии вполне и соответственно приписать одному положительную, а другому отрицательную ценность; но человек далеко не всегда способен возвыситься до такого сознания. Далее, ведь субъект, способный признавать ценность истины вообще, все же может ошибаться при констатировании данного конкретного факта и действительно в таких случаях легко ошибается, сам того не сознавая; вот почему, формулируя основную предпосылку, можно говорить только о способности субъекта признавать ценность фактической истины в формальном ее значении, а не о том, что он в каждом конкретном случае действительно будет давать правдивые показания о факте: они могут быть и часто бывают ошибочными, хотя бы субъект и желал говорить правду. Наконец, нельзя не заметить, что субъект, дающий показание о факте, в действительности иногда сознательно извращает его по собственному желанию и даже может с мнимою силою убеждения высказывать о нем ложные суждения, сообщать лживые известия, обставляя его разными правдоподобными подробностями и т. п. Следовательно, историк может утверждать, что каждый субъект не только способен признавать ценность истины, но признает ее на самом деле, в данном конкретном случае, лишь если он в состоянии доказать, что у него нет достаточно сильных причин или мотивов для того, чтобы сказать неправду. Во многих случаях, однако, историк не в состоянии обосновать такое отрицательное суждение и должен, значит, оставить вопрос открытым или ответить на него, опираясь на другие критерии.
Хотя последнее из указанных соображений, видимо, ослабляет значение разбираемого критерия, однако оно же может придавать ему и новую силу. В тех случаях, когда историк замечает, что субъект дает такие показания о факте, которые противоречат основной его тенденции и не вызваны какими-либо другими мотивами искажения, он получает основание приписывать им некоторую достоверность именно потому, что мотивы свидетеля, казалось бы, должны были побуждать его сказать обратное. Нельзя не заметить еще, что с точки зрения мотивации показаний, вероятность совпадения ложных или лживых показаний сравнительно мала: ведь мотивы дать ложное или лживое показание о факте вообще отличаются более субъективным характером, чем мотивы дать истинное показание, так как дача ложного показания обыкновенно имеет в виду более или менее случайные личные выгоды свидетеля, а значит, и совпадение между его показаниями и показаниями других людей, вызванных такими же мотивами, об одном и том же факте менее вероятно.
Итак, можно пользоваться вышеуказанным критерием, но не без предосторожностей: следует иметь в виду, что даже целые народы обнаруживали разное отношение к фактической истине, по крайней мере в некоторых видах источников: ученые полагают, например, что ассирияне в своих исторических надписях и летописях ближе придерживались ее, чем египтяне, и конечно, стояли гораздо выше индийцев; что греки сохранили в своих исторических преданиях гораздо более мифических элементов, чем древние римляне — в своих анналах, и т. п.[9]
С точки зрения разбираемого критерия, наибольшее значение для исторического построения имеет, конечно, то показание, податель которого сознает ценность фактической истины, высказываемой им на основании своего собственного чувственного восприятия. Лицо, более или менее сознающее ее, называется свидетелем: строго говоря, свидетель есть тот, кто имеет ценное для сознания основание дать фактически истинное показание о факте, так как он испытал его в данных своего собственного чувственного восприятия; но и в том случае, если свидетель неясно сознает значение такого основания, он все же не может не переживать ценности фактической истины, включаемой в самый акт испытывания им данного факта. В самом деле, мы признаем свидетелем того, кто, например, сам видел или слышал именно то, о чем он показывает, и кто, значит, высказывает суждение о факте, основанное на данных своего собственного чувственного восприятия, и в форме, доступной чужому восприятию. Такое показание мы и называем «свидетельским»[10].
Следует заметить, однако, что понятие о свидетеле может иметь различные оттенки, а в соответствии с ними и понятие о значении его показания получает разный смысл. В самом деле, мы считаем свидетелем преимущественно того, кто показывает о факте, который он испытал в разных своих чувственных восприятиях, взаимно дополнявших друг друга, кто проверил, например, то, что он видел, тем, что он осязал или обонял, и т. п.; но во многих случаях мы разумеем под свидетелем и того, кто показывает о факте лишь по одному роду ощущений, впечатление от которых он не мог проверить впечатлением от другого рода ощущений, вызванных тем же объектом; мы готовы, пожалуй, приписать аналогичное значение даже тому, кто испытал (в одном из вышеуказанных смыслов) хотя бы частицу факта, например, того, кто сообщает, что было сражение, на том основании, что он встретил одного из участвовавших в нем, и т. п.
Итак, нельзя упускать из виду, что «свидетельские» показания могут иметь разное значение и что, в зависимости от большей или меньшей полноты восприятия факта, свидетельское показание о нем легко может оказаться более или менее независимым, смотря по тому, в какой мере свидетель пополняет свои восприятия чужими восприятиями и, таким образом, дает показание, отчасти уже зависящее от чужих показаний.
В той мере, однако, в какой показание основано на чужом восприятии факта, оно уже, собственно говоря, не может быть признано «свидетельским» и получает название «известия»: фактическая ценность его состоит или в факте точной передачи чужого свидетельского показания о факте или в обнаружении его оценки, которая сама также оказывается фактом; следовательно, можно применять критерий фактической ценности показания и к известию для выяснения его значения в том или другом смысле, что обыкновенно и делается при помощи критики состава известия и критики достоверности или недостоверности оценки данного в свидетельском показании факта, а также самой оценки как более или менее правдивого или неправдивого обнаружения настроения составителя известия в его отношении к тому же факту.
Таким образом, при помощи критерия ценности фактической истины историк может различать свидетельские показания от известий и постоянно пользуется подобного рода различением для научной оценки источников: он различно ценит, например, показания Эингарта о Карле Великом, лично знавшего его, и показания псевдо-Тюрпена, сообщавшего легендарные известия о нем; или показания Флодоарда, принимавшего участие в некоторых событиях, воспоминания о которых он записывал чуть ли не ежедневно, и показания его современника Ришера, составлявшего свои «истории», между прочим, на основании записей Флодоарда, которые он пополнял и приукрашивал [488].
Понятие о единстве сознания, преимущественно в смысле признания фактической истины, получает еще более широкое применение к научно-критической оценке показаний, если иметь в виду тесную связь между понятиями о единстве сознания и его непрерывности, уже отмеченную выше. Последнее также имеет свое приложение в области критики фактической достоверности или недостоверности показаний и в особенности пригодно для установления некоторого единства целой их совокупности с точки зрения такой именно их достоверности или недостоверности.
В самом деле, если историк пришел к заключению, что автор источника в некоторых случаях дает фактически верные показания, то он может предполагать, что тот же автор обнаружит то же свойство и в других своих показаниях, в случае если у него нет каких-либо особых мотивов вводить в заблуждение или обманывать читателя; и обратно: если историк убедился, что ему нельзя опираться на одни показания свидетеля, оказавшиеся недостоверными, он с той же точки зрения относится и к другим его показаниям.
В основе подобного рода заключений, очевидно, лежит понятие о некотором единстве и непрерывности или, наоборот, о некоторой разъединенности и прерывчатости сознания данного субъекта в его показаниях: только на основании таких понятий можно переносить свое суждение об одних его показаниях на другие. Если, например, историк убедился, что данный субъект в ряде своих показаний обнаружил, что он ценит истину и, значит, сознательно и бережно относится к своим показаниям, то он (историк) получает некоторое основание доверять и другим его показаниям, по крайней мере больше, чем если бы он не мог сделать вышеприведенного заключения. В своих записках Токвилль, например, сознательно упоминает только о таких фактах, свидетелем которых он сам оказывался; и наоборот, Шатобриан дискредитировал свои «мемуары» тем, что довольно произвольно подбирал факты и столь же произвольно относился к ним. Если историку удалось сделать такие выводы на основании критического рассмотрения некоторых показаний Токвилля и Шатобриана, то он соответственно ценит и другие их показания, еще не проверенные или не поддающиеся проверке; он принимает во внимание ту же точку зрения даже при критическом изучении тех показаний, которые находятся в других произведениях тех же авторов.
Нельзя не отметить дальнейшего применения того же принципа критического рассмотрения еще к одному специальному роду случаев: достоверность или недостоверность источника можно изучать и по показаниям, фактическое содержание которых само по себе не имеет значения для собственно исторического построения, но пригодно для того, чтобы выяснить в некоторых типических или почему-либо более известных исследователю случаях фактическую достоверность или недостоверность этих показаний (например, описание какой-либо местности, упоминание о затмении и т. п.); вслед за тем суждение о их ценности он переносит и на другие показания того же источника, содержание которых уже может иметь значение и для построения исторической действительности.
Само собою разумеется, что всякое перенесение подобного рода в каждом отдельном случае нуждается в специальном исследовании. С точки зрения единства и непрерывности сознания данного автора, можно переносить суждение о ценности одного показания на другое его показание преимущественно в пределах одного и того же источника; но и в последнем случае такое перенесение делается не без предосторожностей. Свидетель иногда с большою уверенностью дает показание, которое отличается отчетливостью и, тем не менее, может содержать ошибки; автор может, например, оказаться достоверным в одном отношении и недостоверным в другом, положим, в том случае, когда он, хорошо зная обстоятельства, происходившие в местности, где он живет, и во время, когда он пишет, плохо осведомлен о том, что делается за их пределами; таковы, например, известия Ламберта фон Герсфельда об итальянских делах. Наоборот, свидетель, в одном отношении не заслуживающий доверия, может быть достойным его в других и по разным соображениям, особенно, например, в тех случаях, когда он сообщает известия, противоречащие основной его тенденции; таковы некоторые известия того же Ламберта фон Герсфельда о подвигах Генриха IV, к которому он вообще относится враждебно, и т. п.
В силу подобного же рода оснований, если историк обнаружил не достоверность одного из показаний автора, он переносит свое недоверие и на остальные, не принимая ни одного из них без предварительной проверки. Впрочем, соответственно вышесказанному, последнее требование может получить и более ограниченное приложение: при изучении хроники Ламберта фон Герсфельда историк подвергает, например, строгой проверке не все его известия, а главным образом только те, которые касаются отношений Генриха IV к Италии.
С познавательно-объединяющей точки зрения, историк постоянно пользуется еще одним критерием, пригодным для установления фактической достоверности показания: знание, которое он получает о каждом новом факте, интересующем его, должно быть поставлено в соответствие с его знаниями об остальных, уже известных ему фактах. Если такая координация достигается, то и показание о факте, соответствующем остальным, представляется ему в известной степени достоверным; если же нельзя достигнуть ее, то и достоверность показания может вызвать в нем сомнения.
В таких случаях содержание показания или целого источника рассматривается в качестве некоторой части того культурного целого, к которому оно будто бы относится. В самом деле, если историк может доказать, что факт, известный из данного показания, действительно был частью того культурного целого, к которому оно будто бы относится, то он и получает основание приписывать некоторую степень достоверности показанию, а значит, и соответствующую степень вероятности своему предположению о том, что изучаемый факт действительно был; в таком именно смысле он и говорит, что «факт, известный ему по данному показанию, вероятно, был в действительности», или же, с чисто реалистической точки зрения, рассуждает о «вероятности факта». И обратно, если историк усматривает фактическое противоречие между изучаемым показанием и тем культурным целым, к которому оно будто бы относится, он получает основание приписывать некоторую степень недостоверности данному показанию, а значит, и вероятность того, что его суждение о факте как о действительно бывшем ошибочно; в таком именно смысле он и говорит, что «факт, известный ему по данному показанию, вероятно, не был в действительности», или, уже с чисто реалистической точки зрения, рассуждает о «невероятности факта».
Ввиду того, однако, что факты прошлого известны лишь из остатков культуры или показаний других источников, независимых от изучаемого, соответствие данного показания с фактами в сущности сводится к соответствию его содержания с остатками культуры и содержанием независимых от него показаний, заключающихся в других источниках. Впрочем, следует различать два вида такого соответствия: если только сравниваемые данные не обнимают всего культурного целого, легко заметить, что они могут относиться или к разным объектам, входящим в его состав, или к одному из них; следовательно, можно устанавливать некоторую согласованность между содержанием изучаемого показания и другими фактами, т. е. различными по содержанию данными, черпаемыми из остатков культуры и из исторических традиций, поскольку каждое из таких содержаний представляется в качестве части данного культурного целого; но можно говорить и о совпадении изучаемого показания о некоем факте с другими независящими от него показаниями о том же факте. Таким образом, можно различать две разновидности соответствия показаний друг другу: я назову их согласованностью показаний и совпадением показаний.
Понятие о согласованности показаний можно формулировать следующим образом: если два показания или несколько разноречивых, но непротиворечивых показаний взаимно дополняют наши знания о какой-либо совокупности фактов, связанных между собою, они и называются согласованными друг с другом; иными словами говоря, если историк может сказать, что факт, о котором он узнает из изучаемого им показания, согласуется с другими фактами, происходившими в одной и той же местности, в одно и то же время и уже известными ему по остаткам культуры или по другим проверенным показаниям, т. е. если он может включить этот факт в целое, образуемое им, вместе с остальными фактами и указать то место и тот момент, к которым этот факт вполне подходит в качестве его части, то и показание об этом факте представляется ему согласованным с остальными данными, относящимися к тому же культурному целому. На основании такой согласованности он приписывает известную степень достоверности изучаемому показанию: он принимает во внимание, например, что известие Тацита о битве между римлянами и германцами в Тевтобургском лесу соответствует вообще расположению римского «Limes», местонахождению римских «castra» и т. п., а также в особенности тем находкам костей, оружия и римских монет, которые были сделаны приблизительно в пределах той же местности, тому камню, который был найден подле Ксантена, с надписью в память погибшего в «битве Вара» легионера и т. п.; опираясь на сопоставления подобного рода, он заключает, что письменное известие о месте и времени сражения находится в некотором соответствии с сохранившимися от него остатками (костями и проч.), питает соответственно большее доверие к самому известию, получает возможность пользоваться вышеуказанными остатками для его изучения и т. п.; с аналогичной точки зрения, он может рассуждать о достоверности того же известия, поскольку оно согласуется с другими известиями Тацита, Диона Кассия и других, положим, о борьбе римлян с германцами, о походе римских легионов внутрь Германии под предводительством Бара, о херусках и их вожде Арминии и т. п.[11]
Понятие о несогласованности показаний можно построить в соответственно обратном смысле: она обнаруживается в том случае, если показания даются о разных объектах, реально не связанных или недостаточно связанных между собою. Показания Страбона о людоедстве среди ирландцев или Цезаря о древних бриттах, прибегавших к татуировке, например, хотя и сходны с показаниями современных путешественников о диких, положим, об австралийцах и полинезийцах, но не согласованы или, по крайней мере, слишком мало согласованы с ними[12].
Пределы согласованности показаний могут быть весьма различны; историк устанавливает их в каждом отдельном случае, а в зависимости от вывода своего о большей или меньшей согласованности с остальными фактами того факта, который ему приходится изучать по данному показанию, он признает и разные степени его достоверности; и обратно, имея достаточные основания отрицать такую согласованность, он вместе с тем получает право признать известную степень недостоверности данного показания.
Следует заметить, однако, что самое установление согласованности или несогласованности изучаемого показания с остальными представляет немало затруднений: ведь в случаях подобного рода историк принимает во внимание не логическое, а фактическое значение сравниваемых показаний и, следовательно, должен иметь уже более или менее обстоятельное понятие о той совокупности фактов, показания о которых признаются согласованными или несогласованными. В одной из древних пещер, в Мас-д'Азиль (Mas-d'Azil), оказались, например, какие-то предметы с начертаниями, подобными «финикийским» или «архаичным греческим» письменам; весьма трудно сказать, однако, согласованы или несогласованы показания о письменных знаках на азилийских предметах с такими же показаниями на финикийских или древнегреческих надписях: значение начертаний на предметах из Мас-дАзиля далеко еще не выяснено, и вопрос о том, могли ее обитатели находиться в каком-либо отношении к финикийским или древнегреческим колониям или не могли, все еще остается без ответа[13].
Вместе с тем согласованность показаний легко переходит в совпадение показаний, если разные объекты их оказываются частями одного и того же целого. Если полагать, например, что оружие, найденное приблизительно в той местности, где происходила битва между Варом и Арминием, действительно принадлежало их солдатам, можно сказать, что письменное известие об этой битве совпадает с показаниями, черпаемыми о ней из остатков культуры, так как оружие солдат, сражавшихся в Тевтобургском лесу, было частью того именно события, которое засвидетельствовано другими источниками. Аналогичное замечание можно сделать и относительно несогласованных показаний: они, конечно, не совпадают; показания даже о сходных фактах, если только они не согласованы между собою, хотя бы, например, вышеприведенные показания Страбона об ирландцах или Цезаря о бриттах и показания современных путешественников об австралийцах или о полинезийцах не совпадают между собою: исторические факты, о которых они показывают, разные.
Тем не менее нельзя смешивать разбираемые виды соответствия или несоответствия: смешение понятия о согласованности показаний с понятием о совпадении показаний ведет иногда к ложным выводам. Источники, которые будто бы показывают об одном и том же, в сущности могут касаться различных предметов: известные рассказы Цезаря и Тацита о частной земельной собственности и землепользовании у германцев, например, противоречат друг другу, если полагать, что они относятся к одному и тому же племени; но Цезарь говорит о Свевах, а Тацит мог говорить о других племенах — Хауках, Херусках и т. п.[14] Источники могут содержать также согласованные друг с другом, хотя и несовпадающие показания об одном и том же факте. При чтении, например, рассказов о том, как Липин решил помочь папе Стефану против лангобардов, мы замечаем некоторое разноречие показаний в доброкачественных источниках, каждый из которых заслуживает внимания. Составитель биографии папы Стефана II повествует о том, что соглашение их состоялось в Киерси (Kiersy), продолжатель же хроники Фредегара — что оно произошло в Бернако (Braisne). Это разноречие получает свое разрешение с точки зрения согласованности, а не совпадения показаний. В самом деле, следует обратить внимание на то, что известия о съезде в Киерси и о съезде в Бернако занимают соответственно разные положения в изучаемых источниках: биограф папы Стефана II говорит о съезде, участники которого постановили оказать помощь папе; продолжатель хроники Фредегара — о съезде, решившем предпринять войну; съезд, о котором повествует биограф папы Стефана II, происходил до посольства к королю Аистульфу; съезд, упоминаемый продолжателем хроники Фредегара, — после того как Аистульф отклонил предложение послов мирно окончить все дело. Таким образом, римский и франкский источники, вероятно, говорят о разных съездах и, значит, только потому, что биограф папы Стефана II не упоминает о съезде в Бернако, а продолжатель хроники Фредегара — о съезде в Киерси, можно было смешать их известия и упустить из виду возможность их согласования[15].
Понятие о совпадении показаний можно формулировать следующим образом: если два показания или несколько показаний об одном и том же факте тождественны по содержанию и независимы друг от друга, то они совпадают. Итак, понятие о совпадении показаний получает полноту своего научного значения лишь под условием тождественности и независимости показаний.
Тождественные показания показывают одно и то же об одном и том же факте и, значит, должны совпасть; такое совпадение взаимно подкрепляет достоверность каждого из совпадающих показаний, если только они независимы; но взаимоотношение подобного рода легко разложить и на два односторонних, взаимно пополняющих друг друга отношения, каждое из которых рассматривается порознь, в зависимости от того, какое из показаний изучается; следовательно, в нижеследующем рассуждении достаточно иметь в виду преимущественно то значение, какое совпадение показаний имеет для установления достоверности изучаемого показания.
Показания могут оказаться тождественными или в полном их составе, или в некоторых из их частей и, значит, могут совпасть вполне или отчасти, что и ведет к различению полного совпадения от частичного совпадения. Рассмотрим простейшие случаи полного и частичного совпадения показаний, поскольку оно имеет значение для установления достоверности того из них, которое изучается.
Положим, что два свидетеля, Q и R, дают показания о факте X, т. е. высказывают мысль о некоторой системе реально связанных между собою элементов вида? (а, Ъ, с,…, т, п); обозначим показания Q и R о факте X через Qx и R# функцию показывания — через а, общее показаниям содержание — через и, а части, взаимно отличающие их друг от друга, — через о и со; тогда при Qx = a (u), Rx = а (и) можно сказать, что совпадение между показаниями Qx и Rx полное; а при Qx = а (и, о), Rx = а (и, со), где, впрочем, ц или со может быть равно нулю, можно сказать, что совпадение между Qx и Rx частичное.
Полное совпадение показаний, очевидно, в большей мере подтверждает достоверность изучаемого показания, чем частичное совпадение: последнее дает возможность судить лишь о некоторой степени его достоверности в вышеуказанном смысле; но историк обыкновенно принужден довольствоваться частичным совпадением показаний и, значит, пользуется им, смотря по его пределам для установления той, а не иной степени достоверности изучаемого показания.
В самом деле, трудно ожидать полного совпадения между показаниями об одном и том же, всегда относительно сложном историческом факте, взятом в его целом.
Если показания Qx и Rx — идеально полные, исчерпывающие показания, т. е. если каждое из них может быть изображено в виде a (iij) = = о (а, Ь, с,…, т, п), то показания Q и R о факте X, конечно, вполне совпадают во всей полноте мыслимого содержания факта; но полное совпадение идеально полных, исчерпывающих показаний само оказывается идеальным, предельным случаем; вероятность, что такое совпадение произойдет в действительности, очевидно, очень мала.
Если показания Qx и Rx— относительно полные показания, т. е., положим, охватывают несколько элементов факта X, так что каждое из них можно изобразить хотя бы в виде, а (п2) = о (а, b, d, …, m), то показания Q и R о факте X вполне совпадут в некоторой части мыслимого содержания факта X; но вероятность такого относительно полного совпадения, т. е. того, что Q и R действительно выберут как раз те же самые элементы X и упомянут их без каких бы то ни было изменений в одном и том же порядке, так что каждое из них будет равно, положим, а (п2), также мала.
Итак, при изучении исторических показаний, в большинстве случаев можно ожидать лишь частичного их совпадения, т. е. совпадения, в котором показания тождественны лишь в некоторых своих частях. Такой вывод, сделанный a priori, подтверждается и эмпирическим путем: экспериментальные исследования обнаружили, что несколько показаний хотя бы о сравнительно простом факте обыкновенно обнимают далеко не все его моменты и, значит, даже главнейшие могут совпадать при показывании об одном и том же факте, в сведениях лишь о некоторых из его элементов или признаков[16]; показания, с которыми приходится иметь дело историку, кроме того, часто даются людьми, слишком мало подготовленными для производства научных наблюдений, и касаются гораздо более сложных фактов, что, разумеется, делает полное или относительно полное их совпадение еще менее вероятным; и действительно, если исторические показания совпадают, совпадение их обыкновенно оказывается частичным.
При рассмотрении частичного совпадения между показаниями можно придерживаться схемы, уже приведенной выше: если Qx и Я^суть показания об одном и том же факте X и Qx = а (и, о), Rx = а (и, ш), то показания Qx и Rx совпадают лишь отчасти. С такой точки зрения, можно при известных условиях придавать тем большую достоверность изучаемому показанию, положим R# чем больше оно совпадает с данным показанием Qx, т. е. чем менее значения н и со или одно из них, в случае другого, равного нулю, имеют для различения Rx от Qx.
В действительности, однако, не всегда легко установить, в чем именно показания совпадают. Положим, что историк имеет дело с известиями о смерти Александра Великого: Арриан сообщает, что он умер от лихорадки; Плутарх приводит известие, что он мог быть отравлен;
и тот и другой в сущности не отрицают факта смерти Александра Великого от болезни (в 323 г. до Р. X.); они только различно объясняют его, и в обоих случаях утверждая, что исход болезни был смертельным, не сходятся в ее характеристике, т. е. в утверждении факта, что Александр Великий умер от лихорадки или от яда[17]. С такой точки зрения историк может усмотреть даже некоторое совпадение между показаниями Арриана и Плутарха относительно смерти царя от какой-то внутренней болезни, а не, положим, от раны и т. п., хотя и не в состоянии точно определить род его болезни; следовательно, в указанном и, разумеется, довольно ограниченном смысле он может пользоваться показанием Плутарха вместе с показанием Арриана для соответствующего заключения о преждевременной смерти Александра Великого от болезни, но не о роде его болезни и т. п.
Частичное совпадение может обнаружиться не только в утверждении или отрицании факта, положим, хотя бы факта смерти Александра Великого от болезни, но и в суждениях о его главном, наиболее существенном содержании. В случае подобного рода совпадений показание Rx в полном своем объеме все же может и не быть тождественным с показанием Qx; но мелкие разногласия в показаниях, касающихся одного и того же предмета, иногда говорят в пользу достоверности главного их содержания: если, например, факт очень сложный; если наблюдатели или средства наблюдения не однородны; если разноречия пополняют друг друга (а не взаимно противоречат друг другу); если разногласия можно вывести из различий авторов или их наблюдательных средств, то и вышеуказанным разногласиям нельзя придавать решающего значения — они поддаются учету. В области исторических разысканий можно указать на такие частичные совпадения: часть известного рассказа книги Царств о войнах моавитскаского царя Меши с Израилем подтверждается, например, надписью приблизительно середины IX в. до Р. X., в которой царь сообщает немало подробностей о своих завоеваниях и других славных деяниях. Показание нашей летописи о том, что царь Иван Грозный «поймал кормленым окупом, с которых волостей имати всякие доходы на его государской обиход, жаловати бояр и дворян, и всяких его государевых дворовых людей, которые будут у него в опричнине», оказывается «верным, но не полным указанием на доход с опричных земель»: оно подтверждается и дополняется грамотами того времени, свидетельствующими, что в состав таких доходов входили и прямые, и разного рода косвенные налоги и т. п.[18]
С гораздо меньшею вероятностью можно ожидать совпадения показаний о факте, поскольку они содержат его более или менее субъективное объяснение или делают из него какие-либо выводы, или подвергают его какой-либо оценке и т. п. Легко представить себе, например, такие случаи, когда показания совпадают в утверждении или отрицании факта, но не в его объяснении или оценке. Совпадение может даже состоять и в дальнейшем содержании показаний хотя бы в скрытом виде, при относительно резком противоречии в оценках. В показаниях враждебных партий или сторон, каждая из которых уверяет, что она одержала верх над другой, можно иногда вскрыть совпадение; каждая из них, в сущности, полагает, что их столкновение не имело настолько решительного исхода, чтобы нельзя было истолковать его в свою пользу, т. е. что столкновение их не увенчалось решительной победой одной из них, хотя бы каждая и приписывала ее себе, подобно тому, например, как-то делали русское и французское правительства по поводу сражения при Бородине.
Совпадение показаний получает, однако, надлежащее значение в качестве критерия для установления их достоверности лишь в том случае, если каждое из них признается независимым от остальных, т. е. если тождественность их не объясняется их зависимостью друг от друга.
Вообще понятие о независимом показании можно поставить в связь с понятием о свидетельском показании: вполне независимое показание о факте, очевидно, дается кем-либо на основании одних только собственных своих чувственных восприятий от этого факта, и значит, не зависит от других показаний о нем. Согласно с предлагаемым пониманием нельзя признать свидетелем того, кто получил свое представление о факте лишь через посредство другого лица, в зависимости от его показаний о том же факте; такое показание с чужих слов можно назвать известием; совпадение известий, разумеется, не может иметь то значение для установления достоверности источников, какое приписывается совпадению независимых показаний: они могут зависеть от одного Общего им источника или друг от друга.
Итак, совпадение показаний получает достоверность лишь при независимости каждого из них от остальных. Необходимо, однако, ясно сознавать, в каком именно смысле независимость их понимается; хотя, строго говоря, независимость показания сводится к понятию о свидетельском показании, но возможны случаи, когда рассматриваемые показания, в сущности, уже не вполне независимы. Вообразим, например, что А и В — свидетели факта X, но что показание В сохранилось лишь в известии, которое С сообщает о нем. Если историку удастся доказать, что известие, сообщаемое С, не зависит от показания А, он может признать показания А и С независимыми относительно друг друга, хотя С и не был свидетелем факта X и его показание зависело от показания В об X. Возьмем другой пример: положим, что Аи В — свидетели очень элементарного факта X, но что В предпочел дать свое показание о факте X в форме, принятой Л, т. е. сам испытавши факт X, выразил, однако, испытанное им в форме, уже предложенной А; тогда можно различать два случая: или показание В в сущности осталось независимым от Л по своему содержанию и зависит от него только по форме его выражения; или последняя оказала влияние на оттенки мысли В, и его показание уже зависит от показания Л и по его содержанию, а не только по форме. Легко представить себе еще более сложные комбинации, например, в тех случаях, когда показание В, зависящее по форме от А, известно лишь по известию С[19]. Если принять, что такие показания, не будучи в строгом смысле свидетельскими, все же в известном отношении независимы друг от друга, то и понятию о совпадении независимых друг от друга показаний можно придать более широкое значение. Впрочем, в некоторых случаях, может быть, осторожнее было бы говорить не о независимых показаниях, а о показаниях, подтверждающих данное; ведь если В повторяет только форму суждения А, он может его представить себе в виде вопроса, на который он же и отвечает утвердительно; если свидетель, А говорит, например, что «факт X действительно случился», свидетель В может повторить то же суждение более или менее сознательно, мысленно или явно прибавляя к нему «да», т. е. говорит «да, факт X действительно случился», что и обнаруживает наличие вопросительной формы, в которой В представил себе суждение А, прежде чем ответить на него в утвердительном смысле, т. е. принять и повторить его. В противном случае В, повторяя суждение А, легко может перейти к заимствованию, при котором его показание потеряет некоторую независимость своего содержания и превратится в известие о факте X.
Нетрудно подыскать такие соотношения и в исторических источниках. В числе современников, рассказывавших о Людовике Св., например, кроме, конечно, Жуанвилля, можно пользоваться и записками духовника королевы Маргариты Прованской; Гильом де С.-Патю (St.- Pathus) не мог лично знать короля, но многое слыхал от вдовствующей королевы и от свидетелей, которые давали показания по поводу канонизации короля, что и придает его сообщениям существенное значение. Составители пасхальных анналов обыкновенно отличаются очень бедным языком: описывая один и тот же факт, они употребляют одно и то же слово или выражение, которое они повторяют до пресыщения; но на основании такого сходства нельзя еще заключать о тесной зависимости предшествующего писателя от последующего и т. п.[20]
Понятие о совпадении независимых показаний может иметь разный объем, смотря по тому, разуметь под независимыми показаниями и такие, которые даются одним и тем же лицом, или ограничивать его только такими, которые даются разными лицами об одном и том же факте. Вопрос о том, в состоянии ли одно и то же лицо давать совершенно независимые друг от друга показания об одном и том же факте, едва ли можно, однако, разрешить, не считаясь со сделанным выше рассуждением о повторении одним и тем же творцом собственного своего произведения; оно применимо и к данному роду случаев; и тут естественно придти к заключению, что сделанное показание одним и тем же лицом об одном и том же факте независимо от предшествующего показания мыслимо лишь при некотором разрыве в сознании показывающего; но в большинстве случаев маловероятно, чтобы одно и то же лицо давало показание об одном и том же факте совершенно независимо от своего же предшествующего показания о нем; между тем, показывая об одном и том же факте под влиянием памяти о прежнем показании, оно в сущности повторяет его, а не дает нового, вполне независимого от него показания о факте. Следовательно, под совпадением независимых показаний приходится преимущественно разуметь совпадение между изучаемым показанием и независимыми от его подателя чужими показаниями.
В таком смысле историк часто прибегает к принципу совпадения показаний: он придает, например, гораздо большую ценность известным показаниям Геродота о Египте, после того как они стали подтверждаться свидетельствами, черпаемыми из египетских древностей; он контролирует показания, делаемые Коминем в его мемуарах, итальянскими депешами, касающимися его посольства; он выясняет степень достоверности былин киевского или новгородского циклов, сопоставляя их с киевскими и новгородскими летописями, а также с другими источниками и различая в былинах исторически-бытовые элементы от чудесных, сказочных или заимствованных и т. п.[21]
Во всяком случае, для того чтобы пользоваться критерием совпадения показаний, историк должен предварительно доказать, что они независимы: совпадение зависимых друг от друга показаний само по себе, конечно, не имеет никакого значения для установления достоверности изучаемого показания. Ведь в той мере, в какой основное показание, независимое от других зависящих от него показаний, достоверно, и суждение историка, основанное на нем, истинно; и наоборот: в той мере, в какой оно недостоверно, и суждение историка не истинно. Истинность или не истинность его суждения, значит, зависит от достоверности или недостоверности основного источника, а не от совпадения его показаний с показаниями других заимствованных из него показаний[22].
Следовательно, совпадение показаний, соотношение которых критически не проверено, легко может ввести исследователя в заблуждение.
В некоторых случаях, например, приходится иметь дело с показаниями смешанного характера, совпадающими частью в том, что они показывают независимо друг от друга, частью в том, что они показывают в некоторой зависимости от других. При таких условиях не всегда легко выяснить, в чем именно показания совпадают — как независимые, а не как зависимые. В виде иллюстрации тех затруднений, какие возникают в таких случаях, можно припомнить хотя бы одно старинное дело из французской уголовной практики, а именно дело Леружа. Оно возникло по поводу обвинения его в убийстве. Десять свидетелей уверяли судей, что они видели, как Леруж среди белого дня убил своего хозяина; на основании их показаний Леруж был приговорен к смерти и казнен в Эксе в 1793 г.; лишь долгое время спустя совсем другой человек, приговоренный к той же казни за другое преступление, уже на эшафоте сознался, что он совершил и убийство, за которое казнили Леружа. Преступник при совершении его нарядился в парик и передник Леружа, что при легком сходстве с ним и породило иллюзию[23]. Показания о Леруже (в той мере, в какой они могли быть независимыми), значит, совпадали лишь в общем признании, что парик и передник преступника действительно принадлежали Леружу; а суд, не разобравшись, в чем именно показания совпадали — как независимые, а не как зависимые, — приговорил его к смертной казни, что и было исполнено. Между тем историки очень часто находятся в гораздо худшем положении, чем судьи, судившие Леружа; они имеют дело не со свидетелями, которых можно опрашивать несколько раз, а только с теми из их показаний, которые сохранились, но не могут быть повторены, и далеко не всегда в состоянии различать независимые показания от зависимых.
В других случаях показания, по-видимому, основанные на данных собственного чувственного восприятия каждого из свидетелей, тем не менее, зависят от одного общего источника, а потому и совпадение их не может иметь значение для доказательства их достоверности; напротив: содержание их при таких условиях часто оказывается недостоверным. Под влиянием внушения, например, многие могут повторять суждения того, кто впал в иллюзию, даже несмотря на то что данные их собственного чувственного восприятия не согласны с нею. Возникшая таким образом идея может сделаться центром особого рода кристаллизации, которая завладевает вниманием и парализует всякую критическую способность: то, что тогда видит новый наблюдатель, есть уже не самый объект, а субъективный образ, вызванный в его душе пропагандистом иллюзии. Вообразим, например, что очень впечатлительный человек разыскивает дорогую ему личность и внезапно натыкается на труп, хотя бы и не особенно сходный с нею, но представляющий особенность или деталь в туалете, способную вызвать идею об этой именно личности. При данных условиях он легко может впасть в иллюзию и заразить ею других. Несколько времени тому назад, например, г-жа Шавандрэ разыскивала своего сына и ошибочно признала его в трупе одного ребенка, найденном в Париже; находясь под впечатлением того, что личность ребенка была уже «удостоверена» его товарищем, она по шраму на его лбу окончательно убедилась в том, что перед нею похищенный и убитый ее сын Филибер Шавандрэ; его родственники, соседи и школьный учитель при виде трупа вынесли то же впечатление. Расследование дела обнаружило, однако, что пострадавший — совсем другой ребенок, привезенный из Бордо в Париж. В данном случае совпадение показаний целого ряда лиц не имело значения: они зависели от главного показания, а может быть, и друг от друга. Впрочем, можно привести примеры, в которых зависимость ошибочных показаний друг от друга проступает яснее. Однажды в полдень при ярком солнце фрегат «Belle Poule» кружился по морю, ища корвет «Le Вегсеаи», с которым его разлучила сильная буря. Вдруг часовой подал сигнал о появлении судна с перебитым рангоутом. Весь экипаж устремил свои взоры по направлению сигнала, и все офицеры и матросы ясно увидели плот, нагруженный людьми; лодки тащили его на буксире и сигналили о крайней опасности. Адмирал Дефоссэ сейчас же отрядил лодку для спасения погибающих; офицеры и матросы, сидевшие в ней, утверждали, что они видели массу людей, с мольбою протягивавших руки, а также слышали глухой и неясный шум многочисленных голосов. Меры, принятые адмиралом, оказались, однако, совершенно излишними; когда спасательная лодка приблизилась к мнимому плоту, то оказалось, что это просто несколько древесных веток, покрытых листьями. Таким образом, хотя показания, какие могли бы дать офицеры и матросы «Belle Poule» до того момента, когда они приблизились к плоту, совпадали бы, но они оказались бы ложными: мысли их не были независимыми, а зависели от показания часового, возникли на почве общего напряженного ожидания встречи с разыскиваемым корветом и, очевидно, взаимно и заразительно действовали друг на друга; при таких условиях ошибка в показании часового стала с убеждением повторяться и другими, что повело к совпадению зависимых и ошибочных утверждений[24]. Само собою разумеется, что такое внушение может принимать и другие формы. В тех случаях, например, когда судебный следователь задает вопросы свидетелю, находясь под впечатлением какой-либо предвзятой мысли, он вызывает показания, в сущности зависящие от той тенденции, которую он тем легче проводит на допросе, чем менее он следит за собою и чем более свидетель подчиняется его воле; а суд, опираясь на такие показания и считая их без предварительной критики независимыми, хотя они часто возникают под влиянием внушения, впадает в ошибку, которая может повести и к наказанию невинного. Случаи подобного рода известны из целого ряда дел, например, знаменитого в XVII в. процесса супругов Пивардьер. Историк часто находится в аналогичном положении: хотя сам он, конечно, не внушает свидетелям их ответов, но имеет дело с ответами, внушенными им другими лицами, общественным мнением, прессою и т. п., а потому и не независимыми от них. Он знает, например, что в той мере, в какой два свидетеля, показывая об одном и том же факте, связывают данные своего восприятия с какой-либо общей им точки зрения, показания их могут совпадать; но разбираемый случай он не признает полным совпадением независимых показаний, если точка зрения, общая обоим свидетелям, заимствована каждым из них хотя бы независимо от другого из одного общего источника, положим, из какого-либо учения, или сложилась под влиянием известных партийных взглядов и т. п.[25] Многие из современников императора Генриха IV — итальянцы, швабы и саксонцы, например, писали о его «тирании»; но по ближайшем рассмотрении их показаний оказывается, что все они находились под влиянием той вражды к императору, которая порождена была клерикально-партикуляристическими тенденциями; значит, и их показания не могут быть признаны независимыми от общего их источника, тенденциозность которого, разумеется, отразилась и в их рассказах о Генрихе IV[26].
Приемы различения независимых показаний от зависимых в сущности те же, что и критические приемы изучения состава источников, уже изложенные выше; применяя их к оценке показаний, историк выделяет те из них, которые оказываются независимыми, и затем путем сравнения их содержания может придти к установлению конкретного факта совпадения изучаемых источников, который, с точки зрения вышеуказанного критерия, и признается доказательством в пользу достоверности их содержания.
В предшествующих рассуждениях совпадение показаний преимущественно рассматривалось в наиболее простых его формах, т. е. применительно к двум из них; но оно может обнаруживаться и при более значительном числе показаний. Значительного числа совпадений, очевидно, можно ожидать с большею вероятностью между показаниями о простом, элементарном факте, чем между показаниями о сложном факте; но чем проще факт, тем он менее обращает на себя внимание, по крайней мере, обыденных наблюдателей, если только такой факт не оказывается вместе с тем внезапным или необыкновенным; и наоборот: сложный факт иногда в большей мере затрагивает их; значит, вероятность того, что сложный факт вызовет несколько показаний, может быть больше, чем вероятность множественности показаний об элементарном факте, а при наличии нескольких показаний об одном и том же сложном факте совпадения между ними, хотя бы частичные, все же могут достигнуть известного числа.
С вышеуказанной точки зрения пользуясь понятием о тождественности независимых показаний, можно, значит, рассуждать и о значении числа совпадений показаний, преимущественно частичных, для установления степени достоверности изучаемого показания: чем больше показаний, имеющих некоторую ценность и совпадающих с тем, которое изучается, тем более достоверным оно представляется. Историк, определяющий, например, время вступления на царство какого-либо правителя, положим, египетского фараона, признает показание о нем тем более достоверным, чем больше число источников, которые содержат совпадающие с ним показания — прямые или косвенные — о том, в какой год изучаемого царствования каждый из них написан или обнародован и т. п.
Впрочем, можно подсчитывать лишь такие показания, которые признаются равноценными или соизмеримыми. В действительности, однако, весьма трудно принять, что два, а тем более несколько показаний имеют совершенно одинаковое значение; частичное их совпадение в особенности уже предполагает некоторые различия в их составе, едва ли остающиеся без влияния и на те элементы каждого из них, которые, в отдельности взятые, оказались бы вполне сходными между собою. Такие показания несоизмеримы в количественном смысле, а при различии в их качестве лучшее показание может оказаться более достоверным, чем несколько совпадающих между собою показаний об одном и том же объекте, в особенности если совпадение их состоит в забвении или отрицании некоторых его признаков[27].
Следует также иметь в виду, что совпадение тождественных и независимых показаний не может служить безусловным критерием достоверности показуемого: нельзя отрицать, что и совпадение недостоверных показаний возможно[28]. Вообще, хотя вероятность совпадения таких показаний невелика, если только они действительно независимы друг от друга, но степень ее все же может колебаться: чем более показания зависят от общего им условия ошибки, тем более вероятно и совпадение показаний, обнаруживающих ее; и наоборот: чем менее показания зависят от условий подобного рода, тем менее вероятно совпадение между ними в их индивидуальных ошибках. С указанной точки зрения, легко заметить различие между показаниями, содержащими более или менее непроизвольные ошибки, и показаниями, преднамеренно ложными или лживыми: показания с невольными ошибками возникают в тех случаях, когда какое-либо общее им условие, например, привычная, но ошибочная ассоциация между двумя представлениями, естественно вызывает в каждом свидетеле склонность при показывании об одном из них упоминать и о другом; преднамеренно ложные или лживые показания, напротив, возникают при менее общих условиях: они преимущественно зависят от личных интересов; последние придают каждому из них, а следовательно, и сделанным в нем ошибкам, индивидуальный характер, благодаря которому и совпадения между ними представляются маловероятными. И действительно, трудно указать примеры совпадения ложных или лживых показаний, высказанных независимо друг от друга; преднамеренно ложные или лживые показания свидетелей на суде могут совпасть между собою, но они обыкновенно зависят от воли того, кто думает воспользоваться ими, и т. п.
Соответственно вышеуказанному понятию о совпадении показаний понятие о несовпадении или о фактическом противоречии между изучаемым показанием и другими показаниями вызывает в историке сомнение в его достоверности и может привести к заключению, что изучаемое показание недостоверно. В своих мемуарах, например, Меттерних сообщает, что в 1813 г. «29-го мая в 4 часа дня он получил через посредство курьера из Дрездена вести о неудачном исходе сражения при Бауцене»; но уже 26 мая Гумбольдт писал из Вены: «Вчера прибыли два курьера от Стадиона с известиями о сражениях, происходивших с 19-го до 21-го», а 27 мая сообщал: «Вчера вечером я узнал от графа Меттерниха об исходе сражения 19-го — 22-го мая». Легко заметить несовпадение между показаниями Меттерниха и Гумбольдта и, в силу некоторых соображений, отдавая предпочтение последнему, придти к заключению, что показание Меттерниха недостоверно[29].
Впрочем, вывод подобного рода можно сделать лишь в том случае, если изучаемое показание действительно противоречит другому, достоверность которого уже признана. Между тем ввиду вышеуказанных соображений об относительно разной форме соответствия показаний разноречие между ними может быть и кажущимся; оно иногда, например, сводится к согласованности, а не к совпадению показаний, что видно хотя бы из вышесделанного рассмотрения показаний биографа папы Стефана II и продолжателя хроники Фредегара о съездах в Киерси и Бернако, или ограничивается одною терминологией, положим, в том случае, когда одно и то же сражение называется различно, смотря по тому, какое из ближайших мест, при которых оно происходило, принимается во внимание, например сражение при Бауцене или при Вуршене.
В случае большого числа несовпадений последнее может получить значение и для установления степени недостоверности изучаемого показания: чем больше показаний, имеющих некоторую ценность и не совпадающих с тем, которое изучается, тем менее достоверным оно представляется. Ввиду существенных затруднений, возникающих, однако, при подсчете таких показаний, обыкновенно приходится ограничиваться научно-качественною оценкою их. С такой точки зрения историк рассматривает, например, известный (18-й) бюллетень Наполеона о сражении при Бородине, не совпадающий с показаниями Кутузова, Ермолова, Липранди и других.
Понятие о фактическом противоречии между независимыми показаниями, в сущности, лежит в основе и того доказательства недостоверности источника, которое называется «argumentum exsilentio». Такая аргументация могла бы иметь две формы, смотря по тому, противоречит рассматриваемый источник остальным положительным или же молчаливо-отрицательным показаниям о факте. Можно было бы представить себе, положим, что источники А, В, С упоминают о факте X, а источник N молчит о нем; или наоборот: что источники А, В, С молчат о факте X, а N упоминает о нем; иными словами говоря, можно было бы различать два вида случаев, т. е.

Случай вида (+АХ, +ВХ, +СХ и -Nx) по понятным соображениям не имеет, однако, большого значения: совпадение положительных, тождественных и независимых показаний Ах, В^ Сх считается обыкновенно достаточным для того, чтобы пренебречь молчаливо-отрицательным показанием -N# разумеется, если его значение не превышает значения остальных показаний; но случай вида (~АХ, -B# -Сх и +NX) требует более подробного рассмотрения.
В последнем смысле argumentum ex silentio можно формулировать следующим образом. Если историк имеет основание думать, что отсутствие в одном или нескольких источниках одного или нескольких показаний о факте X лучше всего объясняется предположением, что факта X не было, и значит, может придти к заключению, что если бы данные источники показывали о факте X, то показания их были бы отрицательными, он заключает о недостоверности положительного показания, свидетельствующего в пользу того, что факт X будто бы был в действительности.
Аргументация подобного рода основана на том, что молчание одного или нескольких данных источников о факте X признается равносильным отрицанию того, что факт X был в действительности; иными словами говоря, такие молчаливо-отрицательные показания о факте X признаются более или менее достоверными частью на том основании, что авторы, не упоминающие о факте X, не могли бы не знать о нем, если бы он действительно случился, и вместе с тем не могли бы не упомянуть о нем частью и ввиду того, что молчаливо-отрицательные показания, если их несколько, совпадают между собою. Итак, лишь полагая, что такие показания достоверны и что источник с положительным показанием о факте X или не имеет определенной ценности, или признается менее ценным, можно судить о степени недостоверности положительного его показания о том же факте; и обратно. Если, например, источники, ближайшие по времени и месту к (мнимому) факту, ничего не показывают о нем, а какое-нибудь позднейшее или иноземное сказание одно только и повествует о нем, историк может сомневаться в его достоверности; или если факт был настолько важен для современников или для ближайшего потомства, что он не мог не произвести впечатления на них и что ближайшие к нему по месту и времени источники по самому характеру своему не могли бы не упомянуть о нем, если бы он существовал, но все же не упоминают о нем, исследователь имеет основание предполагать, что показание о его существовании сомнительно или недостоверно.
Вместе с тем argumentum ex silentio получает некоторое значение лишь под условием, что такое предположение обосновано применительно к отсутствию показаний в соответствующих источниках, а не к отсутствию отдельно взятых показаний; отсутствие таких показаний в источниках или молчаливо-отрицательные показания источников и говорят против достоверности положительного показания критикуемого источника; ведь без источника, в котором показание отсутствует, нельзя судить о том, действительно ли оно отсутствовало: лишь по совокупности включенных в источник показаний, положим, о фактах, близких к обсуждаемому, можно судить о действительном отсутствии показания о том факте, который известен только из изучаемого источника; да и каждый источник, умалчивающий о факте, подлежит внимательному рассмотрению прежде, чем утверждать, что он действительно обнаруживает отсутствие показания о факте, который, напротив, упоминается в разбираемом источнике.
Само собою разумеется, что чем больше источников, превышающих по своей ценности разбираемый или, по крайней мере, равноценных с ним и не содержащих показаний о факте, и чем больше времени протекло с того момента, когда факт будто бы случился, и до того момента, когда он упоминается в разбираемом источнике, тем более вероятно и заключение, что положительное его показание недостоверно. Критики библейских книг, например, между прочим, пользуются такой аргументацией при обсуждении предания о факте возникновения книги Даниила: «Иисус бен Сирах не называет ни Даниила, ни трех его товарищей, хотя упоминание их в его хвалебном песнопении было бы вполне уместно»; да и в еврейском каноне книга Даниила не оказывается среди «пророков», т. е. там, где каждый приписывающий ей древнее происхождение должен был бы разыскивать ее и куда ее переместили уже составители александрийского перевода; на основании соображений подобного рода, подкрепляемых, впрочем, еще и другими доказательствами, книга Даниила, согласно предположению критиков, признается произведением более поздним, относящимся ко времени Маккавеев, вопреки показанию составителей александрийского перевода. Наиважнейший источник для истории Карла.
Великого, т. е. его биография, составленная Эингартом, да и некоторые другие источники не упоминают о подвигах, рассказанных в так называемой хронике псевдо-Тюрпена; ввиду молчания важнейших источников известия ее признаются легендарными[30].
Следует иметь в виду, однако, что argumentum ex silentio часто теряет свою силу. При дальнейшем исследовании, например, источники с молчаливо-отрицательными показаниями могут оказаться менее ценными, чем источник с положительным показанием о факте; тогда совокупность молчаливо-отрицательных показаний, каждое из которых, в отдельности взятое, сравнительно малодостоверно, но совпадает с остальными показаниями той же совокупности, может оказаться в противоречии с положительным показанием, обладающим сравнительно высшей степенью достоверности, и т. п. Ведь молчание данного источника о факте может происходить и от того, что его составитель не знал того факта, который упоминается в разбираемом источнике, или забыл упомянуть о нем, или не считал его достойным внимания или упоминания; или имел желание скрыть его и т. п. Следовательно, заключать по отсутствию показаний о факте, кроме одного — что этот факт не существовал, во многих случаях рискованно, особенно если научно-историческая ценность источника с положительным показанием еще не установлена или даже превосходит значение источников с молчаливо-отрицательными показаниями о том же факте. Помимо только что указанного затруднения, возникающего при пользовании подобного рода аргументацией, можно указать еще и на другое: правильное употребление argumentum ex silentio предполагает безусловное знание всех источников, умолчавших о факте и противопоставляемых одному источнику, упоминающему о том же факте; но историк не может быть уверен, что он знает все источники; а если один из утерянных также упоминал бы о том же факте и был бы найден, ему пришлось бы признать наличие совпадения двух положительных показаний о факте, что, разумеется, уже не дало бы ему основания без дальнейшего рассмотрения отрицать достоверность разбираемого положительного показания о том же факте. При таких условиях argumentum ex silentio более пригодно для того, чтобы вызвать сомнение в достоверности положительного показания, чем категорическое утверждение, что оно недостоверно.
Само собою разумеется, что изучение совпадения или несовпадения показаний распространяется и на целые совокупности связанных между собою показаний, известий и т. п., образующих целые источники. В таких случаях большая достоверность, приписываемая источнику, совпадающему в некоторых из его показаний с показаниями других источников, дает возможность на основании принципа единства сознания и других критериев, указанных выше, с большим доверием отнестись и к тем его показаниям, которые хотя и не совпадают с показаниями других источников, но связаны с остальными показаниями разбираемого источника; и обратно: недоверие к показаниям источника, не совпадающим с показаниями других источников, переносится — разумеется, не без предосторожностей — и на другие показания разбираемого источника. В основе подобного рода исследований лежат те же принципы и приемы, какие были указаны выше; но оно значительно осложняется разнообразием возможных соотношений и, конечно, редко прилагается к целым источникам, так как вероятность совпадения больших совокупностей показаний мала. С такой точки зрения критики изучают, например, евангелия: подобно Сигелию и его преемникам, они сравнивают рассказы евангелистов о земной жизни Иисуса Христа: выясняют, в чем именно и в какой мере эти рассказы совпадают или не совпадают, усматривают в первых трех синоптических евангелиях больше фактического содержания, чем в четвертом, и приписывают гораздо больше достоверности «речам» первого евангелия, чем четвертого; некоторые из них полагают даже, что последнее имеет характер не столько истории, сколько «аллегории» жизни Иисуса Христа и т. п.[31]
Итак, принимая во внимание все сказанное выше о соответствии или несоответствии показаний, можно придти к заключению, что оно имеет весьма важное значение для выяснения их достоверности или недостоверности. В самом деле, на основании одного показания историк не всегда может с достаточною уверенностью утверждать, что факт, о котором показание дается, действительно был; труднее установить достоверность, чем недостоверность одного показания; но из недостоверного показания нельзя даже заключить, что факт в действительности не был, ибо в последнем случае пришлось бы пользоваться отрицательным показанием, которое, однако, признавалось бы достоверным, поскольку оно отрицает, что факт был в действительности; из недостоверного показания историк может вывести лишь то, что оно непригодно в качестве источника и что, следовательно, им нельзя пользоваться. Согласованные или совпадающие показания, напротив, взаимно подтверждают друг друга или подкрепляют одно из них, а несогласованные или несовпадающие дают возможность сразу обнаружить, что именно в некоторых из них вызывает сомнение и нуждается в дальнейшей критике.
Степень вероятности заключения о факте также возрастает, если показания источника, на основании которого оно сделано, подтверждаются благодаря соответствию их с показаниями о том же факте других источников. Вообразим, например, что ученый находит в прирейнской стране, где некогда жили аламанны, древнеримскую монету;
на основании такой находки он еще не может высказать достаточно обоснованного заключения о существовании там в прежние времена какого-либо римского поселения: ведь одна древнеримская монета могла попасть сюда и по какой-либо случайности; но если такие находки сделаны в нескольких местах той же страны, он может сделать свое заключение на основании нескольких согласованных между собою данных, что, конечно, придаст его выводу больше доверия; более или менее сплошное распространение таких монет не могло быть случайным, хотя и могло быть вызвано какими-либо другими причинами, например частыми сношениями местных жителей с римлянами, а не их поселениями. Положим далее, что такие находки оказались еще более значительными и что в некоторых из указанных мест удалось наткнуться на целые клады однородных монет; в таком случае ученый может опереться на совпадение данных касательно одного и того же места и на согласованность более значительных данных относительно разных мест и, значит, будет придавать своему заключению еще большую вероятность, все еще, однако, недостаточную для того, чтобы вполне устранить сомнения. Представим себе, что вместе с монетами в тех же местах раскопки обнаружили, однако, и другие древности, относящиеся к римской культуре, — остатки стен и домов, алтари, посуду ит.п.; принимая во внимание такое соответствие, которое также может оказаться, смотря по условиям, согласованностью или совпадением данных, ученый может уже без особенных колебаний признать довольно вероятным свое заключение о существовании в таких местах в прежнее время римских поселений. Впрочем, изучая остатки римской культуры в стране аламаннов, исследователь, конечно, не упускает из виду и соответствия их с письменными показаниями, например с известиями о войнах Каракаллы с аламаннами, с рассказами Аммиана Марцелина о борьбе с ними Констанция и Юлиана, о более или менее продолжительных походах римлян в страну аламаннов, об устройстве разных укреплений и других сооружений в подходящих местах. Такие показания также частью согласуются, частью совпадают; положим, показания, сообщаемые Дионом Кассием, Спартианом и Аврелием Виктором и т. п. Вместе с тем историк замечает соответствие между разнородными группами источников, остатками культуры и преданиями: оно еще более подтверждает его заключение о существовании римских поселений в стране аламаннов. Само собою разумеется, что чем больше число соответствующих данных в пределах каждой из качественно различных их групп, чем больше, например, было найдено монет и других римских древностей в разных местах прирейнской области, чем больше оказалось соответствующих с ними письменных показаний и т. п., тем рассматриваемое заключение о древнеримских поселениях в той же области становится более вероятным. И наоборот: несоответствие вышеприведенных данных привело бы к крушению и ту гипотезу, которая была бы высказана на основании одного или даже нескольких из них; много римских монет того же времени, например, найдено в области Днепра, но ни результаты раскопок курганов и городищ в той же области, ни показания и рассказы Диона Хризостома, Аммиана Марцелина и других писателей о движении варварских племен с востока на запад не дают основания заключать о существовании собственно римских поселений на берегах Днепра[32].
Само собою разумеется, что заключение, основанное на показании, которое заслуживает некоторого доверия, теряет, однако, полноту своего значения, если оно не согласуется или не совпадает с другим показанием, которое не может быть устранено; такое заключение нельзя признать безусловно истинным, если не удастся вполне разрешить противоречие между тем показанием, которое послужило ему основанием, и тем, которое противоречит ему; следовательно, заключение подобного рода представляется при данных условиях лишь более или менее вероятным, смотря по тому значению, какое приписывается противоречивым показаниям. Впрочем, даже при наличии группы показаний, часть которых противоречит другой части, подсчет их в случае разной их ценности все же оказывается фикцией, которая не может служить для точного определения сравнительной вероятности заключений, соответственно основанных на каждой из частей. В большинстве случаев притом историк имеет дело не столько со свидетельскими показаниями, сколько со сложными источниками, содержащими наряду с ними разные известия, слухи и т. п., которые также могут совпадать или не совпадать с главными показаниями или между собой; при таких условиях он часто не может высказать свое заключение иначе, как в виде более или менее вероятного предположения, которое иногда опирается не на положительные показания, а на более или менее правдоподобные намеки источников. Историк располагает, например, довольно значительным числом показаний касательно известного углицкого дела о смерти царевича Дмитрия 15 мая 1591 г., сыгравшего видную роль в политической идеологии Смутного времени; но он не может признать их одинаково ценными и принужден считаться с противоречиями между ними; зная, что «власть объявляла Бориса святоубийцею» и что «церковь слагала молитвы новому страстотерпцу, приявшему от него смерть», исследователь замечает, однако, что почти во всех произведениях литературы XVII в., посвященных изображению Смуты и не принадлежащих к агиографическому кругу повествований, «личность Бориса получает оценку независимо от углицкого дела, которое или замалчивается, или осторожно обходится»; он сравнивает ценность показаний, заключающихся в следственном деле, которое проводилось кн. В. И. Шуйским и окольничим Андреем Клешниным в «повести».
1606 г., панегирически настроенной в пользу Шуйских, во временнике дьяка Ивана Тимофеева и в речах «многих» других, говоривших, «якоже убиен благоверный царевич Дмитрий Иванович Углицкой повелением московского боярина Бориса Годунова», — с показаниями Андрея Палицина, который хотя и не принадлежал к безусловным его поклонникам, однако ограничивается сообщением, что враги и ласкатели «от многие смуты ко греху сего низводят, его же, краснейшего юношу, отсылают и не хотяща в вечный покой», с довольно аналогичным отношением к Борису и к тому же делу кн. И. А. Хворостинина и других, некогда говоривших, «яко неповинна суща Бориса закланию царского детища». Внимательно сравнивая показания во вред Борису Годунову с показаниями, авторы которых, несмотря на официальную традицию, на «житие» царевича и чин службы новому чудотворцу, не решались, однако, прямо обвинить «властодержавного правителя», хотя и писали свои сказания и повести после его смерти, исследователь полагает, что заключение, основанное на намеках тех лиц, которые составляли их, представляется более вероятным, чем вывод, который навязывается ему официальным преданием[33].
Критика стремится, однако, применять вышеуказанные критерии фактической истины или неистины показания в связи с изучением личности его составителя: она рассматривает индивидуальные особенности его показаний с целью выяснить, какое значение они имеют для установления их достоверности или недостоверности. В самом деле, можно сказать, что понятие о личности показывающего в значительной мере обусловливает и ценность его показаний: ведь без понятия об индивидуальности нельзя реально представить себе ни единства, ни непрерывности его сознания, ни того именно положения, которое показывающий субъект занял относительно показываемого объекта в данном культурном целом. В сущности, можно составить себе надлежащее представление о свидетеле данного показания лишь в виде той личности, которая в известном пункте пространства и в известный момент времени действительно присутствовала при совершении описываемого факта и действительно восприняла его в своем чувственном восприятии; и наоборот: если затруднительно возвести данное показание к личности того именно свидетеля, который воспринял факт, приходится сомневаться в достоверности сообщаемых в нем сведений или, зная ненадежность того, кто передал известие, заключать о большей или меньшей степени его недостоверности.
Ввиду подобного рода соображений следует пользоваться критериями, рассмотренными выше, применительно к тому именно субъекту, который дает показание, для того чтобы судить о фактической его достоверности или недостоверности; но приложение такого принципа при рассмотрении фактического характера показания дает плодотворные результаты, очевидно, лишь в том случае, если можно доказать, что этот субъект был или не был свидетелем того факта, о котором он показывает, что он действительно был в том месте, где факт произошел, и в то время, когда он случился, что он действительно испытал его в собственном чувственном восприятии, действительно наблюдал этот факт и т. п.; в противном случае нельзя признать его показание более или менее достоверным.
Итак, при критически индивидуализирующем рассмотрении показаний источника нельзя не принимать во внимание личности автора; без понятия о его индивидуальности нельзя надлежащим образом выяснить содержание и объем его показаний и критически отнестись к тем из них, которые отличаются более или менее субъективной окраской собственных его личных переживаний и которые, следовательно, всегда могут содержать, кроме сведений о факте, и более или менее субъективную его оценку; а последняя, конечно, обусловливает достоверность или недостоверность его показаний. При пользовании, например, мемуарами Комминя нельзя упускать из виду некоторые особенности его характера и обстоятельства его жизни, разумеется, отразившиеся и на его показаниях; умный и ловкий, он обнаруживал склонность к наживе и к интриге и не любил обращаться к насильственным средствам в тех случаях, когда можно было действовать иначе, а потому и не питал сочувствия к Карлу Бургундскому, которого он тайно покинул под стенами Э (Ей); будучи одним из главных конфидентов Людовика XI, он не понимал, однако, возрастающей слабости феодального режима и враждебно относился к правлению Боже; он был также недоволен тем предпочтением, какое молодой Карл VIII оказывал лицам, которые его не стоили, и враждебно относился к сенешалю Бокэру; он был решительно против экспедиции в Италию, сыграл в ней второстепенную роль и не без пристрастия оценивал главных ее приверженцев — Брисоннэ и Веска, много содействовал миру в Версейле, заключение которого он подробно описывает в своих мемуарах, и т. п.[34]
Рассмотрение индивидуальных особенностей показания с целью выяснить, какое значение они получают для определения его достоверности или недостоверности, легко переходит, как видно, в изучение генезиса показания; но исследование его происхождения имеет и свое самостоятельное значение.
В самом деле, критика фактической достоверности или недостоверности показания дополняется изучением его генезиса; такое исследование эмпирически обусловливает суждение о достоверности или недостоверности показания и дает возможность проверить вывод относительно его значения, выяснив, почему оно оказывается достоверным или недостоверным. Подробно изучая обстоятельства, обусловившие возникновение данного показания, можно, с такой точки зрения, понять, почему данный субъект сказал правду или неправду, почему он сохранил или нарушил единство своей мысли и ее последовательность, почему его показание находится в соответствии или в несоответствии с тем культурным целым, к которому оно будто бы относится, или с собственною его индивидуальностью и т. п.
Впрочем, изучение генезиса показаний получает еще особого рода значение в тех случаях, когда историк, располагающий несколькими из них, признает одни и отвергает другие; гипотетически принимая, что речь идет о том, а не ином факте, что последний совершился так, а не иначе, он объясняет, почему одни показывали о нем согласно с истиной, другие — несогласно с ней, и, таким образом, подкрепляет гипотезу, с точки зрения которой он и имеет возможность объяснить происхождение не только правдивых, но и неправдивых показаний.
При помощи генетического исследования показаний легче установить и фактическое значение их разновидностей, т. е. обнаружить, например, какие именно показания оказываются свидетельскими, какие — известиями, какие независимы друг от друга и какие, напротив, зависят друг от друга, что и дает возможность признать достоверность или недостоверность одного из них или целой их группы, соединенных в источнике.
Такое генетическое исследование тем более необходимо, что далеко не всегда можно по первому впечатлению правильно судить о значении показания. В том случае, например, когда свидетель высказывается с большими колебаниями о данном факте или характеризует его только в «общих чертах», показание его может вызвать сомнения; но тот, кто бережно относится к факту, может из боязни ошибиться обнаружить ее при подаче показания, и значит, последнее может оказаться более достоверным, чем оно казалось; или в том случае, когда свидетель с уверенностью показывает о факте или придает своему показанию «отчетливость» и «точность», его показание может произвести впечатление достоверности, которой оно, однако, не имеет. В судебной практике, например, нередко бывает, что свидетель, в особенности под конец допроса, начинает путаться и колебаться, смущенный возникшими сомнениями в правде своих слов, хотя бы они и не заключали ошибки; или наоборот: с уверенностью дает ошибочное показание, например, bona fide, воображает, что он узнает и хорошо узнает человека, который оказывается вовсе не тем, за кого он принимает его[35]. Такое же обманчивое впечатление получается иногда и от сравнительно обстоятельного показания, изобилующего подробностями: полнота его сама по себе еще не свидетельствует в пользу его правдивости; подробное показание может, конечно, быть правдивым, но оно может оказаться и неправдивым; оно может содержать больше ошибок, чем скудное, но точное показание. Свидетели даже на суде иногда рассказывают, например, о подробностях, которые не существовали[36].
В разысканиях подобного рода следует различать, однако, генезис свидетельского показания от генезиса известия или того предания, в состав которого оно входит; генезис свидетельского показания получает особенно важное значение и для выяснения достоверности зависящего от него известия или предания, хотя, разумеется, недостоверность такого показания также отражается в его передаче; генезис известия или предания, напротив, имеет интерес для выяснения не столько достоверности, сколько недостоверности, возникающей при передаче показания.
Впрочем, и при изучении свидетельского показания нельзя смешивать генезис самого показания с генезисом его подачи, т. е. безразлично говорить об образовании его в сознании свидетеля, конечно, более или менее связанном с его формулировкой, и о его высказывании под влиянием каких-либо внешних условий; в действительности оба момента, разумеется, тесно связаны между собою, но в теории, да и на практике в тех случаях, когда такая связь извращена, исследователю приходится различать два момента — образование показания и факт его подачи.
Вообще изучение образования свидетельских показаний оказывается довольно сложным, можно интересоваться их генезисом с разнообразных точек зрения. Рассмотрим хотя бы в самых общих чертах психогенезис таких показаний, разумеется, применительно к задачам собственно исторического исследования и отметим главнейшие исторические условия, под влиянием которых они слагаются.
В таком рассмотрении нельзя смешивать возможность с действительностью, т. е. вопрос о том, какое показание свидетель мог дать, с вопросом о том, какое показание он действительно дал; ответы на такие вопросы могут быть разными и далеко не всегда совпадают друг с другом. Само собою разумеется, что в области исторических разысканий приходится исходить из уже данных показаний. Генетическое изучение таких показаний сводится, конечно, к выяснению главнейших условий и факторов их образования; смотря по преобладанию того, а не иного рода факторов легко установить и соответствующие более или менее отвлеченные виды или типы образования показаний.
В исследованиях подобного рода можно различать двоякие условия образования свидетельских показаний — нормальные и ненормальные. С генетической точки зрения, каждое из них находится в более или менее заметной связи с состоянием субъекта — больным или здоровым, особенно в психическом смысле. Душевноздоровый субъект, сохранивший единство и целостность сознания, очевидно, оказывается в таких благоприятных условиях для познания, которые недоступны душевнобольному, утратившему их в той мере, в какой его психические функции уже поражены болезнью, что соответственно отражается и на результатах их показаний. Понятия подобного рода, правда, далеко еще не вполне установлены, и в действительности, разумеется, существует ряд переходов, которые затрудняют резкое разграничение, по крайней мере в сфере душевной жизни, «нормального» от «ненормального», часто имеющего более или менее относительный характер; но с такими оговорками все же можно рассуждать о душевноздоровых или душевнобольных людях, а значит, и о нормальных или ненормальных условиях образования данных ими показаний.
С указанной точки зрения, следует несколько остановиться на изучении образования нормальных показаний, имеющих для историка, конечно, гораздо большее значение, чем ненормальные, т. е. выяснить главнейшие условия и факторы — познавательные и эмоциональноволевые, под влиянием которых они образуются.
Вообще, исходя из уже данного показания и рассуждая о его генезисе, историк интересуется не тем, мог свидетель дать показание или не мог, и даже не тем, мог бы он сказать истину или не мог бы, а задается только вопросом о том, мог он в уже данном им показании сказать истину или не мог, и смотря по ответу на него, признает изучаемое показание надежным или ненадежным в той мере, в какой оно зависит от такого знания или незнания[37].
Итак, вопрос о том, какое показание свидетель мог дать, естественно свести к вопросу о том, мог он сказать истину или не мог и в свою очередь поставить его решение, главным образом, в зависимость от того, знал он истину или не знал ее. В самом деле, показывающий может сказать истину, если он знает факт, о котором он показывает; и наоборот: он не может сказать истину, если он не знает факта, о котором он показывает.
В таких случаях следует, конечно, придавать истине объективное значение, т. е. понимать ее в смысле того, что должно быть высказано о данном факте для того, чтобы иметь основание признать показание о нем фактически истинным; в соответственно обратном смысле можно, значит, рассуждать и о незнании истины. Итак, можно сказать, что знание или незнание фактической истины становится общим и необходимым условием образования надежного или ненадежного показания.
Впрочем, субъект может знать фактическую истину лишь при совокупности довольно разнообразных, более или менее частных условий. В самом деле, субъект в качестве свидетеля может обладать таким знанием, если он при наличии единства сознания и связующих его функций располагает известным запасом чувственно воспринятого, из которого он и почерпает материал для своего показания о соответствующем ему объекте[38]; если он хотя бы в некоторой мере интересуется тем фактом, который он воспринимает с теоретической, а не с практической точки зрения, т. е. инстинктивно или сознательно питая некоторый интерес к факту, все же, однако, не «заинтересован» в нем, наблюдает его, но не участвует в его совершении или, участвуя в нем, принимает во внимание свое участие в нем лишь для того, чтобы лучше понять то, что произошло, а не для того, чтобы подвергнуть происшедшее более или менее субъективной оценке. Вместе с тем свидетель может знать фактическую истину, конечно, лишь в том случае, если при таком отношении к факту он имеет возможность воспринять его в том месте, где факт происходит, и в то время, когда факт совершается; если он возможно полнее испытывает его в данных своего чувственного восприятия; если он отличается некоторым самообладанием, внимательно следит за фактом, т. е. с возможно большею объективностью «регистрирует» то, что он испытывает, преждевременно не примешивая к нему субъективную переработку или оценку воспринятого; если он располагает достаточным образованием и техническими средствами, нужными для удовлетворения требованиям подобного рода и т. п. Ввиду того что воспринятое легко поддается «действию времени», свидетель в момент показания может знать фактическую истину лишь в том случае, если он дает его на основании еще яркого и свежего впечатления от факта; если его настроение соответствует тому, что он вспоминает; если он помнит испытанное достаточно точно; если он отдает себе ясный отчет в том, что именно он знает и чего именно он не знает, что он запомнил и чего он не запомнил. Само собою разумеется, что свидетель, показывающий при подобного рода условиях, способен дать надежное показание, лишь если он владеет своим воображением и своими чувствами, не поддается действию других факторов, порождающих невольные ошибки в показаниях, в особенности если он хочет знать истину, т. е. сознательно и неуклонно стремится к некоторой познавательной цели, и т. п.[39]
При наличии обратных условий позволительно предполагать, что показывающий не может знать истину или не может обладать полным знанием ее. Само собою разумеется, что если он не испытал факта в своем чувственном восприятии, он не может дать надежное показание о нем; если он не интересуется фактом, он часто плохо воспринимает его или забывает его, смешивает то, что он испытал от его восприятия, с другими состояниями сознания, дает волю своему воображению и т. п.; если он слишком «заинтересован» в его совершении, он часто вносит свое субъективное настроение в его оценку, не хочет знать истину и т. п. В таких случаях, надо думать, он не может знать истину в объективном ее значении или не может обладать полным знанием ее.
Итак, при наличии целой совокупности условий, главнейшие виды которых были указаны выше, можно полагать, что свидетель знает фактическую истину; а в противном случае можно полагать, что он не знает ее. Само собою разумеется, что такие предположения большею частью приходится высказывать и в гораздо менее категорической форме, т. е. полагать, что свидетель более или менее знает фактическую истину или более или менее не знает ее.
Впрочем, разнообразные частные источники и примеры надежных или ненадежных показаний, обусловленных знанием или незнанием истины, можно рассмотреть в связи с эмоционально-волевыми факторами их образования.
В самом деле, нельзя упускать из виду, что показание образуется не только в зависимости от знания или незнания истины; знание или незнание ее оказывается общим и необходимым, но недостаточным условием генезиса реально данного показания: ведь то именно, что свидетель показал в действительности, зависит и от других условий, имеющих ближайшее отношение к эмоционально-волевой сфере его душевной жизни; в действительности он, конечно, дает и надежное, и ненадежное показание под влиянием факторов подобного рода, т. е. импульса или воли, получающих, таким образом, решительное значение в образовании самих показаний. Смотря по тому, какого рода факторы играют преобладающую роль в генезисе показаний, можно различать два вида свидетельских показаний, которые я назову импульсивными и собственно волевыми; в импульсивных показаниях воля свидетеля не имеет решающего значения, в волевых показаниях он, напротив, сознательно хочет сказать правду или неправду[40].
Следует иметь в виду, что импульсивные показания могут оказаться более или менее верными или неверными: даже свидетель, импульсивно показывающий о факте, который он сам испытал в своем чувственном восприятии, инстинктивно говорит правду или невольно говорит неправду. В таких случаях свидетель испытывает импульс дать показание о том, что он знает, или о том, чего он в сущности не знает; при импульсивном показании свидетель, знающий истину, дает обыкновенно верное показание, а свидетель, не знающий истины, дает неверное показание в той мере, в какой он не знает ее.
Действительно, в числе импульсивных показаний немало таких, которые оказываются верными; они образуются благодаря тому, что свидетель испытывает инстинктивное стремление объективировать состояния своего сознания, вероятно, тесно связанное с полнотою их переживания, завершающегося в соответственном их разряде; во всяком случае, при некоторой его напряженности он обыкновенно стремится вместе с тем выразить испытываемое жестами, голосом, словами, письменными знаками и т. п., хотя его стремление, конечно, может и не получить достаточной силы под влиянием какого-либо задерживающего процесса. Свидетель обнаруживает стремление подобного рода, например, в тех случаях, когда он дает показание о факте, который поразил его или «навязывается» его сознанию и напрашивается на полотно или на бумагу; когда он «признается» или «сознается» в чем-либо, в особенности если его «признание» или «сознание» говорит против него ит.п.[41] В «дневниках», например, такая потребность обнаруживается нередко: составитель дневника стремится объективировать состояния своего сознания, высказаться, «поверить свои тайны бумаге», записать некоторые факты скорее для себя, чем для публики, и т. п.
Верные показания находятся, конечно, в зависимости от степени знания субъекта, от тех эмоций, которые он более или менее ярко переживает в связи с объектом своего наблюдения, и т. п.; но такие показания зависят и от свойств объекта: показания об отношениях в пространстве, например, вернее показаний о действиях (во времени?); показания о лицах (но не о личных их признаках) и о форме предметов также более пригодны, чем показания о их числе и в особенности о их окраске; показания о других свойствах отличаются, судя по некоторым опытам, сравнительно большей верностью, чем полнотой, и т. п.[42]
Само собою разумеется, что верные показания о сложных исторических фактах образуются и под влиянием многих других условий.
Верные показания, например, могут иметь различные оттенки в зависимости от того рода исторических фактов, о которых они даются. Факты, которые при относительно меньшей сложности отличаются большею яркостью индивидуальных особенностей и резче выделяются, больше привлекают к себе внимание свидетеля и побуждают его высказаться, не давая ему времени одуматься, внести в их изображение свое толкование, переработать свои впечатления о них и т. п. Выдающиеся личности, например Карл Великий, Людовик Толстый и др., скоро находят своих биографов в лице Эингарта, Сюжера и др. Внезапно случающиеся события также не позволяют свидетелю подойти к ним с заранее подготовленной точки зрения или теории, что соответственно отражается и на его показаниях: они имеют сравнительно менее искусственный характер и большею частью явно отличаются от присоединенных к ним размышлений, нравоучений и т. п. Анналы монастыря Святого Аманда (St. Amand) и другие возникшие с конца VII в. из приписок к пасхальным таблицам, например, содержат немало таких показаний; они обыкновенно упоминают о важнейших «событиях каждого года» — об избрании и смерти аббатов монастыря, поступлении реликвий и проч., о разных бедствиях, неурожаях, эпидемиях, пожарах и наводнениях, о землетрясениях, проливных дождях, бурях, холодах и засухах, о затмениях, северных сияниях и т. п.; наконец, в связи с интересами данного монастыря — о некоторых фактах, касающихся фамилии его покровителей, их рождениях и смертях, об их военных предприятиях и т. п.[43] В позднейшее время аналогичные показания о выдающихся современных событиях стали появляться в «реляциях», газетах и т. п.: в 1605 г., например, антверпенский типограф Вергевен получил от эрцгерцога Альберта привилегию на то, чтобы «печатать и гравировать на дереве или металле и продавать все новости о победах, осадах и взятии городов». Факты более или менее обычные, например нравы, обычаи, учреждения и т. п., напротив, менее приковывают к себе внимание привыкшего к ним свидетеля и часто упоминаются мимоходом, как нечто естественное, само собою разумеющееся или просто подразумеваются. Составители житий, например Иона в своей биографии св. Колумбана, и другие агиографы позднейшего времени, между прочим, сообщают ценные сведения о топографии данной местности, нравах ее обитателей, их культуре и т. п.
Показания о сложных исторических фактах могут оказаться тем более верными, чем более свидетель сам испытал их или сочувственно переживал их и чем менее он скрывает свою «симпатию» (в широком смысле) к тем людям, через посредство которых факт совершился; к их действиям, к достигнутым ими результатам и т. п. В таких случаях он может инстинктивно вскрыть в своем показании внутреннюю психическую сторону факта. В своих мемуарах любознательный С.-Симон, например, обнаруживает большое чутье людей: он быстро и верно распознает их, чувствует в одном — человека высоко честного, в другом — глубокого лицемера, схватывает иногда тон и даже стиль того лица, о котором он пишет, большею частью передает читателю верное впечатление того, что он воспринял из придворной жизни времени Людовика XIV, и т. п.[44]
В образовании таких показаний инстинктивная потребность высказать истину, вероятно, играет известную роль, хотя, разумеется, может соединяться и с другими факторами, обусловливающими возникновение волевых показаний, известий и т. п.
Нельзя упускать из виду, однако, что импульсивные показания в действительности редко оказываются вполне верными. В самом деле, свидетель часто невольно говорит неправду; его показание обыкновенно содержит случайные ошибки, т. е. оказывается в некоторой мере неверным; такие ошибки легко ускользают от его внимания, но знание их необходимо для того, кто желает определить ценность его показания[45].
Ввиду того что без субъекта не может быть перцепции объекта, что последняя есть акт индивидуального его сознания и, значит, подчинена его пределам и в известной мере отражает в себе его индивидуальные особенности, колебания и т. п., можно сказать, что свидетель при совершении такого акта не застрахован от ошибок; вместе с тем при восприятии сложного объекта он едва ли может обойтись без памяти, далеко не всегда, однако, надежной; следовательно, и при рассмотрении источников верных показаний свидетеля можно прежде всего различать «ошибки восприятия» от «ошибок памяти»; они, конечно, часто переплетаются между собою и осложняются действием его воображения, а также другими состояниями его сознания[46].
В сущности, наблюдатель, даже хорошо подготовленный, не в состоянии сразу обнять в своем чувственном восприятии сложный факт во всей совокупности его элементов; в каждый данный момент он перципирует их не вполне и не в одинаковой мере, а для апперцепции каждого из них, сверх того, нуждается в известном усилии внимания; но он часто не в силах удержать апперцепцию на каждом из них: внимание его легко отвлекается другими одновременно действующими раздражениями или «упорствующими» представлениями, аффектами и т. п.[47]
Итак, можно сказать, что наблюдатель испытывает в своем чувственном опыте не более или менее сложный факт, а апперципирует только его элементы, не всегда находится на надлежащем расстоянии от того, что он воспринимает, и редко может или умеет всецело отдаться длительному его восприятию. При таких условиях его ошибки состоят скорее в пропусках того, что дано в действительности, чем в прибавках к тому, из чего она слагается; впрочем, принимая одно за другое, он может подвергнуть ее и некоторому искажению.
Более или менее удачно связывая данные своего восприятия, свидетель подвергает, однако, свое построение схематизации, отдаляющей его от действительности; он легко может обнаружить и некоторый произвол в упрощении действительного факта, в выборе и в сочетании его признаков: ведь свидетель, ясно не сознающий критериев такого упрощения, может выбрать несколько случайных элементов и, произвольно изменяя положение хотя бы одного из них, уже нарушает смысл целого.
Наконец, такое упрощение часто благоприятствует появлению дальнейших ошибок, вызванных какой-либо привычной ассоциацией или какой-либо временно охватившей сознание мыслью; свидетель смешивает, например, образ того, кто действовал, с образом того, кто мог действовать, или полагает, что он уже испытал то, что испытывает, и т. п.[48]
Такие ошибки наблюдаются, конечно, и в показаниях, имеющих отношение к историческим событиям, или продуктам, если только можно проверить их другими данными. Английский государственный деятель и писатель Рэлей (Raleigh), заключенный в Тауэр вскоре по вступлении на престол короля Иакова I, например, сидел однажды у окна своей тюрьмы и внимательно наблюдал за кровавым столкновением, происходившим в одном из ее дворов. На следующий день Рэлей принимал одного из своих друзей и рассказал ему то, что случилось на его глазах; каково же было его удивление, когда его гость, лично участвовавший в происшествии, доказал ему, что дело происходило совсем иначе. Предание повествует, что Рэлей, пораженный своим открытием, бросил в огонь только что оконченную им последнюю часть своей всемирной истории: ему казалось, что раз он столь ошибся, давая показание о том, что он видел своими глазами, он ничего не знает из того, что он написал на основании чужих показаний. Подобные случаи бывали, конечно, и с позднейшими наблюдателями. Тэн, один из выдающихся французских критиков, например, подробно описывая впечатления, вынесенные им при созерцании Мадонны Рафаэля, известной под наименованием «del Granduca» (в галерее Питти), между прочим, уверяет, что голова ее покрыта «длинным зеленым покрывалом»; но стоит только взглянуть на самую картину, чтобы убедиться, что Тэн дал ошибочное показание о его окраске[49].
В сущности, всякое наблюдение над сложным фактом основано, однако, не на одном только чувственном восприятии. Оно нуждается еще в памяти. Наблюдатель удерживает в памяти свое представление о факте хотя бы на самый краткий промежуток времени, прежде чем дать устное или письменное показание о нем; но свидетель далеко не всегда находится в условиях, благоприятствующих памяти, например, более или менее яркого переживания того, что запоминается, сочувствия к нему ит. п.; притом только научно настроенный наблюдатель проводит свои наблюдения, пользуясь строго установленным методом и более или менее совершенными орудиями, и сейчас же по наблюдении записывает его при помощи системы обозначений, смысл которых точно установлен и всеми понимается одинаково; обыденный наблюдатель, напротив, часто воспроизводит то, что он наблюдал, лишь по истечении некоторого промежутка времени, по памяти, а иногда и довольно случайно. Следовательно, такой наблюдатель легко впадает в ошибки, которые состоят в забвении воспринятого, т. е. в понижении энергии представления, в постепенной утрате свежести и ясности образов, в пропусках, которые восполняются преимущественно под влиянием воображения, и т. п. Свидетель, например, плохо помнит или забывает мимолетное представление или то, что уже поблекло; он легко спутывает представления, потерявшие свежесть или утратившие некоторые черты, в особенности если связь между этими представлениями не успела еще окрепнуть или уже разлагается; он еще легче упускает из виду такую связь, если одно из них уже исчезло, и благодаря более привычной для него ассоциации, произвольно заменяет одно из ранее связанных между собою представлений с другим, сходным или смежным с удержанным в памяти представлением или даже с тем, которое он сейчас не может точно припомнить, и смешивает его с подставным; следовательно, он принимает одно из них за то, чему оно в сущности не соответствует, и таким образом, впадает в ошибку; продолжая упрощать удержанное в памяти и выбирать из него характерные признаки, он еще более усиливает неверность показания и т. п.
Заблуждения памяти, конечно, тем более возможны, чем больше промежуток времени, протекший между восприятием предмета или факта и показанием о нем. Такие заблуждения заметны, даже если этот промежуток равен двум секундам и в особенности если ощущения и восприятия, наполняющие интервалы, относятся к тому же самому виду ощущений и восприятий, какие мы стремимся сохранить в памяти. Само собою разумеется, что ошибочность показаний возрастает по мере увеличения того же промежутка, но в зависимости от потери впечатлений едва ли не идет все более медленным темпом. Судя по расчетам одного из исследователей касательно показаний заранее предупрежденных свидетелей, например, число сделанных ими ошибок возросло на 1,5% в течение 5 дней, на 4,3% в течение 14 дней, на 6,0% в течение 21 дня. Время влияет и на полноту показания, и на его верность; они постепенно убывают, впрочем, не всегда в одинаковой мере[50].
Вышеуказанные ошибки получают дальнейшую спецификацию в зависимости от разновидностей памяти: свидетель может обладать смешанным или преимущественно тем, а не иным видом памяти, например зрительной, слуховой, моторной, значит, не всегда в состоянии исправлять ошибки одного рода памяти при помощи другой ее разновидности, тем более что последняя может оказаться менее пригодной для воспроизведения припоминаемого объекта[51]. Свидетель, который имеет, например, преимущественно слуховую, а не зрительную память, т. е. плохо воспроизводит данный объект или факт во всей полноте его линий, формы, освещения и красок, и значит, получает лишь относительно бледный образ действительности, стремится восполнить его при помощи разных суррогатов, в особенности слуховых впечатлений, к которым можно причислить и слова, более или менее тесно ассоциируемые с письменными их обозначениями; но пользуясь слуховыми впечатлениями взамен зрительных, он, конечно, может впасть в новые погрешности. Следовательно, хотя вышеуказанные ошибки памяти у одного и того же лица иногда оказываются ошибками памяти одного рода и могут быть исправлены памятью другого рода, но они часто могут встречаться в зависимости от ошибок то одного, то другого рода памяти и соответственной их замены.
Следует заметить, что показание об историческом факте основано не только на памяти, но на воспоминании: субъект, дающий показание об историческом факте, должен не только знать, что он его испытал где-то и когда-то, но должен помнить ту совокупность представлений, ту обстановку, словом, то конкретное целое, в котором вспоминаемый образ был действительно испытан им, и значит, то положение, которое соответствующий ему конкретный факт занимал в пространстве и во времени, т. е. в данном коэкзистенциальном или эволюционном целом. Естественно, что при воспоминании субъект легко может поместить факт, удержанный в памяти, не в то положение, какое он занимал в данном целом.
Все сказанное, конечно, объясняет происхождение тех ошибок, которые делаются и в показаниях об исторических фактах, в особенности при воспоминании о них. Достаточно припомнить, сколь долгий промежуток времени иногда протекает между моментом восприятия исторического факта и показанием о нем, например, при составлении мемуаров и т. п., чтобы придти к заключению, что в них ошибки подобного рода могут очень часто встречаться. Ксенофонт, например, писал свои воспоминания о Сократе много лет спустя после его смерти, что и отразилось на их содержании; автор воспоминаний указывает, между прочим, на такие поводы к беседам, которые относятся к позднейшему времени, когда философа уже не было в живых. В своих мемуарах Меттерних описывает некоторые факты, случившиеся лет за сорок до их составления; обладая довольно слабой памятью, он при описании фактов, даже позднейших, впадает в целый ряд ошибок; ввиду того, однако, что он составлял свои записки в разное время и степень неверности его записей в той мере, в какой она была обусловлена последним, оказывается различной; составитель мемуаров делал более или менее значительное число ошибок в некотором соответствии с тем промежутком, который отделял время, когда факты случились, от времени, когда он записывал их. В записках Меттерниха можно встретить случаи ошибочного размещения фактов и в пространстве, и во времени; упоминая, например, о своем пребывании в Страсбурге в 1788 г., он рассказывает, что Бонапарт только что оставил город, но известно, что Бонапарт в 1788 г. стоял со своим артиллерийским полком в Оксонне (Аихоппе), а о пребывании его в Страсбурге, хотя бы и в другое время, более надежных сведений не имеется; повествуя о своем учении в Майнце, законченном в июле 1792 г., Меттерних уверяет, что студенты записывали лекции по республиканскому календарю, очевидно, забывая, что в то время во Франции еще не было ни Республики, ни республиканского календаря, и т. п.[52] Свидетель, показывающий о сложном историческом факте, легко может под влиянием вышеуказанных условий также исказить порядок, в каком моменты его следовали во времени, и таким образом, уже придает ложную окраску историческому факту. В одном из наших губернских городов, например, собравшиеся 17 октября 1905 г. в здании земской управы подверглись нападению разъяренной толпы; она подступила к зданию, стала бросать камнями в окна и т. п. При допросе свидетелей разногласия в показаниях касательно последовательности только что указанных фактов не было; ввиду логически необходимой связи между ними каждый из свидетелей утверждал, что сперва толпа подступила к зданию земской управы и затем стала бросать в нее камнями; но в числе фактов, происшедших во время нападения, судьи интересовались еще одним, а именно — выстрелом, сделанным из окна управы; они допрашивали свидетелей о времени, когда выстрел произошел, — до бросания или после бросания камней. Последовательность, в какой эти факты случились, далеко не представляла такой строгой необходимости, какую легко было заметить в предшествующем случае; выстрел мог произойти и до бросания камней, и после бросания камней и нельзя было a priori, без ясного и точного воспоминания о случившемся утверждать, что именно случилось раньше, а что позже; вместе с тем утверждение той, а не иной последовательности этих фактов связывалось и с разным толкованием их значения: отвечая на выстрел бросанием камней, толпа оказывалась менее виновной, чем в противном случае. В самом деле, рассказывая о том, что произошло, свидетели впали в разногласие; одни показывали, что выстрел был сделан до бросания камней, другие — что он наступил после бросания камней; такие разноречивые показания, очевидно, получали разное значение и для суждения о степени виновности тех, которые были замешаны в дело. В результате расследования оказалось, однако, что истина лежала посередине: толпа бросала камни и до выстрела, и после выстрела.
Впрочем, при изучении заблуждений памяти и воспоминания следует иметь в виду и те ошибки, которые обнаруживаются под влиянием продуктивного воображения: оно порождает не столько пропуски в том, что дано в действительности, сколько прибавки и способствует ее извращению. Действительно, воображение может односторонне влиять на содержание воспоминания или искажать его точность, открывая широкий простор игре ассоциаций. Свидетель часто запоминает лишь то, что поразило его воображение; вместе с тем он испытывает естественную склонность при помощи воображения заполнить пробелы, образовавшиеся в его представлении о факте, и интерполирует данные своего чувственного восприятия продуктами собственной фантазии, которые он не различает, однако, от действительности, или искажает ее[53].
В самом деле, по мере того как воспоминание о событии слабеет, свидетель под влиянием фантазии часто вносит в свое описание придуманные им дополнения, прикрасы, подробности и т. п. Такое обстоятельство чаще всего обнаруживается в том случае, если воспоминание не содержит точных указаний на конкретный факт во всей его полноте; утрачивая многое из испытанного, сам вспоминающий заполняет пробелы в схематическом и обезличенном образе конкретным содержанием, разумеется, придуманным им самим. На картинке с изображением переселяющегося живописца, которая служила для многих опытов над свидетельскими показаниями, например, изображены дроги, на них диван, а на диване «жена живописца», переезжающая со всем своим домашним скарбом. Один из опрошенных свидетелей, очевидно, помнил, что «она сидит на чем-то», но забыл на чем именно; желая восполнить образовавшийся, таким образом, пробел, он в своем показании заявил, что «жена живописца» сидит на «ящике» и т. п. Вместе с тем свидетель принимает иногда одни изображения за другие: летающий мяч — за солнце, кошку — за таксу или даже за голубя, а также увеличивает число воспринятых объектов или сливает их; описывая, например, вышеназванную картинку, он говорит о двух лошадях вместо одной или представляет себе, положим, метлу, на которую надета корзина и насажен горшок, вместо метлы с корзиной и палки с горшком.
Историк, разумеется, не может пренебрегать ошибками подобного рода: он постоянно должен иметь в виду те из них, которые возникают под влиянием воображения. Современный ученый, посетивший город Аделаиду, например, в следующих выражениях описывает его: «Я видел у моих ног на равнине, прорезаемой рекой, город в 150 000 жителей, из которых ни один никогда не будет испытывать ни малейшего опасения относительно того, будет ли он есть три раза в день». В действительности, однако, оказывается, что город Аделаида построен на возвышенности, что нет реки, которая протекала бы сквозь город; что численность его населения в те времена едва ли превосходила 75 000 и что значительная его часть тогда именно была накануне голода[54].
В некоторых случаях свидетель придает своему показанию особого рода субъективную окраску: он воображает себе, что он принимал более или менее деятельное участие в совершении факта, а не только наблюдал его. В особенно резкой форме такая подстановка обнаруживается у детей; один из исследователей в области экспериментальной детской психологии сообщает, например, сведения о четырехлетней девочке, которая без всякой критики смешивала воспоминание с фантазией и с большою уверенностью приписывала себе все переживания своего старшего шестилетнего брата. Аналогичное явление нетрудно наблюдать и относительно тех, которые преувеличивают свое значение насчет других; нечто подобное можно заметить и в показаниях исторических деятелей, например Гвичиардини или Наполеона I, вызванных, впрочем, и другими мотивами, благодаря которым их записи и получили ложный характер[55].
В связи с только что перечисленными «ошибками памяти» или воспоминаниями, возникающими под влиянием воображения, можно указать и на такие, которые проистекают от инстинктивного стремления разума дополнить или объяснить данные опыта. В таких случаях свидетель выдает свое толкование факта за испытанный им действительно бывший факт. Свидетель видит, например, человека, сидящего за столом, но не то, на чем он сидит; и тем не менее в показании своем говорит, что он видел человека, сидящего за столом на стуле; свидетель наблюдает, положим, трех людей, собравшихся вокруг стола и приступающих к обеду, причем один из них в вышеуказанном положении, другой сидит на скамье, а третий собирается занять стул, который стоит спереди у стола; но в своем показании о виденном говорит, что соответственно числу обедающих при столе было три стула. Свидетель замечает собаку и оглядывающуюся даму и превращает эти два ничем не связанных в действительности образа в яркую сцену нападения собаки на даму и т. п.[56]
Благодаря таким условиям свидетель, сам того не замечая, легко переходит от простого констатирования испытанного им к его объяснению или оценке, что, разумеется, может повести и к дальнейшим ошибкам в его показании. Он смешивает иногда объяснение факта с его описанием; или обобщает частный случай, не имея на то достаточных оснований, и таким образом, упускает из виду его индивидуальное значение; или сообщает иногда то, что должно быть, или то, что обыкновенно делается, а не то, что было в действительности; или подставляя свою одушевленность под данные положения и действия, вместе с тем подвергает их соответствующей оценке и т. п. В последнем случае свидетель нередко обнаруживает инстинктивное стремление объяснить и оценить факт, о котором он показывает; в описании, положим, иллюстрации к известной басне о крестьянине-земледельце и его детях он рассказывает и о чувствах, волновавших их, импульсивно относится к ним с оттенком одобрения или порицания и т. п.[57] Само собою разумеется, что случаи подобного рода подстановок встречаются и в исторических источниках, например в записках иностранцев; маркиз Кюстин во время путешествия своего по России, присутствуя при совершении обряда бракосочетания, видел, как в то же время птица влетела в церковь, и обобщив случайный факт, вывел из него то заключение, что в России существует «трогательный обычай» выпускать птиц во время совершения этого обряда.
Впрочем, припоминаемое часто ассоциируется и с тем, а не иным субъективным чувством, которое заслоняет собою описание или объяснение факта, и приводит к более или менее субъективной его оценке. Такие настроения заметны даже в простейших показаниях: те, которые не без ударения говорят, например, о выстроенной в их округе церкви, что она «большая» или «малая», или рассказывая о пожаре, называют его «ужасным» и т. п., уже привносят в свое показание субъективную оценку факта[58]; пострадавшие от какого-либо несчастного случая часто сводят свои показания о нем к «описанию борьбы личного чувства самосохранения с внезапно надвинувшейся опасностью», забывая упомянуть о многом, чего «несомненно, нельзя было не видеть или не слышать»; потерпевшие от преступления, в особенности те, которые и пострадали от него, «вполне добросовестно склонны преувеличивать обстоятельства или действия, в которых выразилось нарушение их имущественных или личных прав», и значит, часто дают ошибочные показания; самая мысль о том, что могло бы произойти, уже влияет на наиболее впечатлительных из них и на качество сообщаемых ими сведений. Показания пострадавших о народных бедствиях, вроде, например, того извержения Этны, которое описано в Энеиде, или о кровопролитных сражениях, закончившихся, подобно известному сражению при Маренго 14 июля (н. с.) 1800 г., паническим бегством пораженных, часто отличаются таким именно характером.
При изучении генезиса неверных показаний нельзя не принимать во внимание и свойств того объекта, о котором что-либо показывается; невольные ошибки чаще возникают применительно к тем, а не иным даже привычным объектам или фактам. Показания относительно некоторых предметов чувственного восприятия далеко не всегда надежны; выше мне уже приходилось указывать на то, что показания, касающиеся, например, чисел и в особенности красок, заслуживают мало доверия; хотя они преимущественно основаны на данных чувственного восприятия, многие из них, в том числе и показания о признаках данной личности, тем не менее чаще показаний о других объектах страдают ошибками. Само собою разумеется, что показания об объектах, в сущ2
ности, построенных на основании принципа признания чужой одушевленности, а не одних только чувственных восприятий, еще чаще оказываются неверными, особенно если они касаются чужих настроений, внутренних побуждений тех, а не иных действий, и т. п.; представляя себе настроение того лица, о котором он показывает, свидетель в сущности дает показание соответственно своему представлению о его одушевленности; он часто невольно вносит в свое показание о субъекте предполагаемый его тон, замалчивает или подчеркивает отдельные его выражения и, таким образом, уже несколько искажает действительность, а иногда подвергает ее и дальнейшим превращениям. В своих мемуарах впечатлительный С.-Симон, например, очень живо представлял себе тех людей, о которых он писал, но нередко в том именно, что его трогало и интересовало; отдаваясь своему влечению ярко изображать воспринятое, он впадал иногда в преувеличения, придавал слишком много рельефа и красок тому, что он описывал; наоборот, упускал из виду многое, что его слишком мало интересовало; представлял иногда некоторые факты в ложном освещении, в особенности факты позднейшего времени, века Вольтера и т. п.[59]
В связи с только что указанными соображениями не мешает принимать во внимание и то, дает свидетель показания о повторяющемся или о единичном факте. В обыденной жизни немало предметов и фактов, которые повторяются и которые, казалось бы, можно подвергать целому ряду наблюдений. В таких случаях, однако, повторяемость объекта далеко не всегда соответственно повышает ценность показания. Человек, часто воспринимавший данный объект, перестает живо интересоваться им, и если он показывает о нем после того, как внимание его к данному объекту уже притупилось, он легко отдается склонности показывать о нем по памяти, даже если наблюдает его в действительности, и может допустить много пробелов или впасть в целый ряд ошибок[60]. С такой точки зрения, и показания источников о нравах, обычаях страны и т. п. могут вызывать некоторые сомнения. Показания о единичных фактах часто еще менее надежны. Всякому известно по собственному опыту, что при некоторых условиях труднее описать конкретный факт, чем высказать о нем несколько общих замечаний; что запоминание имени собственного требует больших усилий памяти, чем запоминание общего, часто употребляемого термина, и т. п. Такие затруднения, разумеется, возрастают при наблюдении над единичными скоропреходящими фактами: оно требует особой напряженности внимания, притом необычайные факты далеко не всегда хорошо запоминаются в подробностях, так как представления о них труднее ассоциировать с обычными представлениями; описание фактов подобного рода, а тем более целого ряда быстро сменяющихся событий обыкновенно страдает неточностями, в особенности если такие события имеют исторический характер. В своих «мыслях и воспоминаниях», например, Бисмарк не всегда точно воспроизводит даже те факты, быструю смену которых он сам пережил в сравнительно недавнее время[61]. Показания об исключительных и внезапных фактах, выходящих из ряда обыкновенных, могут страдать ошибками и потому, что они слишком «трогают» свидетелей. Под влиянием, например, чувства ужаса или отвращения, заполнившего их души, присутствующие испытывают некоторую связанность внимания и не всегда удовлетворительно излагают то, что было в действительности. Нечто подобное заметно хотя бы в рассказах очевидцев об известном убийстве купеческого сына Верещагина, происшедшего в Москве в день вступления французов в 1812 г.; «последующий ужас притупил их внимание к предшествующему». Дмитриев, Обрезков, Бестужев-Рюмин и другие различно рассказывают о том, как Ростопчин приказал «рубить» Верещагина, хотя согласно повествуют о последовавшей затем сцене расправы толпы с указанным ей «изменником»[62].
Нельзя не заметить, что эти источники невольных ошибок осложняются еще другими, связанными со способами выражения показаний. Пробуя выразить то, что он испытал, свидетель часто затрудняется точно и ясно описать даже сравнительно простой объект своего восприятия и, пользуясь жестами, словами или письменными знаками, имеющими более или менее общее значение для изображения его индивидуальных особенностей, нередко впадает в ошибки; свидетель, кроме того, далеко не всегда вполне владеет речью, заменяет одно слово другим, противоположным ему по смыслу, не всегда умеет высказать то, что он испытал, слишком мало обладает искусством выражать свои мысли; не совсем удачным подбором слов и оборотов речи, метафор и т. п. вызывает в слушателе или читателе ложные впечатления; допускает обмолвки или описки и т. п. Такие ошибки еще более осложняют критику показаний, примеры чего были уже приведены выше при изложении критики поправок исторических текстов. Легко дополнить их ссылками и на другие случаи, возникающие хотя бы при обмолвках или описках, между которыми немало общего. Показывающий может, например, под влиянием предшествующего звукового представления исказить последующее и сообщает, положим: «это было на 7 год (правления) императора Фоки, в 607 году», вместо того чтобы сказать: «в бод году»; или он смешивает данное словесное представление с другими, ассоциированными с ним, и, желая, положим, выразить, что чешская королевская корона была перенесена в Чехию, заявляет: «sie wurde nach Bro… Bohmen gefiihrt», т. e. вероятно, смешивает три словесных представления: «Bohmen», «Prag» и «Krone» и, таким образом, собираясь начать с «Boh…», ошибочно сочетает звук «В» с звуком «г» (из «Prag») и с звуком «о» (из «Krone»), что и ведет к ошибочному «Вго…» вместо «Boh…», и т. п.[63]
При изучении образованья импульсивно-неверных показаний нельзя не принять во внимание еще одного момента: повторение их иногда обусловливает и более заметное действие вышеуказанных факторов их образования.
В случае повторения показания можно наблюдать, например, явления, связанные с извращением его содержания под влиянием воображения: повторяющий показание обнаруживает склонность к его упрощению или в особенности к его преувеличению. В последовательных своих показаниях о вышеназванной картинке с изображением переселяющегося живописца один и тот же свидетель сообщает, что живописец «идет» (перед дрогами), что он «идет большими шагами» и что он «идет спешными шагами»; в других случаях свидетель при повторении показания удваивает один и тот же предмет или уснащает свой рассказ новыми, придуманными им подробностями; в вышеприведенном примере свидетель, повторяя свое показание о той же картинке, говорит уже не о «воротах», а об «узких воротах», и т. п. При повторении своего показания свидетель часто уклоняется, однако, от вторичного воспроизведения того, что он испытал, и в сущности, ограничивается повторением уже ранее сказанного: припоминая не то, что он испытал при восприятии факта, а то, что он сказал, он даже смешивает его со своим истолкованием. С некоторым трудом вспоминая, например, слова, сказанные или написанные им самим, субъект легко может придать им иное значение; один из новейших исследователей сообщает, например, что свидетель, повторяя свое показание о виденной им картинке с изображением переезжающего на другую квартиру живописца, понял собственное свое выражение, что последний выезжает («zum Thore hinaus») — не в фигуральном, а в буквальном смысле: он заявил, что живописец «проезжает сквозь узкие ворота». Случаи подобного рода могут встречаться и в области исторических показаний; Кларендон, например, показывает о некоторых фактах и в своей истории английской революции, и в автобиографии; но последняя написана лет двадцать спустя после составления истории и вообще гораздо менее достоверна: рассказ хотя бы о парламенте 1640 г., сравнительно краткий в «истории», значительно длиннее в автобиографии и полон ошибок[64].
Само собою разумеется, что можно было бы значительно расширить обозрение факторов, влияющих на образование импульсивных показаний, если иметь в виду, что они действуют различно в зависимости от антропологического типа, темперамента и характера лица, которое дает показание, его возраста, пола, социального положения и т. п. Исследователь не может упускать из виду, например, что судя по некоторым опытам, впрочем, едва ли достаточным, женщины, пожалуй, «менее забывают, но больше искажают», чем мужчины; или что они более мужчин преувеличивают промежуток времени, которое кажется им длиннее действительно протекшего, и т. п.; с такой точки зрения, он не без некоторых предосторожностей относится, положим, к мемуарам г-жи Ролан и т. п.[65]
Итак, свидетельское показание, данное более или менее импульсивно, может оказаться верным или неверным. В обоих случаях воля свидетеля не имеет, однако, решающего значения для образования самого показания: он высказывает иногда ту правду, которую ему хотелось бы скрыть; и наоборот: он ошибается в том, что ему хотелось бы выразить безошибочно; он делает такие ошибки помимо того, хочет он сказать правду или неправду: и в том, и в другом случае, например, он может впасть в одну из вышеуказанных погрешностей.
Волевое показание свидетеля также возникает, конечно, под влиянием вышеуказанных факторов; но оно характеризуется, главным образом, тесной его зависимостью именно от того, хочет свидетель сказать правду или хочет сказать неправду. В обоих случаях историк исходит, разумеется, из данного показания: рассуждая о том, хотел свидетель сказать правду или не хотел, он, согласно с вышеуказанными принципами, не отождествляет такого суждения с суждением о том, хотел свидетель дать показание или не хотел, и принимает, что свидетель свободно дал показание, но намеревался сказать в нем правду или неправду; с такой же точки зрения, историк, очевидно, не может исходить из предположения, что свидетель воздержался от показания, но может обсуждать, между прочим, и значение отрицательного показания свидетеля, заявляющего, что он не может сказать правду, что он ничего не знает о данном факте, противопоставляет его неправдивому показанию о том же факте и т. п.
Итак, принимая во внимание вышеприведенные соображения о том, что свидетель может знать истину или может не знать истины, легко получить четыре разновидности волевых показаний, имеющих разное познавательное значение:
свидетель хочет сказать правду, зная истину; или он хочет сказать правду, не зная истины; или он хочет сказать неправду, зная истину; или он хочет сказать неправду, не зная истины[66].
Следовательно, принимая во внимание одни только свободно данные показания и различное их значение в зависимости от знаний и воли свидетеля, можно предложить и соответствующую их группировку. Если свидетель хочет сказать правду, зная истину, показание его правдиво. Если свидетель хочет сказать правду и, не зная истины, впадает в ошибки, показание его ошибочно. Если свидетель хочет сказать неправду, зная истину, т. е. в сущности не хочет сказать правду, показание его ложно. Если, наконец, свидетель хочет сказать неправду, не зная истины в вышеуказанном смысле, т. е. оказывается в сущности мнимым «свидетелем» и, например, выдает придуманный им «факт» за действительно происшедший, показание его лживо.
Во всех этих случаях «истина» понимается так же, как и в предшествующих, т. е. в объективном ее значении; если же придавать ей субъективный смысл, т. е. принимать во внимание «уверенность» самого свидетеля в том, что он знает истину, хотя бы он не знал ее, или что он не знает истины, хотя бы он знал ее, то можно свести такие случаи на разобранные выше импульсивные показания. Если, например, свидетель, не желающий сказать правду, говорит правду, которой сам он, однако, в качестве таковой «не знает», по крайней мере в момент показания, его показание можно, кажется, сблизить с инстинктивноверным показанием; и наоборот: если свидетель воображает, что он «знает» истину, хотя бы он не знал ее, естественно ставить в связь его показание со случайно ошибочным неверным показанием. Следовательно, в дальнейшем рассмотрении генезиса волевых показаний достаточно иметь в виду понятия знания или незнания истины в объективном ее значении, указанном выше[67].
В зависимости от предлагаемой группировки волевых показаний историк при изучении их генезиса пытается с генетической точки зрения объяснить правдивость или неправдивость каждого из них; в большинстве случаев он, однако, имеет в виду не столько генезис правдивого, сколько генезис неправдивого, т. е. ошибочного, ложного или лживого показания.
Впрочем, теоретическое различение вышеуказанных разновидностей показаний далеко не покрывает всех их оттенков: одно и то же показание может обнаружить различные свойства и в таком случае причисляется к той, а не другой разновидности лишь по преобладанию одного из них, или признается смешанным и т. п. Тем не менее при изучении генезиса волевых показаний можно различать правдивые показания от неправдивых, т. е. ошибочных, ложных и лживых, и остановиться на рассмотрении приемов исследования генезиса каждой из этих разновидностей в отдельности.
Вообще для того чтобы выяснить генезис правдивого показания, нужно принять во внимание, хотел ли свидетель, знающий истину, сказать правду.
В том случае, если свидетель хочет сказать правду, его показание может возникнуть в зависимости от довольно разнообразных мотивов. Главнейшие из них нельзя не отметить хотя бы в самых общих чертах, так как они влияют на волевое решение свидетеля и соответственно отражаются на общем состоянии его сознания, на его интересе к объекту, на направлении и степени его внимания, памяти и т. п.
В числе мотивов, вызывающих правдивые показания, можно, конечно, прежде всего упомянуть о тех, которые имеют нормативный характер. Свидетель, сознающий ценность истины, добра и красоты, стремится сказать правду или потому, что испытывает к ней чисто теоретический интерес; или потому, что считает себя нравственно обязанным сказать правду; или потому, что ценит правдивость рассказа в качестве условия, нужного для того, чтобы придать ему красоту. В своей истории Фукидид, например, стремился к «отысканию истины», чувствовал на себе нравственную ответственность за произведение, которое он желал сделать «достоянием на веки», а не временной забавой для слушателей, и в сущности, желал достигнуть художественной правды изображения прошлого[68].
Впрочем, и утилитарные соображения также могут вызывать правдивые показания. Автор, пишущий о событиях, близких к нему по месту и времени своего происхождения, иногда не без влияния таких соображений обращается с ними менее произвольно, чем с событиями, более отдаленными от него по месту и времени. Тацит, например, старается по возможности получить больше сведений об изображаемых им фактах и чаще приводит доказательства в пользу их реконструкции, чем его предшественники; такая обстоятельность, вероятно, объясняется тем, что Тацит писал о людях, сыновья и внуки которых были еще живы, и о событиях, которые еще составляли предмет споров для его современников[69]. Свидетель, которому выгодно дать правдивое показание, конечно, по возможности стремится сказать правду; с такой точки зрения, например, показания, цель которых и состоит в том, чтобы сделать какой-либо факт общеизвестным, положим, официальные сообщения об объявлении войны или о заключении мира, представляют значительную степень правдивости. Личная выгода также может, конечно, порождать правдивые показания. Талейран, например, правдиво рассказывает о той роли, какую он играл на Венском конгрессе, так как благодаря ей он мог представить себя в самом выгодном свете перед королем и роялистами, для которых он писал свои мемуары. В некоторых случаях свидетель, даже склонный ко лжи, дает, однако, правдивое показание потому, что ему невыгодно дать неправдивое показание о «громком» факте, всем известном; например, если он опасается изобличения во лжи, что, впрочем, далеко не всегда достаточно для того, чтобы удержать его от тенденциозного его изображения и примеры чего легко заметить хотя бы в тех же мемуарах Талейрана[70].
Впрочем, правдивое показание даже при знании «истины» редко отличается большим богатством содержания; трудно охватить в своем показании все то, что дано в действительности, и чем точнее становится наблюдение, тем уже оказывается поле наблюдения; сознательно скудное показание может быть гораздо более правдивым, чем показание, изобилующее, казалось бы, самыми точными подробностями. Следовательно, правдивое и точное показание обыкновенно содержит лишь фрагментарные данные о его объекте; даже в том случае, если оно правдиво, оно все же бывает в известной мере односторонним, но еще чаще показание бывает не безусловно правдивым.
Правдивость показания, значит, имеет свои степени: свидетель не о всем объекте показывает одинаково правдиво.
Такие колебания вообще зависят от того, что в данном объекте считается более или менее «важным»: экспериментальные исследования обнаружили, что свидетель обыкновенно дает более доброкачественные показания о «важнейших» частях предъявленной ему картины, чем о второстепенных ее элементах, и т. п. Судя по наблюдениям над современными детьми школьного возраста, человек больше интересуется «бытием или небытием», чем свойствами или отношениями и т. п.; он обнаруживает гораздо больше интереса к людям и их действиям, чем к вещам, их признакам и соотношениям и т. п.[71] Свидетель может также придавать разное значение моментам данного факта и преимущественно сосредоточивать свое внимание, например, или на процессе его возникновения, или на конечном его результате: он подробно излагает все в порядке последовательной постепенности или, наоборот, спешит скорее передать «развязку».[72]
Степень правдивости показания находится в зависимости и от многих других, более конкретных условий: состояние свидетеля и свойства того объекта, о котором он показывает, влияют на правдивость его показания.
В самом деле, смотря по свойствам и характеру свидетелей, показания их об одном и том же объекте могут быть весьма различны. Свидетель, обладающий трезвым умом, знанием и умением точно наблюдать и описывать факт, может дать более правдивое показание, чем человек, наделенный сильным воображением или легко поддающийся эмоциональной реакции; астроном, наблюдающий затмение солнца с высоты своей обсерватории при помощи усовершенствованных орудий наблюдения, конечно, дает гораздо более точное показание о нем, чем простой свидетель, повествующий о том же факте; известный стратег сообщает такие сведения о ходе военных действий, каких не может сообщить человек, не располагающий его средствами, и т. п. Следует иметь в виду, однако, что и свидетель, способный ярко вообразить себе или подметить состояние духа или положение, в каком находился тот, о ком он рассказывает, симпатизирующий или даже враждебный ему, может иногда лучше подметить его побуждения и ярче представить его действия; он, значит, может дать более жизненное показание и об историческом факте, в некоторых отношениях отличающееся большею правдивостью[73].
Впрочем, степень правдивости показания зависит, конечно, и от объективных условий, т. е. от того, каков именно объект показания, в какой мере он доступен чувственному восприятию и т. п. Легче регистрировать рождение или смерть человека, чем изобразить его характер и деятельность; проще констатировать вступление на престол какого-либо правителя или его падение, чем описать государственный переворот, вызвавший его; менее затруднительно рассказать о единоборстве двух героев или рыцарей, чем представить столкновение целых масс, совокупность и комбинацию тех духовных и материальных сил, которые участвовали в сражении, разнообразные их передвижения и т. п. Само собою разумеется, что чем сложнее объект, тем он труднее поддается научному наблюдению: чрезвычайно сложные явления социальной жизни, например, борьба общественных классов или политических партий, в сущности, требует изощренных методов психологического и социологического исследования для того, чтобы надлежащим образом показывать о них.
Степень правдивости показания зависит, конечно, и от многих других свойств субъекта и объекта, но на рассмотрение их было бы слишком долго останавливаться. Достаточно заметить здесь, что историк постоянно стремится выяснить, какие из свидетельских показаний он может признать правдивыми в том смысле, что они высказаны при знании истины: он ценит, например, те показания Геродота, в которых отец истории сознательно заявляет о том, что он сам видел, в отличие от того, что он только слышал; или показания Фукидида, который был сам стратегом и обнаружил свои знания при описании пережитых им битв; или показания Комминя, хорошо знакомого с дипломатическими интригами того времени об итальянских делах; или показания знаменитого полководца Тюрення о тех многочисленных войнах, в которых он участвовал, и т. п. В других случаях историк обращает внимание и на объекты свидетельских показаний: он различно ценит, положим, показания Флодоарда, просто записывавшего изо дня в день точные сведения о Франции, Лотарингии, Германии и папстве; и показания хотя бы Оттона Фрейзингенского о борьбе между папством и императорскою властью, которую он изображает в своем «tiber de duabus civitatibus».
Волевые показания могут быть даны, однако, и при менее благоприятных условиях: свидетель хочет сказать правду, но может и не знать истины. При изучении таких показаний следует различать два рода случаев: если свидетель хочет сказать правду о факте, относительно которого он ничего не знает, ему, очевидно, приходится воздержаться от показания или заявить самый факт своего незнания; но он может оказаться и в другом положении: желая сказать правду, он может не обладать достаточным знанием истины, в последнем случае показание его может оказаться ошибочным. Если он действительно хочет сказать правду, например, о факте, который он плохо знает, и не в состоянии ясно различить то, что он знает, от того, чего он не знает, он часто впадает в невольные заблуждения и в своем показании[74]. Свидетель, поверхностно воспринявший какой-либо факт, в особенности мелкий, ничем его не поразивший, и тем не менее показывающий о нем, легко заблуждается. Свидетель, оказавшийся в сравнительно невыгодном положении относительно наблюдаемого факта, также может ошибиться, например, тот, кто не имел возможности надлежащим образом наблюдать факт, происходивший, положим, в тайном заседании какого-либо верховного совета, или тот, кто не располагал достаточно совершенными средствами наблюдения. Свидетель, слишком «заинтересованный» в исходе дела, положим, тот, кто сам участвовал в какомлибо споре или сражении, часто вносит свое субъективное настроение в показание и т. п. Каждый из таких свидетелей легко может и при желании сказать правду, дать ошибочные показания, т. е. показания, страдающие теми невольными ошибками, примеры которых уже были указаны выше.
Впрочем, знание истины может затемняться, помимо невольных ошибок, теми предвзятыми идеями, с точки зрения которых слишком недостаточные или довольно случайные данные чувственного восприятия подвергаются истолкованию; последнее влияет на представление о факте, что и ведет к ошибочному показанию о нем.
Во многих случаях религиозные идеи или предрассудки благоприятствуют образованию ошибочных показаний. Суеверные люди, например, ожидающие «знамения», под влиянием такой идеи представляют себе некоторые факты. В старинной книге «о чудесах Божиих в природе при появлении комет» рассказывается о том, как и октября 1527 г. люди видели страшную комету кровавого цвета, на которой они будто бы заметили руку с мечом, готовую поразить врага, а кругом меча много человеческих голов и т. п., причем вслед затем действительно наступило несколько бедствий: турки напали на Европу, а «Бурбон» на Рим, где папе едва удалось удержаться в крепости Святого Ангела и выкупиться за 40 000 дукатов.
Предвзятые идеи более или менее наукообразного свойства также могут ослеплять свидетеля: он охотно описывает факт по общей, заранее готовой схеме и не видит того, что в нем есть, — его индивидуальных особенностей; не всегда достаточно контролируя те ассоциации, которые возникают между ранее известными ему готовыми мыслями и наблюдаемым фактом, или слишком предаваясь ходу собственных своих мыслей и не проверяя их данными своего опыта, он легко может поддаться искушению усмотреть в нем то, чего в нем нет, смешивает субъективное его истолкование с его описанием и т. п.[75] В старину, не позднее середины XIV вв., например, уже говорили о существовании какого-то большого и странного существа, прозванного «monachus marinus». Датский летописец Гвитфельд повествует, что в Эрезунде в 1550 г. нашли такого «монаха» с «человеческой головой» и рыбьим хвостом. В тех же водах в 1853 г. действительно поймали громадную каракатицу, по цвету и по очертаниям напоминавшую монаха в монашеской рясе; прежние наблюдатели, видимо, подвели под готовый образ «монаха» несколько отрывочных признаков каракатицы и назвали ее «monachus marinus»[76]. Подобные же ошибочные показания можно встретить и в «сказаниях» иностранцев: иностранец часто слишком мало или поверхностно знаком с тем, о чем он свидетельствует, не вполне понимает то, о чем он показывает, и т. п. Образованный Герберштейн, уже с молодых лет любивший наблюдать «обыкновения иноземцев», впал, однако, в ошибки при описании русских обычаев и нравов; впрочем, в некоторых случаях он сам различал описание факта от его толкования. Описывая, например, царское угощение, он замечает, что хлебы, имеющие вид хомута, означают, по его мнению («теа opinione»), «жестокое иго и вечное рабство». Но можно указать и на таких путешественников, которые не считают нужным делать оговорки подобного рода; припомним, например, приведенное выше описание обряда бракосочетания, который Кюстин будто бы наблюдал в России[77].
Аналогичные деформации происходят и под влиянием этических идей: свидетель-моралист воспринимает факт не во всех его существенных чертах, а преимущественно в тех, которые производят на него хорошее или дурное впечатление и соответственно показывает о факте, представляя его в более или менее светлом или темном виде. Тацит изображал германцев, вероятно, не без морализирующей точки зрения: он противополагал чистоту их домашних нравов римской распущенности, что, разумеется, не осталось без влияния на его показания. Щербатов также противопоставлял «весьма простую жизнь», которую вели наши предки, позднейшей роскоши и повреждению нравов, породивших упадок «духа благородной гордости и твердости в сердцах знатнорожденных россиян», и с такой точки зрения изображал многие факты из ближайшего ему прошлого и т. п.[78]
Нельзя не заметить также, что свидетель, рассказывающий о факте, часто поддается желанию придать своему рассказу большую эстетическую ценность и стремится, таким образом, произвести большее впечатление на публику, хотя бы он и не испытывал его на самом деле. Тацит соблюдал, например, некоторые из требований ораторского искусства в своих анналах; аббат Сугерий в своей жизни Людовика VI охотно влагает в уста действующих лиц «благородные» слова и в том же духе описывает их позы и действия; Гвиччиардини прибегает в своей истории Италии к «речам», содержание которых далеко не всегда правдиво и т. п.[79]
Само собою разумеется, что кроме подобного рода идей, затемняющих знание фактической истины, можно было бы указать и на другие условия, приводящие к такому же результату: свидетель, переживающий более или менее личное сильное настроение — радость или горе, любовь или вражду и т. п., — также далеко не всегда может знать истину и даже при желании сказать правду дает ошибочные показания. В случаях подобного рода свидетель или рассказчик нередко антиципирует идеи, чувства и намерения, испытанные им в позднейшее время, и переносит их на предшествующее. В своих известных мемуарах г-жа Ролан, например, обнаруживает настроение, сложившееся у нее во время ее тюремного заключения: вообще, обладая энергичным характером, она твердо решила до последнего вздоха геройски выдержать постигшие ее притеснения; перенося такое настроение в свое прошлое, она впала в некоторый самообман: в своих показаниях о прежней своей жизни она изобразила себя гораздо более активною, чем-то видно из ее корреспонденции и было на самом деле[80].
Во многих случаях, однако, сам свидетель хочет сказать неправду, даже если он знает истину, и при таких условиях дает ложное показание; он интересуется скорее своей оценкой факта, чем простым констатированием его, высказывает более или менее субъективное мнение о нем и т. п.[81]; он может, например, поддаться стремлению подвергнуть данные своего восприятия нормативной оценке, но производит ее с лично-субъективной, более или менее тенденциозной точки зрения, или часто дает свое показание под влиянием настроения или аффекта; он нередко воображает, будто бы видит, слышит то именно, что ему хочется видеть, слышать, и включает то, что ему хочется показать в свое показание; он не может не проявить симпатии или антипатии к тому, о чем сообщает, оказывается пристрастным, и т. п.
Таким образом, свидетель часто руководится в своих показаниях и утилитарными соображениями или чисто личным своим интересом, удовлетворение которого далеко не всегда благоприятствует правдивости его показания. Перечислять все в высшей степени разнообразные побуждения подобного рода было бы, конечно, излишне; достаточно лишь заметить, что в зависимости от того, а не иного рода их и показание страдает теми, а не иными недостатками.
Слаборазвитый и малообразованный свидетель, например, легко сносит противоречия и другие погрешности, вкравшиеся в его показание, или примиряется с ними, если только он не чувствует, что личные его интересы затронуты ими.
Апатичный или ленивый свидетель в случае нужды сообщает то, что ему легче всего дается, и охотно признает вероятное за действительное.
Впечатлительный свидетель, поддающийся эмоциональной реакции, припоминает скорее те чувства, которые он испытал от данного факта, чем самый факт, что и придает особого рода субъективную окраску его рассказу, часто довольно бедному по своему фактическому содержанию.
Мечтательный свидетель с сильным воображением дает ему волю и в своем показании: он иногда с такой настойчивостью уверяет других в его истине, что, наконец, освоившись с выказываемым, сам верит в истину того, что он говорит, и с «искренней» уверенностью утверждает то, чего не было, или отрицает то, что было в действительности.
Проказливый свидетель может играть ложью и лгать из-за удовольствия лгать или тешиться над заблуждениями других.
Тщеславный свидетель, желающий играть известную роль, может дать ложное показание даже в ущерб своей собственной выгоде.
Малосамостоятельный свидетель, подверженный разного рода предрассудкам или усвоивший те, а не иные национальные или партийные интересы, разумеется, часто придает своему показанию соответствующую тенденцию, сообразуется с интересами того именно круга лиц, который он всего более ценит, или с вкусами той публики, для которой он пишет, хочет нравиться ей, приноравливается к ее страстям и предрассудкам.
Тенденциозный свидетель, чувствующий личную привязанность или вражду, соответственно искажает свое показание.
Бессовестный свидетель, преследующий свои личные выгоды, охотно льстит или злословит в своем показании и т. п.[82]
Такие извращения обнаруживаются, конечно, в самых разнообразных формах. Нет возможности, однако, пересмотреть здесь все разновидности подобного рода; достаточно привести несколько примеров, иллюстрирующих некоторые из типов ложных показаний, их мотивировку и их содержание.
Вообще тот, кто не хочет сказать правду, зная истину, очевидно, пренебрегает абсолютной ее ценностью и пользуется своим знанием для достижения какой-либо посторонней ей цели. В отличие от Фукидида, например, не упоминающего о некоторых общеизвестных фактах, так как он не считал возможным приписывать им достаточное историческое значение, такой свидетель часто замалчивает то, что он по совершенно другим побуждениям не желал бы, чтобы знали или помнили то, что невыгодно его партии или ему самому, и т. п. В своих мемуарах Талейран, например, обнаруживает большое умение самым беззастенчивым образом эскамотировать факты: ему невыгодно было при Людовике XVIII рассказывать об Учредительном собрании, в котором он принимал деятельное участие, об апологии реформ 1789 г. и 10 августа и т. п., и он не упоминает о них; с такой же точки зрения он изображает многих людей и разные события 1789—1814 гг., представляет их значение в заведомо искаженном виде и т. п.[83]
Во многих случаях, особенно когда сам свидетель принимал участие в показываемом факте, он легко может перенести свою оценку и на собственное свое «Я»: он порицает или одобряет себя и т. п. В своих «Confessiones», например, Августин резко и довольно искусственно противополагает свою духовную жизнь до обращения — своей духовной жизни после обращения в христианство: великий Отец Церкви изображает время «разъединенности» своего «Я», «затерянности» его во «множественном» уже с христианской точки зрения, под влиянием которой он нашел в Боге силу и единство духовного своего существа[84]. Впрочем, свидетель, разумеется, чаще готов извинять, чем обвинять себя; в таких случаях он иногда склонен смешивать то, что он сказал или сделал в действительности, с тем, что он, по его мнению, должен был бы сказать или сделать, и с последней точки зрения, сообщает сведения о долженствовавшем быть под видом бывшего в действительности. В своих мемуарах Наполеон I, например, иногда «возводит свои намерения на степень уже совершенных актов»; в автобиографии Меттерних уверяет, что он «никогда не уклонялся от правил вечной справедливости» и т. п.[85] Показывающий может, конечно, обнаружить аналогичное отношение и к событиям, т. е. обвинять или оправдывать людей за те действия, которые породили их. Под 1237 г., например, наш летописец рассказывает о том, как «проклятии безбожнии татарове» поразили великого князя Юрия Всеволодовича при Сити и убили его, а также Василька Константиновича у Шерньского леса. В своей известной «истории завоевания Константинополя», приведшего к основанию Латинской империи, Виллегардуэн с большим искусством старается оправдать предприятие крестоносцев, проходит молчанием факты, не благоприятствующие его тенденции, и придает правдоподобие истины произведению, которое не без основания называют «настоящим романом».
В других случаях побуждение придать своему рассказу больший драматизм также вредно отзывается на правдивости показаний и о лицах, и о событиях. Классические писатели не чуждались такого приема, даже лучшие из них, например Фукидид или Тацит, который, согласно с вкусами своего времени, придавал иногда своим рассказам слишком драматический характер. Позднейшие мемуаристы поддавались такому же искушению. Рассказывая, например, в своих мемуарах об известной сцене, разыгравшейся на приеме Наполеоном 115 августа 1808 г. дипломатического корпуса, Меттерних драматизирует ее, что видно хотя бы из сравнения позднейшего его описания с его же собственным донесением, составленным по свежей памяти; сдержанный разговор с Меттернихом, в котором Наполеон, по его же словам, возражал, главным образом, лишь против нового набора рекрут в Австрии, превращается в мемуарах в резкую манифестацию Наполеона против Австрии, которая встретила отпор со стороны австрийского посла. На крики Наполеона он будто бы отвечает с иронией, не изменяя тона, и ответ его производит на других впечатление «лекции», данной им Наполеону. Последовавший затем разговор Меттерниха с министром иностранных дел Шампаньи, из которого он выносит впечатление, что Наполеон не имеет в виду объявить войну Австрии, представляется в мемуарах в совсем ином свете. Через несколько часов после сцены, происшедшей на приеме, Шампаньи будто бы отправляется к Меттерниху для того, чтобы от имени императора принести ему своего рода извинение и т. п.[86]
В числе побуждений, вредно отзывающихся на правдивости показаний, можно было бы указать, конечно, и на многие другие, более или менее прикладного характера. В том случае, например, если свидетель или автор имеет в виду какую-либо педагогическую цель, он уже не может давать вполне правдивые показания. Составители автобиографий, даже те, которые, подобно Августину или Руссо, известны своей искренностью, не чужды были стремления поучать читателей и соответственно относились к тем фактам, которые могли служить для такой цели.
Само собою разумеется, что церковные или политические соображения также часто вызывали ложные показания. В своей «Historia Francorum», например, Григорий Турский, верный сын христианской церкви и достойный представитель епископата, с такой именно точки зрения интересуется многими фактами и изображает их. Он расточает похвалы или ругательства варварским князьям, например Хлодвигу и Хильпериху, смотря по тому, уважали они привилегии церкви или пренебрегали ими[87]. Эингарт рассказывает, что Карл Великий (вскоре после нашествия саксов на пограничную Гессенскую область) решил усмирить их путем обращения их в христианскую веру или окончательного их уничтожения; но монах Корвейского монастыря Видукинд в своих саксонских историях (res gestae) ставит те же войны в исключительную зависимость от намерения Карла Великого обратить их в христианскую веру, что, разумеется, придает другую окраску и изображению событий[88]. Парижский буржуа, написавший известный дневник, тайный приверженец бургундской партии и решительный противник арманьяков, явно обнаруживает в нем те чувства симпатии и вражды, которые волновали людей его крута в 1410-х гг. и с такой точки зрения относится к водворению английского владычества, к возвращению Валуа и т. д. Кларендон писал свои записки об английской революции не без желания оправдать Карла I, хотя и критиковал промахи его политики, а потому изображает его отношения к парламенту в ложном свете. В тех бюллетенях, которые Наполеон I представлял нации о действиях французских войск, он часто преувеличивает свои успехи и скрывает свои неудачи, считая такое уклонение от правды одним из лучших средств действовать на общественное мнение; знаменитый 30-й бюллетень великой армии, например, повествует о некоторых ее подвигах под Аустерлицем, где будто бы до 20 000 неприятелей погибло в водах Меницкого и Затчанского прудов; многие бюллетени из России, даже 28-й, посланный уже из Смоленска 30 октября (по ст. с.), представляет, между прочим, сражения при Вязьме и Полоцке над видом блестящих побед, отступление С.-Сира — под видом движения навстречу Виктору, и т. п.[89]
В зависимости от личных побуждений, наконец, показания также нередко получают ложный характер. Исторические деятели склонны, например, из-за славолюбия или тщеславия преувеличивать свое значение и внушать, что они стояли во главе событий. В своей истории Италии Гвиччиардини изображает себя главным действующим лицом при защите Реджио, Пармы и Модены, а также во время флорентийского восстания 1527 г., что в настоящее время отвергается критикой. В своих записках Меттерних охотно, хотя и не всегда основательно приписывает себе главную роль в целом ряде случаев. Он утверждает, например, что брак Наполеона I с Марией Луизой совершился благодаря его искусству и должен быть причислен к его заслугам; он совершенно напрасно придает большое значение известной сцене, происшедшей 15 августа 1808 г. на приеме у Наполеона I, во время которого сам Меттерних будто бы играл главнейшую роль, и т. п. Показывающий иногда хочет оправдать себя и обвинить противников. Гинкмар, глава галликанской церкви и аристократической партии, составляя продолжение королевских анналов IX в., стремился защитить собственную свою политику и осудить своих противников. В своих записках Талейран охотно следовал примеру реймского архиепископа. В мемуарах, которые Наполеон I диктовал своим генералам на острове Святой Елены, он пытался, не щадя ни врагов, ни даже друзей, оправдать свое личное поведение и свою политику. Г-жа де Сталь из вражды к Наполеону старалась превозносить всех его противников; и наоборот: Биньоне, преклонявшийся перед Наполеоном, отрицательно относился к ним. Личная выгода также подсказывает самые разнообразные формы ложных показаний. В своих мемуарах Талейран, например, хотел оправдать себя перед Людовиком XVIII и партией роялистов, выставить себя как самого ловкого и самого полезного из слуг монархии и убедить в том и самого короля, и его приверженцев. С такой точки зрения, Талейран и дает тенденциозное изображение эпохи революции и империи, в течение которых он будто бы все свое искусство направлял лишь к тому, чтобы давать советы, которым, однако, не следовали, и исправлять ошибки, которых он не делал. Ввиду того круга читателей, для которых он пишет, Талейран стремится придать людям и событиям то значение, какое ему желательно: он устраняет то, что ему хочется, чтобы забыли, и подчеркивает то, что ему хочется, чтобы помнили; без зазрения совести замалчивает то, что он желал бы искоренить из памяти, и нагло утверждает то, к чему он желал бы внушить доверие; он низводит великих деятелей на уровень салонных актеров и принижает значение великих событий; он льстит людской злобе своим злословием, любопытству — своими анекдотами, тщеславию — своими осуждениями. Талейран выставляет также свой талант рассказчика, свое умение соблюдать оттенки, «ловко дает понять, что в его лице говорит глубокий политик и из-за будуарной обстановки открывает широкие политические горизонты». Такие свойства Талейран обнаруживает, например, в своих рассказах о Шуазеле или об эпизоде в Эрфурте[90].
При ближайшем рассмотрении ложных показаний легко заметить, что не все они имеют одинаковое значение; в таких случаях свидетель, желающий сказать неправду, или изменяет истину, т. е. убавляет из того или прибавляет к тому, что он испытал, или подменяет истину, которую он знает, ложными сведениями[91].
В ложном показании, изменяющем истину, можно усмотреть некоторую долю ее; но нелегко выделить ее из того, что свидетель намеренно убавил или прибавил, ослабил или усилил в своем показании. Один из средневековых писателей, например, уже различал рассказ «in quo certum est non deesse delictum» от рассказа, в котором «adulationis studio rerum gestarum articulis involvunt impudenter mendacia»[92]. Такие изменения легче подметить в целом комплексе показаний, например в житиях святых или героев, авторы которых (полагая, что они сами выступают в роли свидетелей) часто замалчивают то, что может повредить славе изображаемых ими лиц, и наоборот, преувеличивают то, что может содействовать ей. Впрочем, указанные виды изменений встречаются и порознь в разных источниках. Можно, например, преднамеренно допускать пробелы в изображении фактов и, следовательно, «скрывать» истину. Такие пробелы часто встречаются в официальных рассказах, бюллетенях, депешах и сборниках вроде «синих» и других книг; между тем при таких условиях самый подбор фактов уже проводится с тенденциозной точки зрения; относительное значение их, т. е. соотношение их, представляется в произвольно измененном виде; это мешает правильной их оценке, она становится односторонней[93]. Можно также преднамеренно прибавлять кое-что в изображении фактов. Такие прибавления, разумеется, гораздо более пробелов сообщают показанию или целой их совокупности характер ложного источника, а при значительности их дают основание сближать его и с лживым источником. После переправы через Березину и по прибытии в Варшаву Наполеон говорил, например, в известном разговоре с прибывшими к нему польскими министрами и де Прадтом, что у него осталось 120 000 солдат, что он постоянно разбивал русских и т. п.[94]
В ложном показании, подменяющем истину, трудно, однако, разыскать ее элементы: свидетель, знающий истину, намеренно выдает в нем свою фантазию за действительно бывший факт. Следовательно, такое ложное показание уже близко подходит по своему содержанию к тому лживому показанию, которое дается не знающим истину; но оно все же отличается от последнего тем, что свидетель — не мнимый и что он в качестве знающего истину может воспользоваться и обыкновенно пользуется некоторыми из ее элементов, включив их в свое ложное показание, или случайно проявляет знание их, что и может придавать его показанию кое-какое положительно-познавательное значение.
Впрочем, при изучении ложных показаний, в которых истина подменивается, можно различать такие, в которых свидетель ограничивается простым отрицанием истины, от таких, в которых он выдает свою фантазию за истину. В известном показании апостола Петра, который «отрекся с клятвою», что он «не знает» Иисуса Галилеянина, можно признать простое отрицание истины[95]. В других показаниях, напротив, легко усмотреть гораздо более сложный акт сознательной подмены истины. Дипломатия старого времени, например, прибегала к такого рода приемам. Правительства XVI в. снабжали своих посланников двоякого рода инструкциями: предназначенными для собственного своего употребления и составленными для предъявления иностранной державе; сами дипломаты иногда оказывались на содержании иноземных правительств и, значит, сообразовывались с их интересами при составлении своих донесений или нарочно извращали их, в тех случаях когда знали, что их бумаги попадут в чужие руки, и т. п. В своих депешах графу Сольмсу Фридрих II имел в виду, например, не столько своего посланника, сколько русское правительство, по поручению которого они подвергались перлюстрации. В военное время такие сообщения, разумеется, часто оказываются обманчивыми. В 1812 г., например, Кутузов нарочно подсылал к французам курьеров с донесением к государю «о бедственном положении армии, об упадке духа войск и общем желании мира, составляющего будто бы единственное средство к спасению империи». В одном из своих писем от 26 мая (по н. с.) из Дрездена Наполеон писал брату своему Иерониму: «Распустите слух, что вы намерены присоединиться с 100 000-м войском к австрийцам, хотя на самом деле движение ваше будет обратным, о чем я сообщаю только вам и желаю, чтобы вы сохраняли это в строжайшей тайне, ничего не передавая об этом даже начальнику военного штаба» и т. п.[96]
В последнем случае легко обнаружить и ту зависимость, в какой ложное показание все же может находиться от знания истины; в вышеприведенном письме Наполеон давал и велел распространять показание, в котором он хотел сказать неправду, зная истину; он высказал в нем как раз обратное тому, что сам он считал истинным; он требовал, чтобы брат его распространял слух, что его войска двигаются в направлении, противоположном тому, в каком они должны были двигаться.
Впрочем, ложные показания получают иногда и более злонамеренный характер, благодаря которому их легко сблизить с клеветою. В своих мемуарах Барер уверяет, что Робеспьер предложил предать Марию Антуанетту суду, но Бонапарт категорически заявляет, что Робеспьер противился преданию ее суду, а «Монитер» подробно описывает, как 1 августа 1793 г. один оратор, депутат комитета общественного спасения, обратился к конвенту с речью, в которой он требовал суда над «австрийскою женщиной». Между тем сам Барер был этим депутатом; он, конечно, не мог забыть о своей инициативе в одном из первых и притом самых громких кровавых дел, в которых ему приходилось участвовать, и, надо думать, дал ложное показание, впрочем, не единственное в его мемуарах; он оклеветал Робеспьера[97].
Ввиду соображений, приведенных выше, нельзя, однако, смешивать лживое показание с ложным: тот, кто дает лживое показание, хочет сказать неправду, не зная истины; значит, он уже лжет в том отношении, что выдает себя за свидетеля того факта, которого он не знает, т. е. не испытал в собственном своем чувственном восприятии; он лжет, сверх того, произвольно выдавая продукт своей фантазии за фактическую истину, т. е. за факт, будто бы происходивший в действительности. Добровольные или подставные лжесвидетели часто дают лживые показания; в американских, да и других газетах печатаются иногда сенсационные известия, придуманные репортерами, и даже будто бы подтверждаемые почтенными людьми, самое существование которых оказывается, однако, тоже фиктивным и т. п.[98] История Карла Великого и Роланда, приписываемая Тюрпену, архиепископу Реймскому, теперь признается произведением «невежественного подделывателя»; она, действительно, содержит явные выдумки, выдаваемые, однако, за факты, хотя бы, например, известный рассказ о том, как Карл Великий созвал собор в Компостелле и повелел в знак любви к св. Иакову, чтобы все духовные и светские власти, прелаты и короли христианские, настоящие и будущие, повиновались в Испании и Галиции епископу того города, в котором покоились мощи св. Иакова. Такая выдумка, очевидно, была сочинена для возвеличения епископской кафедры в Компостелле[99]. В поддельных источниках можно также встретить лживые показания. «Агиографический роман», написанный Гильдуином о св. Дени Парижском, в настоящее время признается фальсификацией и содержит немало совершенно пустых показаний; «Liber de compositione castri Ambaziae», прославляющий генеалогию дома Амбуаз, оказывается «легендой»; мемуары кардинала Дюбуа, сочиненные библиофилом Жакобом, а также записки г-жи Аврильон, главной камеристки императрицы Жозефины, придуманные и написанные Виллмаре, содержат немало таких же лживых показаний, разумеется, не имеющих никакого фактического значения, и т. п.[100]
В действительности, однако, одно и то же показание может оказаться частью ложным, частью лживым; оба момента часто переплетаются в одном и том же источнике, например в псевдоэпиграфе, при подмене на статуе какого-либо фараона прежней надписи новой, при подделке источника и т. п.
Итак, можно придти к заключению, что даже «психически нормальный» субъект часто дает показания, на которые нельзя положиться; но далеко не всегда легко выяснить, был ли свидетель в таком именно состоянии, когда он давал свое показание, и соответственно отличить нормальное показание от ненормального.
В том случае, если свидетель обладает единством и целостью сознания, хотя бы оно и страдало неполнотой его содержания, он все еще может быть назван «нормальным» в психическом смысле; но болезненные уклонения от нормального организма и его отправлений, т. е. органические заболевания, могут вредно отражаться и на полноте его показаний. Если свидетель дает, например, показание в зависимости от патологического состояния стоящих в известном отношении к центральной нервной системе органов чувств, положим в зависимости от болезни органов зрения или слуха, осязания или речи и т. п., он, конечно, впадает в ошибку. Слепой свидетель, подобно Саундерсону, например, может давать точные показания о внутренних своих переживаниях и даже о предметах внешнего мира, преимущественно основываясь на тактильных восприятиях; но если он станет рассуждать о цветах, показания его не могут быть надежными; тот, кто страдает цветовою слепотою, например слепотою к красному, и не отличается наблюдательностью Дальтона, еще легче может дать ошибочное показание о соответствующей окраске предмета, сам не подозревая о сделанной им ошибке, и т. п.[101]
Аналогичное замечание можно, пожалуй, сделать и относительно тех субъектов, которые хотя и признаются психически ненормальными, но не страдают общим или постоянным расстройством сознания; ведь и душевнобольной субъект может давать верные показания в той мере, в какой его психические функции, обусловливающие показание в момент его образования и высказывания, еще не затронуты болезнью. Душевнобольные, вышедшие из состояния, называемого «stupor», например, с поразительной точностью воспроизводят если не все события, происходившие вокруг них в период болезни, то по крайней мере, некоторые из них; меланхолики «из категории не слишком тяжелых» также дают «самые объективные, точные, вполне достоверные показания» о некоторых простых явлениях, не касающихся сферы их нервно-психического расстройства; то же, разумеется, и с тем большим основанием позволительно сказать о людях, подверженных галлюцинациям, и т. п., если только можно установить факт, что психические их функции в момент восприятия и показывания о воспринятом не находились под влиянием болезни[102]. Жанна д’Арк, историю которой пытались рассматривать и с психиатрической точки зрения, например, давала на известном процессе довольно толковые показания о своей домашней жизни в Домреми о том, как она отличалась умением прясть и шить ит. п.; она сообщала также и другие сведения, которые совпадают с рассказами очевидцев. Ввиду того, однако, что далеко не всегда можно точно установить, в каком именно состоянии такой субъект находится, трудно пользоваться и его показаниями; Жанна дАрк часто продолжала говорить и действовать под влиянием «голосов», испытывала галлюцинации, преследовавшие ее в Руанском замке, утверждала на суде, что она целовалась со св. Екатериной и св. Маргаритой, и т. п.[103]
Во всяком случае, если душевнобольной свидетель уже утратил единство и целость сознания, т. е. страдает более или менее общим его расстройством, его показания в той мере, в какой они даны в зависимости от тех его психических функций, которые уже поражены болезнью, конечно, представляются ненормальными. Под влиянием той или другой душевной болезни такие функции действительно нарушаются; память, например, утрачивается («беспамятство») или заметно ослабевает, что, впрочем, бывает и без собственно душевного расстройства, хотя бы при «amnesia senilis»; внимание болезненно сосредоточивается на каком-либо «навязчивом» представлении или рассеивается; эмоциональный тон черезмерно понижается или повышается; воображение оказывается слишком подвижным и подсказывает иногда больному самые ужасные события, в которых он будто бы принимал деятельное участие; продукты расстроенного воображения смешиваются с действительностью; мысли становятся бессвязными; воля сменяется абулией, ослабляется или разлагается, уступает место своего рода автоматизму или слишком поддается чужому влиянию, и т. п. В области исторических разысканий, конечно, лишь в редких случаях приходится иметь дело с показаниями безумцев, маньяков, слабоумных и т. п.; но не всегда позволительно пренебрегать показаниями меланхоликов, испытывающих угнетение в сфере чувств, или лиц, страдающих маниакальной экзальтацией преимущественно в той же сфере; нельзя упускать из виду и показания тех, которые находятся на границе психической болезни, например истерических субъектов, отличающихся черезмерным преобладанием эмоций и столь подвергнутых мимолетным импульсам хотя бы при изучении того неистовства с демономаническим бредом, которое играло некоторую роль в истерических эпидемиях, распространявшихся в Средние века. Сюда же можно отнести, по крайней мере в известной степени, и те бредовые идеи и навязчивые представления, под влиянием которых свидетель дает более или менее ошибочное показание, — под давлением таких представлений он более или менее чуждается восприятий внешнего мира или обнаруживает болезненное внимание к каким-либо сторонам предмета, даже его уродливостям и т. п. и пропускает остальное, или вносит свои настроения в наблюдаемые факты, или искажает действительность и т. п. В автобиографии св. Тереза, например, подробно описывает те состояния экстаза, которые она переживала, когда душа ее «искала Бога», и рассказывает, как в то же время она испытывала сильное ослабление чувственных восприятий, как при виде букв она все же не могла «ни различить, ни соединить их», как, слыша голос, она не была в состоянии разобрать отдельные слова, и т. п. Следовательно, трудно полагаться на показания таких лиц, если они касаются не одной только их собственной душевной жизни. Сведенборг, например, полагал, что он написал основное свое сочинение («Arcana Coelestia», 1749—1756 гг.) при непрерывном внушении свыше; в приложенных к нему «Memorabilia» он сообщает, что в то время его «внутренний человек находился в средних небесах, в сердечной области Господа, в левом желудочке…»; а в несколько позднейшем произведении «de ultimo judicio…» он утверждает, что в духовном мире Страшный суд уже совершился в 1757 г., и описывает его как «допущенный Богом свидетель»[104].
В числе источников ошибок, чаще возникающих у душевнобольных, чем у «здоровых» субъектов, можно отметить и обманы чувств, под влиянием которых они относят свои ошибочные или мнимые восприятия к внешнему миру и соответственно дают неверные показания. Галлюцинации представляются явлениями далеко не исключительными: количество галлюцинаций, приходящееся средним числом на каждого, довольно значительно; статистика галлюцинаций, проведенная одним американским ученым, показала, что средним числом по крайней мере один из десяти опрошенных им людей в своей жизни когда-нибудь пережил галлюцинацию; иллюзии, разумеется еще менее редки[105]. Агиографическая литература содержит немало примеров подобного рода; можно думать, что обращение Савла на пути к Дамаску сопровождалось такими состояниями сознания; что видение св. Антония-случай зрительной галлюцинации; что голос, укорявший св. Иеронима, — случай слуховой галлюцинации и т. п. Лютер и другие исторические и неисторические личности также испытывали на себе обманы чувств, преимущественно зрительные и слуховые галлюцинации или иллюзии и соответственно давали показания, важные для характеристики их душевных состояний, но не объектов внешнего мира[106]. Большинство людей способно также поддаваться внушению, а способность давать показания под его влиянием приводит иногда к самым грубым заблуждениям даже в таких показаниях, которые, казалось бы, основаны на непосредственном чувственном восприятии показывающего; он с большою уверенностью может давать ошибочные показания, изобилующие реальными подробностями; под влиянием самовнушения, например, человек может испытывать на себе указанное выше влияние навязчивых идей; он также легко может внушить себе, что-то, что могло быть, должно было быть и, «значит», было в действительности, и т. п. Исторические деятели, например, склонны поддаваться мысли, что все, что они предвидели, случалось в действительности. Меттерних уже в 1798 г. писал жене из Раштатта; «tout се que je prevoyais arrive» и в своих мемуарах под влиянием такой мысли часто дает показания, не соответствующие действительности. Впрочем, свидетельства подобного рода легко переходят в волевые ложные показания[107].
Само собою разумеется, что субъект, находящийся в ненормальном состоянии, дает ошибочные показания под влиянием таких объективных условий, которые могут не оказывать вредного действия на нормального свидетеля; в зависимости от того, а не иного объекта он может испытывать приступы того ненормального состояния, которое, между прочим, отзывается и на характере его показаний. Некоторые зрительные и слуховые иллюзии, например, находятся в довольно заметной зависимости от «окружающей обстановки», от какого-либо «исключительного обстоятельства» и т. п. Лютер следующим образом рассказывает о проделках Сатаны, которые он испытал в Вартбурге: «Я был далеко от мира в комнате, куда никто не мог проникнуть, кроме двух благородных юношей, которые два раза в день приносили мне пищу и питье. Однажды они купили мне мешок с орехами, который я спрятал в ящик. Вечером, когда я перешел в другую комнату, потушил свет и лег, мне показалось, что орехи приходят в движение, сильно постукивают друг о друга и звонко ударяются о постель…».
Вышеуказанные болезненные уклонения от нормы могут осложняться еще и такими же расстройствами в способности высказывания показаний. Душевнобольной, хорошо воспринявший и даже запомнивший данный объект, может оказаться, однако, под влиянием болезни не в состоянии воспроизвести в своем показании испытанное им событие: он не может вымолвить ни слова или страдает одним из расстройств речи, например парафазией или аграфией, менее всего передает то, что было в действительности, совершенно произвольно описывает или изображает пережитое им впечатление и т. п. Такие болезненные уклонения от нормальной способности репродукции в особенности обнаруживаются у истеричных[108][109]. Хотя историку редко приходится иметь дело со столь извращенными показаниями, но он все же должен обращать внимание на некоторые их особенности хотя бы при изучении той глоссолалии, которая появлялась среди некоторых религиозных сект, например в той общине «конвульзионистов», которая образовалась в Кюнгейме, подле Кольмара не позднее 1844 г.[110].
Впрочем, следует обращать внимание и на другие, более специфические факторы, играющие известную роль в образовании ненормальных показаний: на антропологический тип свидетеля, на его темперамент и характер, на его возраст, пол и т. п. Легко заметить, например, что женщины более подвержены истерии, чем мужчины, что соответственно должно отражаться и на их показаниях. Врачи указывают на то, что первое видение Иоанны д’Арк произошло в период полового назревания в одиночестве, в минуту религиозной экзальтации, после поста и т. п.
Предлагаемая группировка свидетельских показаний представляет, конечно, лишь довольно грубую схему и не дает понятия о постепенных переходах от одной разновидности к другой или о тех весьма разнообразных оттенках, которые могут встречаться в одном и том же показании; показание не всегда может быть безусловно нормальным или ненормальным; оно редко оказывается безусловно надежным, верным и правдивым или безусловно ненадежным, неверным и неправдивым; но при помощи таких категорий легче разобраться и в той смеси разнородных элементов, которую данное показание иногда представляет, даже в том случае, если нельзя отнести его без оговорок к одной из основных групп, а значит, легче судить и о том, почему оно достоверно или недостоверно.
Впрочем, генезис показания выясняется не только в связи с общими свойствами человеческой природы, но и в зависимости от условий той именно культуры, среди которой оно возникло, на что уже было указано выше, при рассмотрении типизирующего метода интерпретации исторических источников. Благодаря данной культуре свидетель может, например, обладать большей или меньшей образованностью или располагать более или менее совершенными средствами для наблюдения или для закрепления своего показания, что, конечно, отражается и на его содержании; он может избрать ту, а не иную форму для своих показаний; но избирая, положим, литературную форму, более или менее принятую в данном обществе, он уже ставит содержание своих показаний в некоторую зависимость от нее: сообщая, положим, факты из жизни Генриха IV в биографии, предназначенный для друзей покойного императора, он изображает их иначе, чем в летописи, и т. п.
Генезис показания находится в зависимости от условий данного места, т. е. от того, где именно свидетель или автор показания находился или какое именно положение он занимал в обществе, и в зависимости от таких условий становится более или менее достоверным или недостоверным. Юлий Цезарь, например, знал лишь пограничные германские племена, что не осталось без влияния на его известия о германцах. Адемар, один из лучших представителей той культуры, которая водворилась в ангулемских и лиможских монастырях феодального времени, дает в своей хронике много точных показаний относительно Аквитании; но говоря о том, что происходило на севере от Луары, он часто допускает крупнейшие промахи относительно действующих лиц и событий, и т. п.
Вместе с тем генезис показания находится в зависимости и от условий времени, когда оно возникло. В древности, например, свидетель вообще мог относиться более легкомысленно к своему показанию хотя бы потому, что менее теперешнего чувствовал себя ответственным за него. Гекатей хотя и считал правдоподобное критерием исторической истины, но выводил свой род в 15-м колене от божества. В Средние века довольно поверхностно относились к самым элементарным требованиям исторической критики. Даже Оттон Фрейзингенский, лично способствовавший появлению известного австрийского привилея от 17 сентября 1156 г., счел возможным передать его в труде о славных подвигах своего героя — императора Фридриха I по памяти, не справившись с подлинником, и допустил в его переделе целый ряд неточностей; но в позднейшее время, при более высоком уровне научных требований такое отношение к фактической истине со стороны образованного историка противоречило бы самым общепринятым правилам исторической критики. Само собою разумеется, что при относительно малом развитии общества свидетель находится в условиях, благоприятствующих его легкомыслию или тенденции; он гораздо более может рассчитывать на доверчивое отношение общества к сообщаемым им известиям, а в противном случае не боится оглашения своего показания через посредство печати, его критики, общественного мнения о нем и т. п. В позднейшее время с изменением таких условий и отношение свидетеля к своим показаниям начинает меняться.
Вообще национальные, племенные и бытовые особенности свидетеля играют существенную роль и в образовании его показаний. Язык той среды, к которой он принадлежит, его культура, в частности городские или сельские условия его жизни, его социальное положение и даже его обычные занятия, в отношении к которым он иногда особенно интересуется некоторыми подробностями происходившего, конечно, влияют на характер его показаний. Соответственно с данной культурой свидетель или автор преимущественно приписывает значение тому, а не иному роду фактов, стоящих внимания и сообщения, что придает его рассказу односторонний или тенденциозный характер. Тацит, например, занимаясь составлением своей «Германии», все же оставался римлянином времен империи, оценивал чужую народность и ее нравы с точки зрения римской культуры и писал свое сочинение для своих же соотечественников — римлян; ярый католик Карл IX ложно хвастался тем, что он будто бы подготовил Варфоломееву ночь; Магдебургские центурии, составление которых было предпринято под руководством Матфея Флациуса протестантскими учеными, резко расходятся в своей оценке папства с церковными анналами, писанными Цезарем Баронием в защиту католицизма; С.-Симон в своих мемуарах является противником абсолютизма Людовика XIV и убежденным аристократом, порицающим планы короля оставить престол своим незаконным сыновьям, пользуется покровительством регента герцога Орлеанского и т. д.; под влиянием интересов, соответственных тому социальному кругу, к которому он принадлежал, автор дает иногда довольно ложные показания о придворной жизни при Людовике XIV и т. п.
При изучении генезиса показания нельзя, однако, принимать во внимание одни только общие условия культуры и с такой точки зрения выяснять причины и мотивы того, а не иного рода показаний; каждая данная личность свидетеля более или менее отличается от других, что соответственно отражается и на его показании; оно зависит от личности свидетеля в ее целом, а не только от отдельных его свойств. Следовательно, генетическое рассмотрение показания должно быть возможно более индивидуализировано: оно должно преимущественно сосредоточиваться на изучении личности автора показания для того, чтобы возможно точнее объяснить его происхождение. Историк должен, подобно судье, знать личность свидетеля, его индивидуальные особенности для того, чтобы пользоваться его показанием, принять или отвергнуть его[111]; он выясняет положение, которое свидетель занимал в данном обществе и его биографию, его способности и свойства его характера, его искренность или скрытность, его бережное или небрежное отношение к фактам, его образованность или невежество, его понимание или непонимание тех именно фактов, о которых он сообщает; его моральный облик, его эстетические вкусы, его беспристрастие или тенденциозность и т. п.; он обращает внимание и на те именно обстоятельства, при которых этот свидетель давал свое показание; на то место, в котором он показывал, и на тот момент его жизни, когда он показывал, и т. п. Таким образом, благодаря своему знакомству с личностью автора историк получает возможность индивидуализировать критическую оценку его показаний.
С последней точки зрения, например, можно различать показания, в которых показывающий умеет сохранить объективность возможно более бесстрастного свидетеля, от показаний с эготическим характером, т. е. таких, в которых личность свидетеля постоянно оказывается центром изображаемых событий: он всему придает значение лишь постольку, поскольку и в чем оно касается его личности; он преимущественно сосредоточивает свое показание лишь на том, что непосредственно задевает его, хотя бы оно само по себе и не имело существенного значения. Историк различно ценит, например, показания Фукидида, который заставляет факты «говорить за себя», и показания генерала Марбо, который при описании пережитых им сражений, напротив, дает понять, что он именно «был там», что он действовал на поле сражения, что он несся во главе своих солдат против неприятеля, и т. п.[112]
Само собою разумеется, что индивидуально-генетическое рассмотрение показания не ограничивается такими общими различениями, а входит в подробности характера и жизни данной личности. Лишь выяснив, например, личность Юлия Цезаря, автора известных комментариев о войне римлян с галлами, его умение наблюдать факты и судить о них, его стратегические способности, его положение во главе римских легионов, его долговременное пребывание в Галлии, наконец, самое время составления комментариев по свежей памяти вскоре по окончании галльской войны (51—46 гг. Р. X.), историк может испытывать то чувство доверия, с каким он обращается к ним для изучения географии Древней Галлии, религии и нравов ее обитателей и т. п. С аналогичной точки зрения приходится судить и об источниках позднейшего времени. Историк не может, например, критически оценить мысли и воспоминания Бисмарка, не имея понятия о его характере, о его государственном уме и в особенности о его железной воле и активности; не считаясь с тою объективностью и чувством ответственности, которые он испытывал как государственный человек, но не как историк; не имея в виду, что он писал свои мемуары с национально-объединительной немецкой, а не только прусской точки зрения, и что он преимущественно останавливался лишь на тех событиях, в которых ему самому приходилось принимать личное и деятельное участие, часто умалчивая о других из-за политических соображений, хотя бы они и были нужны для понимания его собственного рассказа. Историк не может выяснить происхождение рассуждений Меттерниха о «вечной справедливости» и объяснить источник его ложных и лживых суждений о собственной своей политике, не принимая во внимание личность Меттерниха, влияние на него религиозно-библейских и научно-либеральных идей, а также его связей с тем светским кругом, в котором он вращался[113].
В таких случаях историк прибегает, между прочим, и к индивидуализирующей интерпретации данного показания для его критики, не забывая, однако, что одно и то же показание может содержать несколько суждений разного достоинства и что, следовательно, каждое из них требует особого критического рассмотрения, которое нельзя отождествлять с исследованием его генезиса.
Итак, можно изучать генезис показания преимущественно с точки зрения его образования, но в некоторых случаях приходится еще особо рассматривать и генезис его подачи или высказывания. Свидетель может, например, мимоходом испытать известный факт, но не дать о нем положительного показания, или ограничивается иногда молчаливо-отрицательным показанием, которое остается невысказанным или незаписанным, или старается воздержаться от показания ввиду какой-либо «профессиональной тайны» и т. п. Впрочем, и в тех случаях, когда свидетельское показание налицо, генезис самого факта его подачи часто нуждается во внимательном исследовании.
Всем известны случаи, когда свидетель хотел дать показание, но под давлением внешних — преимущественно социальных и политическихусловий не мог дать его в том виде, в каком он хотел или не хотел дать показание, и тем не менее под влиянием условий подобного рода принужден был дать его.
В тех случаях, когда свидетель не может свободно высказаться, так как высказывание его стеснено какими-либо внешними условиями, его показание можно назвать связанным. Свидетель дает его хотя и произвольно, но не без стеснений, например, под влиянием страха порицания, преследования, наказания и т. п., а потому и не может выразить его с полной откровенностью; он искусственно порывает связь между содержанием своего показания и естественной формой его обнаружения; даже в том случае, если он хочет сказать правду, он прибегает к намекам на то, что ему хочется выразить, к разным аллегориям и т. п.; он сглаживает свой стиль, говорит «эзоповским языком» и т. п. При таких условиях он, разумеется, не может дать вполне удовлетворительное показание ввиду несоответствия между затаенным содержанием и формою умалчивания или даже легкого искажения некоторых фактов, иногда представляющих наибольший интерес; свидетель не всегда может придать полную достоверность своему показанию, хотя бы и желал избежать упрека в его недостоверности. В таких условиях часто находится тот, кто принужден высказываться под давлением цензуры: заблаговременно вызывая со стороны самого свидетеля меры к тому, чтобы прикрыть свое показание, она в обратном случае сама изменяет его. Деятельность цензуры распространяется на самые разнообразные показания. В последние годы своего правления английская королева Елисавета заботилась, например, о том, чтобы ее изображение на монетах возможно менее соответствовало оригиналу. Состарившись и подурнев, она осталась недовольна тем портретом, который и теперь еще можно видеть на одной большой серебряной монете, где королева представлена в профиль — с ее ястребиным носом, наморщенным челом и сжатыми губами. В награду за такую работу, слишком хорошо напоминавшую оригинал, Елисавета велела посадить художника-гравера, резавшего матрицу, под арест, а самую матрицу уничтожить, заменив ее более красивыми образцами. Влияние цензуры духовной и светской отразилось, конечно, на многих показаниях; доктора Сорбонны, например, долгое время применяли цензуру к трудам, касавшимся богословия, благочестия и философии; в 1848 г., по словам одного из наших благонамеренных писателей, цензура в России делалась «неслыханным бичом».. и решительно запрещала ему употреблять слова «низшие классы», «рабочий народ» или «класс», даже в тех случаях, когда он вовсе не касался русской жизни, и т. п.[114]
В тех случаях, когда свидетель не может, согласно своему желанию, воздержаться от показания, т. е. вынужден дать, требуемое показание можно назвать вынужденным. Дальнейшее его изучение может получить двоякое направление: или такое обстоятельство не отразилось на показании, и значит, исследователь может пренебречь им; или оно носит на себе следы своего искусственного происхождения, т. е. следы влияния чужой мысли. В последнем случае можно часто признать его зависимым показанием и, следовательно, пользоваться теми принципами и методами различения зависимых показаний от независимых, которые уже были указаны выше.
Впрочем, показание может быть вынуждено различными способами, например, путем внушения или насильственного давления.
Вынужденные показания часто возникают под влиянием внушения; оно прививает воспринимающему лицу идеи, чувства или эмоции без участия его воли и нередко даже без ясного с его стороны сознания, заставляет его говорить то, что хочет за него другой, хотя бы самому воспринимающему его показание и казалось самопроизвольно данным. Более или менее явно выраженное ожидание опрашивающего и самая постановка вопроса может уже внушать свидетелю то направление, в каком он «должен» ответить. Такая форма показания часто лишает свидетеля возможности придать ему индивидуальный характер, а иногда выпытывает у него сведения, которые он хорошо не помнит или не знает и при сообщении которых он впадает в ошибки[115]. Показания подобного рода можно встретить, например, в старинных и даже позднейших процессах о колдунах и ведьмах; папы, проповедники и другие лица внушали населению веру в их сношения с дьяволом или поддерживали ее, а инквизиторы принимали простые доносы на них, не требуя доказательств, чем и благоприятствовали появлению внушенных показаний; люди подавали их иногда из самозащиты: они обвиняли другого для того, чтобы оградить себя от такого же обвинения. В древности и в Средние века некоторые уверяли, что «видели», как благодаря чудесной силе заклинания или молитвы духи выходили вон из одержимого; остяки и тунгусы и теперь еще «видят», как духи покидают шамана, и т. п.[116]
Вынужденное показание вызывается и более или менее насильственным давлением. Показания, которые вымогала, например, инквизиция или наша Тайная канцелярия, уже по самому способу своей подачи далеко не всегда могут внушать доверие: сделанные под влиянием пытки и инстинктивного стремления избавиться от нее, они часто содержат недостоверные оговоры третьих лиц, даже мнимые признания в собственной виновности. Григорий Турский рассказывает, между прочим, что по случаю смерти в 580 г. двух сыновей известной Фредегунды их сводный брат Хлодвиг был обвинен в том, что он причинил их смерть при помощи двух женщин через посредство злых чар; одна из них была подвергнута пытке, пока не созналась в своей «вине», и была сожжена, несмотря на то что до смерти успела отказаться от своего признания, и т. п.[117]
Все сказанное выше об отдельных показаниях можно, конечно, более или менее относить и к целым совокупностям их, т. е. к рассказам. Само собою разумеется, однако, что чем сложнее рассказ, тем более он может оказаться достоверным или недостоверным: в пределах данной совокупности показания могут взаимно подкреплять или контаминировать друг друга, да и та комбинация, которая им придается, может иметь разное значение. В самом деле, комбинация показаний может быть правильной, но она часто оказывается и неправильной. В том случае, например, если свидетель стремится, не искажая правды, представить ее, однако, в таком виде, чтобы произвести большее впечатление на воспринимающего, он уже придает рассказываемому обманчивую форму, способную ввести его в некоторое заблуждение; тот, кто определяет, например, военные силы, может произвести разное впечатление, смотря по тому, исчисляет он их по дивизиям, батальонам или еще менее значительным частям войск, которых соответственно окажется больше в итоге, и т. п. Самая форма рассказа может усиливать источники ошибок, рассмотренных выше. Действительно, в рассказе о факте свидетель может относиться к нему более «свободно», чем в отдельном показании о нем; менее сосредоточивает свое внимание на чем-либо одном, легче переходит от одного к другому, больше опирается на память, дает больший простор своему воображению и т. п. Вообще, рассказывая о факте, свидетель должен, например, начать его с описания того, а не иного из его моментов, затем перейти к следующему и т. д.; но при таких условиях он может допустить большее число пробелов в запоминании своих восприятий и их высказывании, чаще вносит в рассказ свои собственные переживания или оценку, легче искажает факт под влиянием тех или иных побуждений, тенденций и т. п. С такой точки зрения, например, отрывочные записи, делаемые изо дня в день в дневниках, оказываются более надежными, чем целые рассказы, встречающиеся в автобиографиях; в последнем случае свидетель сливает многие показания в одно целое, что и может породить новые ошибки, обусловленные самой формой принятого им рассказа.
Итак, при изучении генезиса показаний или образованных из них рассказов приходится обращать особенное внимание на те из них, которые называются свидетельскими, — ведь их происхождением легко объяснить достоверность, а отчасти и недостоверность зависящих от них известий или пересказов. В самом деле, верность передачи состоит в возможно более точном воспроизведении и правдивого, и неправдивого показания или рассказа; следовательно, известие или пересказ сами по себе не могут отличаться большею достоверностью или недостоверностью, чем-то показание или тот рассказ, содержание которого передается, если только сам посредник не внес каких-либо изменений в известие или пересказ, не обнаружил своего отношения к содержанию передаваемого и т. п.
Такая оценка может иногда оказаться довольно удачной. В самом деле, некоторые известия, пожалуй, обладают самостоятельным значением в качестве правдивых оценок передаваемых в них фактов.
Возьмем хотя бы известное предание о том, как Аттила со своею ордою явился перед стенами Рима, как он грозил ему разрушением и как он отступил перед римским епископом Львом I, который вышел к нему навстречу, окруженный своим причтом. Предание повествует, что в то время, когда Лев I уговаривал Аттилу отказаться от осады города, царь внезапно увидал рядом с ним апостолов Петра и Павла с обнаженными мечами и в ужасе велел отступить. Приведенное сказание, конечно, — легенда, но оно содержит правдивую оценку могучей личности Льва I, твердо убежденного в том, что он — преемник св. Петра, и такую же оценку преимуществ римско-христианской культуры над полудикою ордой[118].
В большинстве случаев, однако, известие может в зависимости от передачи оказаться гораздо менее достоверным, чем свидетельское показание; следовательно, выяснение генезиса известия получает некоторое значение преимущественно для лучшего понимания его недостоверности. Главная причина, порождающая ее, состоит, конечно, в небрежной или недобросовестной передаче чужого показания; в силу естественной склонности человека верить тому, что передается, тот, кто передает чужое показание, редко относится к нему критически и, впадая в погрешности, уже указанные выше, часто обращается с ним более поверхностно или произвольно, чем тот, кто повторяет собственное свое показание. Посредник легко может при самой передаче чужого показания извратить его и без умысла или с умыслом внести в него какие-либо изменения; следовательно, в зависимости от той, а не иной передачи он может сообщить неверное или неправдивое известие[119].
Невольное извращение чужого показания часто касается только одной его формы, что, впрочем, может уже отразиться и на его содержании. В самом деле, случайное искажение чужого показания, например, нередко состоит в тех «ослышках» или оговорках, недосмотрах или описках, которые ведут к образованию неверного известия; посредник может неверно передать слова малознакомой ему речи или письма. Плиний жалуется, например, на иллирийские «nomina ineffabilia»; Мела заявляет, что он будет приводить лишь те имена, которые римлянин может выговорить; Герберштейн пишет «Хева» вместо «Нева», и т. п. Передаваемое показание может, конечно, подвергаться самым разнообразным метаморфозам. Достаточно припомнить те ошибки, которые возникают благодаря невежественным писцам и особенно наглядно обнаруживаются также при передаче имен собственных; переписчики географии Птолемея, например, превратили чтение «Ааяоируюсуо!» в «Acruoupixocvcn»; переписчики известного сочинения Плиния переделали чтение «Utn Aorsi Anoterae» в «Utidorsi Aroteres» и т. п.[120] Сюда же можно отнести и те ошибки, которые бывают при переделке туземных имен на иностранный лад; передающий их сообразуется с законами своего языка и искажает чужеземное имя, что так часто встречается у старинных писателей в особенности при передаче имен собственных; они вносили иногда и довольно произвольные толкования в передаваемые ими термины и под влиянием известных ассоциаций превращали, например, слово «славяне» в слово «sclavi» или слово «татары» в слово «ta.rta.ri» и т. п.
Впрочем, невольное извращение показания при его передаче может распространяться и на его содержание: опыты пересказа чужих показаний обнаружили, что передающий часто невольно опускает или прибавляет, а также искажает то, что он слышал или читал. В своих реляциях о разных событиях эпохи реформации Цазий, например, едва ли точно передавал сведения, которыми он хотел занять своих читателей[121].
Вместе с более или менее невольными извращениями чужого показания известие нередко содержит и более или менее произвольные или преднамеренные его изменения.
В последнем случае известие становится ложным или лживым; генезис преимущественно такого известия, в особенности ложная или лживая передача чужого показания или рассказа, заслуживает несколько более внимательного рассмотрения.
Ложное известие нередко возникает так же, как и ложное свидетельское показание: посредник может кое-что убавить из него или прибавить к нему, ослабить или усилить некоторые его черты и т. п. Передавая чужое показание не в полном его виде, т. е. скрывая часть его, посредник может, конечно, и не вполне извратить, а только урезать его содержание. После сражения при Бородине, например, Кутузов прислал императору Александру I донесение, в котором он сообщил, что «неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными силами», но что вместе с тем ввиду значительных потерь он «взял намерение отступить» за Можайск. При чтении донесения Кутузова в Невском монастыре перед молебном, а затем и при напечатании его в «Северной пчеле» последние его слова были исключены, что придало несколько иной смысл всему донесению[122]. Передача может еще более извратить чужое показание путем разного рода произвольных добавлений к нему. Посредник нередко включает в известие свою собственную субъективную оценку сообщаемого им факта. В некоторых случаях, например, субъект, передающий чужое показание о факте, вместе с тем предлагает и научную его оценку, т. е. объясняет его, не имея на то достаточно данных, придумывает свое объяснение данному факту и, присоединяя его к известию, может придать ему такое фактическое значение, какого чужое показание не имело. Особый вид источников, а именно «этиологические сказания», возникает под влиянием желания объяснить значение какого-либо имени собственного, названия лица или места, прозвища или геральдического знака и т. п. В виде примера можно припомнить хотя бы возникновение известной тюрингенской легенды о графе Глейхене. Легенда повествует о том, как граф Глейхен в 1227 г. отправился в Святую землю, как он был взят в плен и женился на дочери султана, как он возвратился с нею к прежней жене и мирно прожил свой век двоеженцем; но легенда о графе Глейхене возникла из желания народа объяснить значение одного надгробного камня, на котором изображен мужчина между двумя женщинами, причем одна из них имеет своеобразный головной убор и, значит, едва ли заслуживает доверие. Рассказчик-моралист также охотно примешивает к сообщаемым известиям свою оценку. При составлении известных своих жизнеописаний Плутарх пользовался многими источниками и с морализирующей точки зрения оценивал черпаемые из них сведения; желая выставить в лице своих героев образцы известных качеств, он идеализировал их, смягчал темные их стороны, касался лишь тех фактов, которые нужны были ему для достижения его цели, и опускал многие другие, даже важные; один из писателей XII в., Павел из Бернридского монастыря, составил биографию папы Григория VII, которого он представляет мучеником, и биографию императора Генриха IV, которого он изображает односторонне в виде своего рода Нерона, и т. п. Рассказчик, желающий при передаче придать эстетическую ценность или интерес своему рассказу, также прибегает к соответствующим приемам изображения передаваемых фактов, особенно в тех случаях, когда он комбинирует несколько известий и пересказывает их. Для того, например, чтобы придать больше единства пересказу, касающемуся целой группы или целого ряда фактов, он концентрирует их вокруг одного какого-нибудь лица или события, что и порождает известное впечатление внешнего единства. Легенда охотно прибегает к персонификации или к концентрации; она переносит действия целых групп или поколений на одно лицо или сосредоточивает целую совокупность фактов (группу или ряд) в одном центральном событии. Легенда приписывает, например, заимствование греками письменных знаков у финикиян Кадму; она представляет завоевание греками малоазиатских берегов в виде осады Илиона, вековую борьбу между французами и сарацинами — в битвах при «Алискансе» и «Ронсево», целые сражения — в виде единоборств между двумя героями, описываемых в тех же и многих других сказаниях, и т. п.[123] Впрочем, для того чтобы придать большую живость рассказу, составитель подвергает его содержание и драматизации; он дает яркие характеристики своих героев, хорошо знает мотивы их действий, а в случае нужды дополняет их, нарочно придумывает эффектные положения и сцены, вводит в свой рассказ много подробностей и т. п.; например, хотя бы в известном сказании о Вильгельме Телле и о его подвигах. Рассказчик часто приноравливает, сверх того, свой рассказ к требованиям той литературной формы, которую он избрал для своего рассказа, что, разумеется, также влияет на степень его достоверности или недостоверности. Мотивы искажений в таких случаях находятся в зависимости от тех целей, какие преследуются данным литературным родом; автор лирического произведения подкупает читателя откровенностью и интимностью своих сообщений, но они иногда мнимые; творец драматического произведения стремится растрогать читателей и соответственно изображает ход действия, хотя бы оно в таком виде и не происходило; оратор стремится своей речью произвести эффект, который рассчитан, однако, лишь на данный момент и на то, чтобы склонить слушателя к действию, и т. п. Аналогичные приемы литературного изложения могут отражаться и в историческом предании; образцы подобного рода были уже приведены выше, например, из сказаний о Роланде и т. п.
Вообще, для того чтобы поднять значение какого-либо лица или описываемого факта или поддержать интерес к рассказу, передающий его привносит в него разные эффектные известия из других рассказов и, следовательно, одному лицу или событию приписывает свойства или деяния совсем другого, что часто встречается в легендах о святых, о героях и т. п. В Средние века, например, Карл Великий приобрел славу законодателя; ему же стали приписывать составление многих законодательных актов, происхождение которых, в сущности, было неизвестно, и т. п.
Передача известий или рассказов, разумеется, может затемняться еще более субъективными настроениями посредника, аналогичными с теми, какие обнаруживаются и у свидетеля. Биньон, например, преклонялся пред личностью Наполеона I, что отразилось и в сообщаемых им сведениях; де Прадт, напротив, не сочувствовал Наполеону I и придавал некоторым сведениям о нем соответственную окраску, и т. п.
Пересказ, т. е. передача рассказа или целой совокупности известий, представляет, конечно, еще более удобный случай для преднамеренных его изменений, чем передача отдельно взятого известия. Такой пересказ может содержать, например, урезки или добавления, часто затемняющие или искажающие смысл передаваемого. Процесс редукции рассказа встречается хотя бы у средневековых писателей, заявляющих, что они не могут всего рассказывать «по порядку», опасаясь впасть в черезмерное многословие; в своей жизни Анскария Римберт заявляет, что он сообщает только один пример «преступного» восстания народа, и т. п. Процесс амплификации рассказа наблюдается также, например, в пересказах, попавших в Густынскую летопись, и т. п.[124]
В числе пересказов можно отметить, между прочим, и особый вид, возникающий в том случае, если кто-либо передает об ожидаемом факте как о случившемся. Саксонский летописец Видукинд рассказывает, например, о коронации Оттона I отчасти со слов одной грамоты, предписывавшей порядок предстоящей коронации; некоторые средневековые анналисты описывают иногда маршрут короля на праздник, руководствуясь предварительно сделанными распоряжениями, а не действительным ходом путешествия; современные репортеры при составлении своих известий часто пользуются предварительно изданными программами разных торжеств, не справляясь с тем, что из них действительно было осуществлено, и т. п.[125]
Итак, ложная передача чужого показания или рассказа, хотя бы содержание их было правдиво, может породить ложное известие или ложный пересказ.
Передача показания, рассказа и т. п. может оказаться, однако, частью ложной, частью лживой, например, при частичной его подделке — или становится преимущественно лживой, по мере того как фабрикация его приближается к полной подделке. Макферсон, например, пользовался шотландскими легендами, впрочем, не старше XII в., для составления своего эпического цикла «Оссиана»; но он не сохранил в своем произведении часто попадающихся в них перечислений оружия и разных предметов обстановки и, наоборот, вставил описания ландшафтов, вовсе не встречающихся в песнях старинных бардов; он совершенно переделал их, изменил хронологию, имена героев и характер быта; вместо прославления героев и их подвигов он умилялся перед красотами природы; вместо изображения диких и жестоких нравов он представлял людей того времени чувствительными, утонченными и изысканно-вежливыми; вместо того чтобы изображать факты в той последовательности, в какой они представлялись бардами, он перетасовывал их: он превращал ирландских наемников в шотландских героев, вместо VIII в. заставлял их появляться на берегах Ирландии в III и т. п. Само собою разумеется, однако, что подделки, вроде указанной выше хроники короля Родриго, содержат не столько лживую передачу чужих показаний или рассказов, сколько продукты фантазии тех, которые их подделывали[126].
Критика чужих показаний или рассказов становится еще более сложной, если они прошли несколько передаточных инстанций и благодаря такому процессу превратились в повторяющиеся пересказы: ведь вероятность ошибки возрастает пропорционально возрастающему числу передаточных инстанций, по крайней мере, до известного предела, т. е. до того времени, когда данное предание получает общепризнанную форму, в которой оно и продолжает повторяться. Таким образом, нельзя пользоваться известиями или пересказами, не попытавшись выяснить, через посредство каких именно передаточных инстанций они возникли.
В самом деле, известия или пересказы, достигающие до нас через посредство целого ряда передаточных инстанций, путем повторения часто подвергаются дальнейшим изменениям. Более тонкие оттенки мысли при таких условиях могут совершенно исчезнуть в последующей ее передаче. А высказывает, например, предположение, что факт X мог случиться. В при передаче показания А уже сообщает, что факт X вероятно случился. С при передаче известия В идет еще дальше, он уже прямо утверждает, что факт X действительно случился и т. п.[127]
Повторение рассказа, разумеется, чаще приводит к преувеличению, чем к преуменьшению его содержания. В песне о Роланде полугодовой поход Карла Великого в Испанию превратился в семигодовой, а в позднейших песнях растягивается на двадцать семь лет и т. п. По мере изменения условий культуры повторяющийся пересказ может придавать и иное значение излагаемым фактам: многие мифы, например, превратились в народные или даже детские сказки; такой процесс и теперь еще можно наблюдать у некоторых народов, например у тодасов (todas); он приводит к образованию таких наших сказок, как, положим, «Мальчик-с-пальчик» и др. Предание вносит иногда и субъективную оценку в изображение фактов и таким образом искажает их. Сказания о походе Карла Великого в Испанию, например, представляют его поражение при Ронсево в совсем другом свете: он возвращается из Испании после целого ряда завоеваний, а не отступает после неудачного похода; он сражается с многочисленными полчищами сарацинов, а не с мелкими баскскими племенами; потерпев поражение при Ронсево, вызванное постыдной изменой, он, однако, страшно мстит изменникам, и т. д.[128]
В тех случаях, когда религиозная санкция или обычай поддерживает неприкосновенность рассказываемого, оно, конечно, довольно быстро кристаллизуется в известную общепризнанную форму, которая сама содействует его сохранению, например, при помощи ритма, напева или рифмы, да и сами слушатели готовы исправить того, кто уклоняется от общепринятого содержания и такой же формы предания; но повторение «из уст в уста» одного и того же сказания, разумеется, может вносить в него и большие изменения. По мере увеличения передаточных инстанций содержание рассказа может сокращаться или нарастать. Сокращение рассказа можно наблюдать хотя бы при письменной передаче устных народных легенд. Григорий Турский заявляет, например, что он нашел одну древнюю легенду об Андрее, отличавшуюся, однако, «излишним многословием», и желая вернуть ей прежнее значение, выпустил из нее те чудеса, которые были «менее интересны». Гинкмар рассказывает, что легенда о св. Ремигии существовала в пространном пересказе и вытеснена была краткой ее переработкой, которая сделана была Фортунатом, и т. п.[129] Процесс нарастания также часто встречается. В Гренландии, например, эскимосы — сказители «древних» преданий сочиняют и новейшие сказания, пользуясь рассказами стариков о приключениях их ближайших предков и примешивая к ним немало сверхъестественного или чудесного; арабы-рассказчики часто включают в предания при передаче их продукты своей фантазии, и т. п. В образовании исторических легенд можно заметить аналогичный процесс нарастания: древнейшие версии сказания об основании Рима, уже известные в середине V столетия до Р. X., например, касаются одного только Ромула; с течением времени, однако, и, может быть, под влиянием желания при основании Вечного города усмотреть то двоевластие, которое развилось в консулате, легенда в позднейших своих редакциях рассказывает о близнецах Ромуле и Реме и локализирует ауспиции Рема на Авентинском холме, что нельзя не признать «чистой выдумкой»[130]. Такой процесс нарастания может обнаруживаться и в других формах, хотя бы в виде слияния или смешения двух различных сказаний; полагают, например, что известная сказка о Синей Бороде сложилась из сказания о Жиле де Ретце, сиере де Лавале, бывшем маршале Франции, и из легенды о проклятом Коморе, графе Поэрском. Малейшего сходства между именами и событиями достаточно для того, чтобы дать повод к самым разнообразным комбинациям подобного рода. Различные лица, носившие имя Карла, а также франкские Теодорихи и Теодеберты смешиваются друг с другом; различные французские Вильгельмы, в течение несколько веков сражавшиеся с сарацинами, и их битвы сливаются в образе Вильгельма Оранского и в изображении сражения при Алискансе, и т. п.
Пересказ, состоящий в посредственной передаче известия или предания, получает особенно характерные формы в тех случаях, когда оно становится анонимным «слухом», который распространяется через посредство «молвы». Передача «слуха», к которому «толпа» вообще относится с доверием, и многократное его повторение может привести к смешению его с воспоминанием о будто бы бывшем и породить, наконец, веру в достоверность его содержания, заразительно действующую на большинство, хотя бы такое содержание возросло до чрезвычайных размеров[131]. Весьма поучительный пример можно привести из недавнего нашего прошлого. «В одном из восточных уездов Самарской губернии крестьяне двух соседних сел подрались между собой на сенокосе, заспорив о меже. Побитые, удаляясь, похвалялись, что нагонят в отместку орду. Эта угроза смутила победителей, и призрак идущей орды до такой степени овладел их воображением, а равно и всего околотка, что все население — с детьми, женами, стариками, с возами, нагруженными домашним добром, двинулось к Самаре. Весть о нашествии орды произвела всеобщую панику, которой отдались не одни крестьяне, но даже некоторые помещицы, а один из священников послал, кажется, приглашение к уральским или оренбургским казакам явиться на защиту. Более 40 тыс. человек спасающегося от орды населения появилось у самой Самары, и едва-едва удалось губернским властям успокоить их и убедить возвратиться восвояси»[132].
«Слухи» проникают, конечно, и в письменное предание. Геродот, например, многое заимствовал из устной традиции. Средневековые летописцы Павел Диакон, Беда, Гинкмар и другие считали возможным передавать те слухи, которые они черпали из «fama vulgarite», и хотя иногда в общих выражениях снимали с себя ответственность за достоверность таких пересказов, однако в других случаях, подобно Фольквину, считали возможным принимать их без всяких оговорок; еще Фруассар довольно безразлично пользовался слухами наряду с другими источниками[133]. Рассказы, образованные на основании «слухов», нередко служат для тенденциозного изображения фактов, например легенды, которыми окутана ранняя история христианской церкви, легенды о Карле Великом, о Фридрихе Великом, о Наполеоне I и т. п.[134] В таких случаях, однако, «слух» уже закрепляется в письменном предании, что и может задержать дальнейшее его искажение.
В самом деле, устное предание получает более или менее окончательную форму лишь по превращении его в письменное, если только само оно не подвергается дальнейшим метаморфозам в последующих его редакциях. Фруассар, например, закрепил в своей хронике многие рассказы своих современников Эспена (Espaing de Lyon), Спенсера, Брюса и других; но многие из таких рассказов подвергаются более или менее продолжительному обращению прежде, чем в виде повторяющихся пересказов попадают в письменное предание и закрепляются в нем[135].
Нельзя не заметить, однако, аналогичный процесс и в передаче письменных известий; один из участников в сражении при Сольферино рассказывает, например, что официальные донесения о нем, образованные, конечно, на основании множества свидетельских показаний, подверглись, однако, целому ряду изменений со стороны тех, через руки которых они проходили, пока они не достигли до начальника штаба и самого маршала, которые также не преминули «исправить» их, так что от первоначального их текста «почти ничего не осталось», и т. п.[136]
Все сказанное выше о свидетельских показаниях, известиях, пересказах, слухах и т. п., разумеется, относится и к источникам сложного состава. Даже «первоисточники» редко состоят из одних только свидетельских показаний; многие источники содержат преимущественно или исключительно одни только известия и пересказы, например история Тита Ливия, большие французские хроники, составленные Приматом и другими авторами в XIII—XV вв., наш «общерусский свод» 1423 г., не говоря уже о таких компилятивных сборниках, которые, подобно «Theatrum Europeum», передают много разных слухов и т. п.[137]
Ввиду того, однако, что такие источники заключают данные далеко не одинаковой ценности, изучение их генезиса становится еще более затруднительным: оно не всегда может привести к объяснению причин и мотивов их достоверности или недостоверности.
Вышеуказанные принципы и способы исследования достоверности или недостоверности источников применяются, конечно, в различной мере и в разных комбинациях, смотря по тому, к какому именно виду данный источник преимущественно относится. В той мере, например, в какой источник, принадлежащий к числу остатков культуры, содержит элементы исторического предания, он уже нуждается в критике показаний; автор дневника или письма, высказывающий в нем свои настроения, далеко не всегда оказывается искренним и может, например, льстить тому, для кого или кому он пишет; сочинитель автобиографии или мемуаров нередко поучает потомство, восхваляет или оправдывает себя и своих близких и, наоборот, принижает или осуждает своих врагов и их поступки; сооружающий надпись также придает ей один из таких оттенков и возвеличивает или умаляет чьи-либо деяния; дипломатический агент часто включает в свою депешу разные известия или передает слухи, подлежащие внимательной проверке, и т. п.[138] Само собою разумеется, что чем ближе источник к историческому преданию, тем более он требует такой же проверки. Составитель погодных записей или анналов, например, уже делает некоторый подбор интересующих его фактов и часто смешивает достоверное с недостоверным; подвергая такие сведения несколько более систематической обработке, летописец часто обнаруживает в своей хронике и то мировоззрение, под влиянием которого он писал ее; слагатель мифа или сказания или тот, кто передает их, часто прибегает к персонификации, концентрации или какой-либо иной переработке, что вызывает необходимость подвергать их в целом их объеме самой строгой критике, и т. п.[139]
Такие разнообразные оттенки следует, конечно, принимать во внимание при критическом изучении данного рода источников. Но общие его начала уже были рассмотрены выше, а изложение специального их приложения к каждому из таких типов порознь все же не удовлетворило бы запросов специальной историко-критической работы, в сущности, предполагающей исследование каждого отдельного случая; лишь подвергнув его детальному критическому рассмотрению, можно сделать достаточно прочный вывод относительно достоверности или недостоверности изучаемого показания, «вероятности» или «невероятности» изучаемого факта, а тем более целой совокупности показаний, образующих источник.
Возможны и такие случаи, когда историк в результате своего исследования должен отказаться от какого-либо окончательного вывода и не может произнести ни оправдательный, ни обвинительный приговор, но он не всегда способен оставаться в таком выжидательном положении. Ввиду естественного стремления поскорее успокоиться на каком-либо выводе, он часто не воздерживается от него, не удовлетворяется суспензивным суждением и, давая определенное заключение, впадает в ошибку. Такие заключения могут быть вызваны и недостатком критики, и ее избытком, т. е. «гиперкритикой»; но в обоих случаях они оказываются ошибочными, так как исследователь преждевременно ищет в одном из них разрешения своих сомнений, на которых он не хочет остановиться.
- [1] Впрочем, под «вероятностью факта» можно было бы разуметь и вероятность наступления ожидаемого факта или степень достоверности такого ожидания и придаватьсоответственно обратное значение «невероятности факта» или степени недостоверности его ожидания; но если историк имеет дело с наступившими фактами, то и критикаразбираемого вида должна изучать показания о таковых; понятие же о степени вероятности или невероятности нашего знания о факте по показаниям о нем сводится к понятию о степени вероятности или невероятности наших заключений о нем по таким показаниям. Ср. еще ниже, § 3 и отдел второй, глава 1.
- [2] James W. Principles. V. II. С. 612—613.
- [3] Coupin Н. Les enfants-loups; см.: La Nature. 1898. T. II. P. 90—91; известия о детях-волчатах были сообщены проф. М. Мюллером, сэром Р. Мерчисоном, В. Боллем (V. Ball), членом индийского геологического общества, ген. Слимэном, кап. Эджерто-ном, кап. Николетсом, г. Виллоком, разными миссионерами, например г. Эрардом, и другими очевидцами. Личность Рема считается позднейшею выдумкой, о чем см.:Mommsen Th. Gesammelte Schriften. Bd. IV. S. 1—21.
- [4] Naville Е. L’importance logique du temoignage; см. Seancts et travaux de l’Academiedes sciences morales et politiques. T. 128 (1887). P. 270. Слова, приведенные в кавычках, высказаны Руссо в его «Profession de foi du Vicaire Savoyard».
- [5] Свидетель может обнаружить некоторую разъединенность сознания даже в техспособах, какие он употребляет для выражения своих мыслей: вообразим, что человекзаявляет о своих чувствах привязанности к известному лицу, но в то же время сжимаеткулаки; такой двойственный способ выражения, пожалуй, показывает, что мысли свидетеля диспаратны, что он, вероятно, желает скрыть свои враждебные чувства в своемпоказании, но невольно обнаруживает их в своих жестах и т. п., и что, значит, его показание недостоверно. Известный криминалист Гросс в качестве судебного следователяпользовался таким приемом, не возводя его, однако, к принципу единства сознания, а только пользуясь выводами из него; но историк, конечно, лишь в редких случаяхможет оказаться в таком положении. См. еще: Claparede Е. La, psychologie judiciaireв L’annee psychologique. Par., 1906. P. 278.
- [6] Даже лгун в известном смысле все же одновременно может признавать ценностьистины; он сознает, например, что он лжет; или он рассчитывает на то, что его ложьбудет принята другими за истину и что для других она получит ценность истины;с такой точки зрения, всякая ложь есть самопротиворечие: лжец нарушает своею ложьютот самый принцип (признание ценности истины), на который он опирается в расчетена признание его лжи, например, касающейся интересующего его факта, ценностьюсо стороны других людей.
- [7] Dromard G. Essai sur la sincerite. Par., 1911. P. 4—5, 44, 48—49; впрочем, автор придерживается чисто психологической, преимущественно «интроспективной» точки зрения и едва ли достаточно обосновывает и развивает ее, а также очень мало заботитсяо доказательстве и об эмпирической проверке своих положений. Арнольд довольно ясновыразил значение такого критерия для историка в следующих выражениях: «first of allthen, in estimating whether any history is trustworthy or no, I should not ask whether it waswritten by a contemporary, or by one engaged in the transactions, which it describes, butwhether it was written by one who loves the truth with all his heart, and cannot endure error. For such a one, we may be sure, would never attempt to write a history if he had no meansof writing it truly; and therefore although distant in time or place, or both from the eventswhich he describes, yet we may be satisfied that he had sources of good information at hiscommand, or else that he would never have written at all…»; cm.: Arnold Th. Introductorylectures. P. 380.
- [8] Arnold Th. Introductory lectures. P. 399, 399—400. Впрочем, Тюреннь преследовалв своих записках и военно-педагогические цели.
- [9] Bernheim Е. Lehrbuch. S. 490, 491; здесь указания на соответствующую литературу;впрочем, и ассирийские надписи рассказывают только о более или менее блестящихпобедах ассириян, что, разумеется, вызывает сомнения в их достоверности; см.: Кие-пепА. Op. cit. S. 11.
- [10] Лейбниц уже указывал на значение свидетельских показаний для историка; см.:Daville L. Leibniz-historien. Par., 1909. Р. 465 et ss. Свидетель может, конечно, давать показание и о состоянии своего собственного сознания. Не поднимая здесь вопроса о том, в какой мере возможны состояния подобного рода совершенно независимо от данныхчувственного восприятия, хотя бы ранее бывших, я замечу только, что такое показание, кажется, может иметь двоякое значение: или оно становится своего рода свидетельским показанием, но скорее для психолога, чем для историка (ср. учение об историческом значении факта), или оно получает характер остатка культуры, а не показанияисточника о факте; произведение, которое показывает настроение своего автора, естьостаток культуры, применительно к которому разбираемый вид критики не применяется; но поскольку субъект судит об испытанных им состояниях своего собственногосознания, а не только переживает их, его суждение, разумеется, можно также называтьсвидетельским показанием.
- [11] Tacit. Ann., 1.1, С. 60, 61—62; Knoke F. Das Varuslager im Habichtswalde bei Stift Leedenс прибавя., 1896—1897; Eine Eisenschmelze im Habichtswalde bei Stift Leeden, 1901; EinUrteil liber das Varuslager in Habichtswalde gepriift, 1901; Das Schlachtfeld im TeutoburgerWalde, 1899; Das Varuslager bei Iburg, 1900 и др.
- [12] Gomme G. L. Folklore as an historical science. Ld., 1908. P. 112. Татуировка, впрочем, продолжает практиковаться и у более цивилизованных народов.
- [13] Piette Е. Notions complementaires sur l’Asylien // Rev. d’Anthropologie. T. XIV (1903).P. 641—653; в другой статье автор указывает еще на сходство азилийских начертанийс «кипрскими», также известными по надписям; ср. р. 162, 164, 165.
- [14] Coulanges D. Fustel de. Recherches, 2 ed. P. 294.
- [15] Bernheim Е. Lehrbuch. S. 540—541.
- [16] Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beitrage zur Psychologie der Aussage, II Folge. S. 15,16, 27, 28.
- [17] Arriani expedit. L. Ill, cap. 25 (rec. C. Muller, 1846); Grote G. History of Greece (Ld., 1870). V. XII. P. 78—79.
- [18] Clermont-Ganneau Ch. Op. cit. P. 13—14; cp. p. 21 и другие соч. о той же стеле; Платонов С. Очерки по истории Смуты, СПб., 1899. С. 148—149; ср. еще Кони А. Свидетелина суде // Проблемы психологии / под ред. И. Холчева. С. 132.
- [19] Бернгейм едва ли прав, рассматривая случай зависимости показания В по формеот показания, А как исключение из общего правила совпадения независимых показаний. Показание В может зависеть от показания, А не по содержанию, а только по формеего выражения, и все же может совпадать с показанием, А по содержанию, которое он, т. е. В, испытал независимо от А, в собственном своем чувственном восприятии; см.:Bernheim Е. Lehrbuch. S. 526.
- [20] MolinierA. Les sources, fase. V. P. XXIX, CXIII—CXIV.
- [21] См. Комментарий A. Wiedemann’a к II книге Геродота, труды К. de Lettenhoveо Коммине, А. Н. Веселовского и В. Ф. Миллера о былинах и др.
- [22] Совпадение показаний, которые оказываются результатом заимствования, может иметь значение для доказательства неподлинности заимствованных показаний, но не имеет значения для доказательства их недостоверности.
- [23] Lailler М., Vonoven Н. Les erreurs judiciaires et leurs causes. Par. P. 15.
- [24] Le Bon G. Psychologie des foules, 2 ed. P. 30—31, 33—34; там же и много другихпримеров.
- [25] Lailler М. et Vonoven Н. Op. cit. Р. 2, 18—19, 27—45, 50—51, 53—54, 80—85; УжеБинэ по другому поводу заметил: «й у a des questions qui, rien que par leur forme, sontde formidables machines a suggestions»; cm.: Binet A. La science du temoignage // L’Anneepsychologique. T. XI. Par., 1905. P. 129; cp. еще Schrenck-Notzing. Uber Suggestion undErinnerungsfalschung im Berchtold-Process. Lpz., 1897. S. 23, 29—30, 105, 109 и др.
- [26] Bernheim E. Lehrbuch. S. 528.
- [27] Fribourg A. Nouvelles experiences sur le temoignage // Rev. de Synthese Hist. T. XIV (1907). P. 164.
- [28] Fribourg A. Op. cit. // Revue de Synthese hist. T. XIV (1907). P. 167 (опыты Клапа-реда).
- [29] Bailleu Р. Die Memoiren Metternichs // Hist. Zeit. Bd. 44 (1880). S. 231.
- [30] Molinier A. Les sources etc. T. I. № 648, 679 и др.
- [31] Renan Е. Vie de Jesus. Par., 14-e ed. P. X—XII, XLVII—XCII, 477—541 и др.; cp.JiilicherA. Einleitung in das Neue Testament, 5—6 Aufl. Tub., 1906. S. 328 ff., 345 ff.; о некоторой зависимости Mt и Lc от Me см. ib. S. 306 ff.
- [32] Lindenschmidt L. Das Romisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz etc., 1889 и др.;Антонович В. Б. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музееуниверситета Святого Владимира. Киев, 1896; Hollander A. Die Kriege dei Alamannen mitden Romern in dritten Jahrhunperte nach Chr. Karlsruhe, 1874; здесь можно найти указания и на других писателей, сообщающих сведения об аламаннах, Геродиане, Евтропиеи т. д.; см. S. 8 ff.
- [33] Собр. гос. гр. и дог. Ч. II. № 60. Рус. ист. библ. XIII, изд. 2-е. С. 301, 475, 535,879—884, 901—910, 970 и др.; ср. Платонов С. Очерки по истории Смуты. СПб., 1899.С. 210—215, 592.
- [34] Mandrot В. de. Mdmoires de Philippe de Commynes // Collection de textes pour servira l’etude de l’enseignement de l’histoire. T. 33. Par., 1901. P. Ill, VI, XI, XXIX ss., XXXVII, LXVII, XCI—C.
- [35] Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beitrage, II Folge. S. 12; Binet A. La suggestibilite.Par., 1900. P. 283 et ss.; cp. любопытные примеры у LaillerM. et Vonoven H. Op cit. P. 72, 83,87—96. «Точность» старинных цифровых показаний также часто оказывается мнимой, не говоря уже об известной привычке выражать их в «круглых числах»; ср. «Проблемыпсихологии». С. 114, 124, 191 и ниже.
- [36] Lailler М. et Vonoven Н. Op. cit. Р. 15.
- [37] Надежное показание можно было бы назвать истинным в генетическом смысле, ненадежное — не истинным в генетическом смысле; ввиду черезмерной сложноститаких выражений и во избежание смешения понятий, которое возникало бы при сокращенном их употреблении, пришлось заменить их терминами, принятыми в тексте.
- [38] Такой запас обыкновенно превосходит материал, черпаемый из него для показания, что нетрудно заметить при сравнении самопроизвольных показаний в форме рассказа (Bericht) с показаниями, вызванными опросом свидетеля (Verhorsprodukt); см.:Stern W. Die Aussage, als geistige Leistung und als Verhorsprodukt (Beitrage zur Pychologieder Aussage, III Heft). Lpz., 1904. S. 10, 15, 61—63, 82—86.
- [39] Желание или нежелание знать истину, разумеется, нельзя смешивать с желаниемили нежеланием сказать правду: могут быть случаи, когда человек хочет знать истину, но не хочет выразить ее, не хочет сказать правду; ср. еще ниже, замечания о волевыхпоказаниях.
- [40] В недавно напечатанной статье Кемзис предлагает свою группировку разновидностей «знания, лежащего в основе показаний вообще и ложных показаний (Liigen) в особенности»; но полагая в основу своего деления истинное (richtige), ошибочное (falsch)знание и совершенное отсутствие знания в связи с уверенностью субъекта, что его знание истинно, ложно, сомнительно и т. п., автор статьи едва ли достаточно различаетустановление познавательной ценности показания от его генезиса; он также пренебрегает различием между импульсивными и волевыми показаниями, на мой взгляд, весьмаважным для изучения их генезиса, хотя и говорит, например, о воле «zur Unwahrheit», преувеличивает значение уверенности и т. п., которая скорее оказывается результатомоценки, какой показывающий подвергает свое показание, чем фактором его образования; в результате автор получает довольно искусственное деление показаний, в котором он, не вполне выяснив основные виды правдивых и неправдивых показаний, дробитих на мелкие разновидности числом до 27; см.: Kemsies Е Zur Einteilung der Liigen undAussagen // Zeit. fiir Padagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene, VIII Jahrg. Berl., 1905. S. 183—192. Cp. еще ниже.
- [41] СтифенДж. Очерк доказательственного права / пер. П. Люблинского. С. LXXXVIII—LXXXIX, 42 и след.
- [42] Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beitrage, II Folge. S. 13, 14; Его же. Die Aussageи проч. S. 32, 34, 49—52, 87; Binet A. La science du tdmoignaga // Ь’Аппёе psychologique.T. XI. Par., 1905. P. 133; cp. c. 687. Ввиду того, что малые количества предметов (например, 2—3) могут восприниматься непосредственно, ошибки в показаниях о них могутиметь и качественный, а не часто количественный характер; см.: Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beitrage, II Folge. S. 8. Ошибки в отождествлении личности не редки, пример чего см. у Laitier М. et Vonoven Н. Op. cit. Р. 73—80; под «признаками» лица разумеют сведения о внешнем его виде, костюме, позе, росте, облике и т. п.; см.: Larguierdes Bancels J. Op. cit., ib. P. 219, 224—225, 226—227.
- [43] MolinierA. Les sources etc. T. V. P. XXVII—XXX и LVI; cf. P. LXXXI—LXXXII.
- [44] Memoires du due de St.-Simon. T. I. Par., 1856. P. VI—VII, XXIV.
- [45] Stern W. Zur Psychologie der Aussage // Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissen-schaft. Bd. XXI (1902). S. 315—371. Cp. его же. Die Aussage и проч. S. 86—112. Авторприходит к заключению, что ошибочность свободно данного показания (spontaneBericht), т. е. отношение ошибочных данных к совокупности положительных данныхпоказания, в среднем составляет около 6%, и считает возможным признать «постоянство» такой «средней ошибки». В своей работе, посвященной тому же предмету, Врешнер приходит к заключению, что число ошибок, обнаруживающихся в показаниио виденном на картине, значительно больше того числа, которое было принято Штерном; см.: Wreschner A. Zur Psychologie, der Aussage // Archiv fiir gesammte Psychologie.Bd. I (1903). S. 174 и др. Cp., впрочем, ниже упоминаемые Beitrage, II Folge. S. 9; Larguierdes Bancels J. La psychologie judiciaire. Le temoignage // LAnnee psychologique. Par., 1906.P. 157—233. Beitrage zur Psychologie der Aussage издаются c 1903 г. под редакциейL. W. Stern’a, сборник «Проблемы психологии» — под ред. О. Гольдовского, В. Потемкина и И. Холчева. В. I: «Ложь и свидетельские показания». М. (без года) и др. До сихпор, однако, Бинэ, Штерн и другие исследователи, к сожалению, сосредоточивали своевнимание преимущественно на показаниях об объектах, существующих в пространстве, а не следующих во времени; между тем показания последнего рода всего более интересуют историка. Ср. «Проблемы психологии». С. 62—64, 82, 112, 157, 163, 249—258;Stern W. Die Aussage и проч. S. 5—6.
- [46] Sully J. Les illusions des sens et de l’esprit, 2 ed. P. 7, 12, 191.
- [47] Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beitrage, II Folge. S. 12. Присяга, между прочим, повышает внимание, с которым показание дается, а данное под присягой показание оказывается значительно более достоверным, чем показание, данное без присяги, Штернприходит к выводу, что ошибочность показания, данного под присягой, падает с 19%до 7%; см. ib. S. 9; ср. S. 23.
- [48] Lailler М. et Vonoven Н. Op. cit. Р. 74; о парамнезии см. исследования Рибо, Солье, Виньоли, Грассе и др.
- [49] Aulard А. Н. Taine, historien de la Revolution frangaise. Par. P. 13.
- [50] Larguier des Bancels J. Op. cit. P. 174, 206—208. Судя по опытам Штерна, «неверность» показания, т. е. процент ошибок в нем, возрастает даже довольно равномерно: относительно наблюдаемых им случаев он пришел к заключению, что «неверность"показания увеличивается ежедневно на 0,33%; ср. «Проблемы психологии». С. 47, 83,111, 243. Следует иметь в виду, однако, что показание, содержание которого беднеетпод влиянием времени, может сохранить то, что в нем более достоверного, и утратитьлишь то, что уже в самом начале представлялось более или менее смутно и показаниео чем не обладало достоверностью; в таком смысле, пожалуй, можно сказать, что верность показания может даже возрасти, но, разумеется, лишь на время, по прошествиикоторого и она все же падает; уверенность в верности хотя бы и неверного показания, по-видимому, не находится в столь тесной и прямой зависимости от времени, по крайней мере в тех пределах, какие принимались до сих пор при производстве опытов.Ср. еще RanschburgP. Op. cit. S. 36, 49, 74 ff.
- [51] Ribot Th. Les maladies de la memoire. P. 110.
- [52] ВаШеи Р. Die Memoiren Metternich’s // Hist. Zeit. Bd. 44 (1880). S. 228, 229, 230 и др.;Fribourg A. Op. cit. // Rev. de Synthesehist. T. XII (1906). P. 274; автор сличил автобиографию, написанную Меттернихом в 1829, 1844 и 1852 гг., с подлинными документами, письмами, реляциями и проч.
- [53] Pick A. Zur Psychologie der Confabulation; см.: Neur Centralblatt, XXIV Jahrg., 1905.S. 509—516; автор называет конфабуляцией стремление заполнить пробелы памяти поддельными продуктами воспоминания, главным образом, стремление локализироватьприпоминаемые представления в пространстве.
- [54] Fisher N. Modern historians // Fortnightly Rev., N. S. v. 56 (1894). P. 815; речь идето Froude’e.
- [55] Stem С. und W. Erinnerung, Aussage und Luge. Lpz., 1909. S. 103—107.
- [56] Stern W. Die Aussage проч. S. 94, 98; «Проблемы психологии». С. 163, 168.
- [57] Stern W. Wirklichkeitsversuche, ib. S. 28—29. Автор рассказывает, как студенты, знавшие, что нельзя уносить книг из семинарской библиотеки, засвидетельствовали, чтоодин из них при пользовании такой книгой, которую он унес с собою, будто бы положилее на место. Ср. еще «Проблемы психологии». С. 149.
- [58] Chladenius J. М. Op. cit. S. 120, 121.
- [59] Memoires du due de Saint-Simon, I. P. VII—VIII, XVIII—XIX.
- [60] Stern W. Wirklichkeitsversuche, ib. S. 15; Friboury A. Nouvelles experiences surle tdmoignage // Rev. de Synthese hist. T. XIV (1907). P. 162—165; автор ссылаетсяна опыты Клапареда, но не дает объяснения неудовлетворительности таких показаний.
- [61] Ulman Н. Kritische Streifziige in Bismarks Memoiren // Hist. Vierteljahrschrift, 1902.S. 73, 76. Cp. о дальнейшей литературе: Wolf G. Einfuhrung. S. 392.
- [62] Кони А. Свидетели на суде // Проблемы психологии. С. 129—132; ср. в том же сборнике с. 164.
- [63] Meringer R. und Mayer К. Versprechen und Verlesen. Stuttgart, 1895. S. 48, 69,151, 153. Авторы указывают и на другие виды ошибок, наблюдаемых при оговорках, но менее останавливаются на описках; о них см. с. 450. Ср. еще Фрейд 3. Op. cit., рус.пер. С. 37—69. Свидетель может также употреблять в своем показании более или менеепривычные и условные выражения своих мыслей, например «круглые цифры» или приветствия в начале письма, уверения в «совершенном уважении и преданности» в егоконце ит. п.; при «буквальном» понимании таких выражений, конечно, легко впастьв ошибку, но она совершается скорее толкователем показания, чем самим показывающим; см., например: Hirzel R. Uber Rundzahlen // Berichte iiber die Verhandl. der Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. Phil. — Cl. Bd. 73 (1885). S. 3—4, 69—70.
- [64] Firth С. Clarendon’s Rebellion // Engl, historical Review, v. XIX (1904). P. 260—262.
- [65] Stern W. Wirklichkeitsversuche, ib. S. 24, 25. Его же. Die Aussage и проч. S. 131. «Проблемы психологии». С. 118 и 190; ср. с. 249.
- [66] Laplace Р. Oeuvres. Т. VII. Par., 1886. Р. 455; здесь автор делит свидетельскиепоказания на такие, в которых «1е temoin ne trompe point et ne se trompe point» и т. д.;cp. Lacroix S. F. Traite elementaire du calcul des probobilites, 4 dd. Brux., 1835. P. 234. Нельзя, однако, принять схему Лапласа—Лакруа без существенных оговорок, сделанных выше, в тексте. Следует относить ее не к свидетельским показаниям вообще, а преимущественнок волевым показаниям, и при историко-критическом разборе их понимать истинув смысле фактического ее значения, в смысле того, что должно быть высказано о данномфакте для того, чтобы показание получило такое же значение; да и «незнание» свидетеляприходится принимать условно: ведь если «свидетель» сам действительно ничего не знаето факте из данных собственного восприятия, показание его, собственно говоря, нельзяназвать свидетельским; ср. выше, замечания о понятии «свидетель», и ниже.
- [67] Само собою разумеется, что с этической, а не чисто познавательной точки зрения, достаточно наличия намерения солгать, для того чтобы признать сказанное ложью;с последней точки зрения, и изучение генезиса показаний может получить иное направление.
- [68] Бузескул В.
Введение
С. 51—52, 54—55; Meyer Е. Forschungen. Bd. II. S. 362 ff., 379 ff. Хотя Фукидид и употреблял речи, но пользовался ими преимущественно в качестве художественного средства изображения для ознакомления читателей с общимиусловиями и обстоятельствами, при которых происходило действие, с мотивами действующих лиц и т. п. и отрицательно относился к преувеличениям и прикрасам.
- [69] Boissier G. Tacite. Р. 69, 79—80; ср. р. 91.
- [70] Sorel A. Lectures historiques, 2 ed. Р. 89, 93—95, 97.
- [71] Stern W. Die Aussage etc. S. 82—83, 87, 12A—130.
- [72] Кони A. Op. cit. // Проблемы психологии. С. 124.
- [73] BinetA. La description d’un objet/ZLAnnee Psychologique, 3-e annee. Par., 1897. P. 299,318—320.
- [74] Coustet Е. La photographie appliquee, а Г astronomie // Rev. Scient., 1908. Mars, 7.P. 302 и др.; с такой точки зрения, весьма поучительно, например, сопоставить рисункитуманных пятен, сделанных для научных целей от руки, с их фотографиями; оказывается, что в большинстве случаев такие рисунки не соответствуют фотографическимснимкам, разумеется, гораздо точнее воспроизводящим действительность, и представляют, за исключением разве некоторых спиралевидных форм, более или менее фантастический вид.
- [75] Binet A. Op. cit. // Ь’аппёе psycholgique, 3-е an. Р., 1897. Р. 302, 309, 313, 315—318,326—327; автор различает «1е type descripteur» от «1е type observateur»; представителипоследнего уже схватывают «сюжет сцены», а не только предметы, входящие в егосостав; см. ib. Р. 318—320, 327—328; см. еще «1е type erudit» — ib. Р. 323—324, 328—329.В вышеприведенной статье Кустэ замечает, что астрономы дают своим наблюдениям"une trop forte part d’interpretation personelle", чем и объясняет, например, что «deuxastronomes, installes a tour de role devant le meme astre, en donnent presque toujours descroquis tout a fait differents»; cm.: Coustet E. Op. cit., ib. P. 229.
- [76] Lehmann A. Aberglaube und Zauberei, deutsch von D-r Petersen. Stuttgart, 1898.S. 351—364.
- [77] Корелкин И., Григорович И., Новиков И., Герберштейн С. и проч. // Сбор. студ.СПб.-го университета. СПб., 1857. С. 22 и след.
- [78] Boissier G. Op. cit. Р. 41—42; Кн. М. Щербатов. Соч. Т. II. С. 138, 150, 185, 217 и др.
- [79] Ranke L. v. Werke. Bd. 34. S. 19—24.
- [80] Glagau Н. Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle. Marburg, 1903. S. 91,157, 162.
- [81] Cp. о различии между показанием свидетеля, констатирующего факт, и «мнением», которое признается «не относящимся», если лицо, высказывающее его, не вызванов качестве эксперта, в соч. Стифена Дж. Очерк доказательственного права / пер. П. Люблинского. С. LXXXII—LXXXIV, § 48—53; ср. с. 125.
- [82] BinetA. La description d’un objet // L’annee psychologique, 3-e an. Par., 1897. P. 320—322, 329; Laitier M. et Vonoven H. Op. cit. P. 34, 60—64, 527.
- [83] SorelA. Lectures historiques, 2 ed. P. 77, 81, 93.
- [84] HarnackA. Reden und Aufsatze. Bd. I. S. 55, 63, 77.
- [85] Nouv. biogr. generate. T. 37. R 448 (14) et ss.; Bailleu P. Op. cit., ib. S. 235 и др.
- [86] Boissier G. Tacite. Р. 86—88; Bailleu Р. Op. cit., ib. S. 245—248.
- [87] Eicken H. von. Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschaung. Stuttgart, 1887. S. 651—656.
- [88] Eicken H. V. Op. cit. S. 657—664. Впрочем, Видукинд гордился своим народом и прославлял его храбрость: он не охотно говорит о войне Карла Великого с саксами и, можетбыть, сознательно уклонился от упоминания о их уничтожении.
- [89] Molinier A. Les sources etc. Т. V. Р. CXLIII—CXLIV; Firth С. Clarendons History of theRebellion // Engl. Hist. Rev. V. XIX (1904). P. 28—29, 38, 249 и др.; Slovak A. La batailled’Austerlitz, documents inedits etc. trad, de Leroy Daragon, 1908; Богданович M. Ист. отеч. войны 1812 г. Т. III. С. 305—306.
- [90] Ranke L. vor. Werke. Bd. 34. S. 33—36, 45—49; Serel A. Lectures historiques, 2 ed.P. 111—112.
- [91] Такое широкое понимание термина «ложное показание» может вызвать возражения; уже Августин писал: «Non est ergo mendacium cum silendo absconditur verum, sed cumloquendo promitur falsum»; Augustinus A. Lib. contra mendacium; у Migne. P. L. T. 40. P. 533.C. 23. А если свидетель хочет сказать неправду, для чего и замалчивает правду, он в сущности уже дает ложное показание, по крайней мере в том смысле, что он произвольноизменяет соотношение оставшихся в нем элементов. Ср. Duprat G. L. Le mensonge. Par., 1909. P. 23, 25.
- [92] Schulz M. Op. cit. S. 58; речь идет о Вильгельме Тирском, известном историке крестовых походов.
- [93] Ulmann Н. Uber den Wert diplomatischer Depeschen als in schichtsquellen. Lpz., 1874.S. 4 и др. Официальные издания, известные под названием «синих», «красных», «желтых», «зеленых», «белых» книг и т. п., также отличаются пробелами подобного рода;ср. Einfiihrung G. W. S. 729—731.
- [94] Любович Н. Наполеон в Варшаве в 1812 году. Варшава, 1912. С. 11. Ср. ещеFournier A. Napoleon I. Bd. III. S. 100—102; Богданович M. История царствования Александра I. Т. III. С. 366.
- [95] В казуистической иезуитской «морали» отрицание истины, благодаря «reservatiomentalis», или «доктрине экивоков», признается дозволенным средством. Саншец писал:"Можно клясться, что не сделано того, что было сделано в действительности, если втихомолку подразумевать, что оно не сделано в известный день или до времени своегорождения", ничем, однако, не проявляя такого ограничения мысли и т. п.
- [96] Ulmann Н. Op. cit. S. 4, 7—8, 10; Богданович М. Op. cit. Т. III. С. 364, 366; ср. ib., прим. С. 48.
- [97] Macaulay Th. Biographical essays. Tauch. ed. P. 195—198; ср. там же. P. 198—199.
- [98] Проблемы психологии. С. 141—142, 144. Лжесвидетели могут, конечно, сообщатьи чужие показания (т. е. известия) под видом своих собственных «свидетельских» показаний, не входя в рассмотрение достоверности или недостоверности таких известий.
- [99] Dozy R. Recherches sur l’histoire et la literature de l’Espagne. T. II, 2 ed. Leyde, 1881.P. 372, 407—408.
- [100] Thierry A. Op. cit. P. 196, 254 et ss. Ввиду тесной связи, какая оказывается междулживым показанием и подделкой, мотивы его образования и его значение уже былиразобраны выше, в учении о подделке исторических источников; см. с. 464—480.
- [101] Diderot D. Oeuvres. Т. I. Par., 1875. Р. 302, 306.
- [102] Крамер А. Влияние душевных болезней и смежных с ними состояний на качествосвидетельских показаний // Проблемы психологии. С. 179, 183, 188, 193, 194, 196;ср. Ribot Th. Les maladies, de la volonte, 27 ed. P. 50.
- [103] Wallon H. Jeanne D’Arc. Par., 1877. P 238, 271 и др.; Якобий П. Иоанна Дарк // Вест.Евр. 1909, июнь. С. 479 и след.
- [104] Проблемы психологии. С. 128—129; Ribot Т Les maladies de la volonte. P. 129—135;Соловьев В. Сведенборг // Энц. слов. Ф. Брокгауза и Евфрона. Т. XXIX. С. 76, 77 и 79.
- [105] James W. The principles of psychology, v. II. P. 117; Sully J. Les illusions des senset de l’esprit, 2 ed. P. 2—3. Впрочем, ошибочным в иллюзии оказывается не то, что непосредственно дано, а то, что из него выводится; ср. James W. Op. cit. V. II. Р. 86. См. еще замечания о помешанных, эпилептиках и страдающих истерией в Duprat G.-L. Le Mensonge.Par., 1909. P. 3A—46 и др.; дегенераты бывают иногда «болезненно правдивыми», а иногда и «неисправимыми лжецами»; см. ib. Р. 47—51. О различии понятия длительностиу больных см. в Ranschburg Р. Op. cit. S. 42.
- [106] Renan Е. Les apotres. Par., 1866. P. 175—183. Mdmoires de Luther, ecrits par lui meme, traduits et mis en ordre par J. Michelet. T. n. Brux., 1840. P. 156—183; о сравнительномпреобладании галлюцинаций того, а не иного рода у субъекта в болезненном состоянии см.: Sully J. Les illusions etc. P. 86.
- [107] Bailleu Р. Op. cit. // Hist. Zeit. Bd. 44 (1889). S. 232 ff.; о показаниях, возникающихпод влиянием чужого внушения, см. ниже.
- [108] Sully J. Les illusions etc. P. 52—67, 83; Memoires de Luther. T. I. P. 97—98.
- [109] Крамер A. Op. cit., ib. C. 177, 190—192; Wundt W. Volker psychologie. Bd. I, 1. S. 501—508; Meringer R. und Mayer K. Op. cit. S. 121 ff.
- [110] Teste A. Le magnetisme animal explique. Par., 1845. P. 54—55.
- [111] Lailler М. et Vonoven Н. Op. cit. P. 60—69; хотя авторы и не дают общей постановкипроблемы генезиса показания, но приводят немало примеров того значения, какое знание биографии свидетеля имеет для правильной оценки судьей его показания.
- [112] Кони А. Там же // Проблемы психологии. С. 120—121; впрочем, автор говоритлишь об «эготической памяти». Ср. Sorel A. Lectures historiques. Р. 36. Об аналогичномотношении к газете см.: WolfG. Einfurung. S. 324.
- [113] Меспеске F. Zur Geschichte Bismarks // Hist. Zeit. Bd. 87. S. 26, 27, 33.
- [114] Duprat G.-L. Le Mensonge. Р. 73 (о влиянии страха на детские неправдивые показания); Хомяков А. Сочинения. Т. VIII. С. 172. Автор имеет в виду свою статью об Англии.
- [115] Binet A. La Sugestibilite. Par., 1900. Р. 246—247; ср. р. 287; Larguier desBancels J. Op. cit., ib. P. 184—190. Хотя историк обыкновенно имеет дело с произвольными показаниями, не вызванными вопросами, однако он должен иметь в виду, чтотакие «произвольные показания» сами могли возникнуть иногда путем опроса свидетелей, показания которых записывались и выдавались за произвольные, хотя могли ужебыть результатом того внушения, какое оказывает тот, кто ставит вопросы, на того, кто отвечает на них; в случаях подобного рода даже интонации или жесты допрашивающего уже могут влиять на характер ответа; последний, правда, может быть полнеепроизвольного показания, но легко становится и менее достоверным; впрочем, восприимчивость ко внушению, очень заметная у детей, с течением лет убывает. Ср. работыBernheim Е. Suggestion et persuasion // Rev. Scient. 1905, Mars 4; Елистратов А. и Завадский А. О влиянии опросов без внушения на достоверность свидетельского показания. Казань, 1905 и Stern W. Die Aussage. S. 44—45, 62, 67—77.
- [116] Lehmann A. Aberglaube und Zauberei / nep. Petersen. Stuttgart, 1898. S. 91—95,99—101. Cp. Snell O. Hexenprocesse und Geistesstorung, 1891; Soldan W. Geschichte derHexenprozesse, neu bearb. von Heppe. Stuttgart, 1880. Bd. 1—2.
- [117] Hansen J. Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter. Miinchen und Lpz., 1900. S. 113 и др. «Слово и дело государевы», материалы изд. под ред. Н. Новомберг-ского. Томск, 1909—1911. Т. I—II и др. В числе вынужденных показаний можно отметитьеще такие, которые возникают путем законного принуждения; по мнению некоторыханглийских юристов, например, и врачи и (вероятно) духовные лица могут быть принуждаемы к открытию сообщений, сделанных им конфиденциально при отправлениипрофессии (см.: Стифен Дж. Op. cit. Р. 125); но такие специальные случаи не представляются особенно характерными для рассматриваемого рода показаний и едва ли частовстречаются в области исторических разысканий.
- [118] HarnackA. Legenden als Geschichtsquellen // Reden und Aufsatze. Bd. I (1904). S. 14;другие примеры собраны там же. S. 13—16.
- [119] Chladenius J. М. Op. cit. S. 297, 301; в шестой и седьмой главах своего труда автордает и до сих пор еще небесполезное обозрение тех разнообразных метаморфоз, которым рассказ часто подвергается при его передаче; см. S. 115—202. Ср. выше, о разновидностях неумышленных ошибок, с. 451. Средневековые писатели отмечали, например, вслед за Иеронимом, что «aliter enim narrantur visa, aliter audita» (Regino v. Prurn), что"soient enim visa auditis notiora esse cordique tenacius adhaerere" (Anonymus Haserensis) ит.п.; cm.: Schulz M. Die Lehre von der historischen Methode bei den Geschichtsschreibern desMittelalters. Berl. u. Lpz., 1909. S. 17, 18, 22. Ошибки часто оказываются, например, припередаче имен собственных и цифровых показаний, о чем см.: Boekh A. Encyklopaedie.S. 208.
- [120] MeringerR. und Mayer К. Op. cit. S. 101,152,157, 220; Schlozer A. L. Nord. Geschichte. Halle, 1771. S. 106—108; Ptolemaer C. Geographia X, 8, 12; rec C. Mullerus. Par., 1883. V. I.P. 428, 918.
- [121] Проблемы психологии. С. 90—91. Hist. Zeit. Bd. 95 (1905). S. 228 ff.
- [122] Шилъдер Н. История императора Александра I. Т. III, 108—109.
- [123] Vedel V. Heldenleben. Lpz., 1910. S. 22, 91, 94, 97.
- [124] Schulz М. Op. cit. S. Ill и др. Процесс «сгущения» мысли замечается также в техслучаях, когда рассказ или басня превращается в пословицу, т. е. когда все ее типическоесодержание сосредоточивается в пословице, или когда конечное ее изречение путемее инверсии получает такой же характер. Простонародная пословица «Счастье лучшебогатырства» возникла, по предположению одного из наших исследователей, из сказкио Фомке Беренникове, который оказался счастливее богатырей Ильи Муромца и АлешиПоповича; но в таких случаях содержание рассказа уже теряет свой конкретный характер; см.: Потебня А. Из лекций по теории словесности. Харьков, 1894. С. 86 и след., 93 и след.; Иконников В. Опыт. Т. II. С. 1520—1526.
- [125] BernheimE. Lehrbuch. S. 488—490; автор называет такие пересказы «Nachbildungen».
- [126] Thierry A. Op. cit. Р. 20—22.
- [127] Stern W. Op. cit. // Zeit. fur gesamte Strafrechtswissenchaft. Bd. XXII. S. 326—365(конкретный опыт подобного рода переделки).
- [128] Vedel V. Heldenleben. Lpz., 1910. S. 24; cp. S. 32, 33; Gomme G. L. Op. cit. P. 148—149,150.
- [129] Schulz M. Op. cit. S. 110—111. Целый эпос или роман может дать пословицу, а пословица может сократиться до одного слова вроде «сдуру», «везет» и т. п.;ср. ПотебняА. Там же. С. 102, 111.
- [130] Hartland S. The Science of fairy tales. Ld. (1891). P. 12—13, 16 ff.;Mommsen Th. Gesammelte Schriften. Bd. IV. S. 1—21.
- [131] Le Bon G. Psychologie des foules, 2 ed. P. 27—37.
- [132] Хомяков А. С. Сочинения. T. VIII. C. 289—290, прим. И. С. Аксакова.
- [133] Schulz М. Op. cit. S. 36—38.
- [134] HarnackA. Legenden als Geschichtsquellen // Rede und Aufsatze. Bd. I (1904). S. 6 ff.
- [135] MolinierA. Op. cit. P. CXXXVIII—CXXXIX; cp. P. LXXX.
- [136] Le Bon G. Op. cit. P. 35.
- [137] MolinierA. Les grandes chroniques de France // Etudes d’histoire du Moyen age, dedieesa Gabriel Monod". Par., 1896. P. 307—316.
- [138] Ulmann Н. Op. cit. S. 5; здесь можно припомнить, например, донесения папскихнунциев и венецианских послов XVI—XVIII столетий; о них см.: Wolf G. Einfuhrung.S. 605—613, 620—621.
- [139] Bernheim E. Lehrbuch. Кар. IV, § 4, 1. S. 465—506. Впрочем, автор смешивает здесьнесколько задач, а именно: 1) исследование генезиса показаний, основное теоретическое значение которого для настоящего отдела все же слишком мало выяснено им;2) приложение такого исследования к историческому материалу в зависимости от егоразновидностей и 3) значение их для исторического построения, о чем см. ниже, главапятая.