Магия слова в представлении Андрея Белого и Павла Флоренского
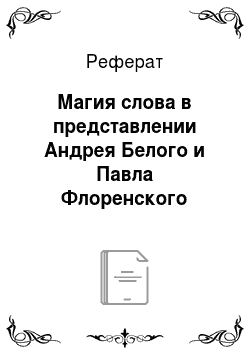
Еще ранее Флоренского о магии слов в статье с таким же названием писал Андрей Белый. Общее у Белого и Флоренского — в утверждении преобразующего воздействия слова (а мы добавим от себя, и книги) на мир. Но Белый понимает под этим создание особой «третьей действительности», отличной как от объективного бытия, так и от чистой человеческой субъективности, и воплощенной в слове. Этим понятным образом… Читать ещё >
Магия слова в представлении Андрея Белого и Павла Флоренского (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Сходную аналогию между словом и произведением искусства уже в XX в. развивал Павел Флоренский. Но в его работе, носящей такое же, как и книга А. А. Потебни, название «Мысль и язык», развивается характерная для русской эстетики и философии языка Серебряного века идея магичности слова, впервые высказанная еще И. Кантом.
Еще ранее Флоренского о магии слов в статье с таким же названием писал Андрей Белый. Общее у Белого и Флоренского — в утверждении преобразующего воздействия слова (а мы добавим от себя, и книги) на мир. Но Белый понимает под этим создание особой «третьей действительности», отличной как от объективного бытия, так и от чистой человеческой субъективности, и воплощенной в слове. Этим понятным образом мира, как щитом, человек ограждает себя от абсолютно чуждого ему реального бытия. «Стремясь назвать все, что входит в поле моего зрения, я, в сущности, защищаюсь от враждебного, мне непонятного мира, напирающего на меня со всех сторон; звуком слова я укрощаю эти стихии; процесс наименования пространственных и временных явлений словами есть процесс заклинания; всякое слово есть заговор; заговаривая явление, я, в сущности, покоряю его», — пишет Белый[1].
В нашем обыденном, нефилософском сознании это представление реализуется, скажем, в понятии «книжный мир», которым нередко отгораживаются от действительности поклонники Дж. Толкиена, называющие себя «хоббитами», фанаты книг о Гарри Поттере и т. д.
В понимании Флоренского, слова, как основные орудия магии, тоже создают стену между человеком и действительностью, но она не прячет мир от человека, а, напротив, способствует проникновению, «ввинчиванию» энергии человека в определяемый словом предмет, слиянию с ним, освоению его изнутри, и таким образом происходит подчинение объекта человеку. Слова (а мы скажем — книги) синтезируют в себе энергии человека и «заклинаемого» им мира.
Нельзя не отметить, что отец Павел Флоренский, будучи православным священником, утверждая подобное, вступил на стезю, ведущую в мир «темных сил», запретный для христианина. На заседании религиозно-философского общества имени Вл. Соловьева, где отец Павел выступил с докладом «Магия слова», его спросили, почему он употребляет слово «магия»? Его ответ сводился к тому, что, сознательно употребив это слово, он включил не только христианское, но и языческое миропонимание и понимание магии. «Магия — лишь общение человека с кем-то — будь то светлые или темные силы. И лишь часть того, что в этом смысле можно назвать „белой магией“, соответствует христианству с его таинствами. Поэтому я сознательно употребил и употребляю слово „магия“, вкладывая в него и положительный, и отрицательный смысл»[2].
Религиозный человек, творя молитву, стремится к диалогу с Богом, понимаемым как свободная личность, и ни для какой «магии» здесь не может быть места. Бог откликается на молитву верующего человека, но как именно Он откликнется, зависит от Его воли, а не от произносимых в молитве слов. Магическая же установка в общении человека с запредельным миром предполагает наличие жестких причинно-следственных отношений: словесная формула или магический обряд с необходимостью влекут за собой желаемый магом результат. Это не просьба, и даже не приказ, это действие, приводящее в движение некий механизм. «Убеждение в магической силе слова на протяжении веков и тысячелетий составляет всеобщее достояние народов самых различных, и едва ли можно указать хотя бы один народ и хотя бы в одно время своего исторического развития, который бы не имел живейшей веры в магическую мощь слова», — пишет Флоренский[3].
Он же отмечал особую значимость слова, звучащего при богослужении, отмечая, что замена «единых славянских слов русскими, потом целых выражений и, наконец, целиком русская речь» ведет в конечном итоге к фальсификации богослужения. Эти суждения, прямо связанные с ведущимися на Поместном соборе 1917—1918 г. и после него дискуссиями о возможности перехода православного богослужения на русский язык, дали толчок к размышлениям о связи внешней, физической и внутренней форм слова, о необходимости различения которых говорил А. А. Потебня. Но Флоренского интересует не столько различение, сколько связь между этими формами, которые он уподобляет телу и душе человека.
Такого рода антропологический, т. е. основанный на сущности человека подход к слову, владение которым, собственно, и определяет эту сущность, закономерно подводит Флоренского к мысли о книге.
«Что такое книга?» — задается он вопросом. И отмечает возможность двух разных ответов на него. Один из них относится к ее внешности или «телу», которое можно определить как некоторое количество бумаги известного формата, переплетенной и несущей на себе определенные черточки и т. д, но ничего не говорит о ее «душе» или Высшем бытии, «которое именно и характеризует понятие о книге как об одном из осмысленных способов выражения и закрепления человеческой мысли». Связь между «душой» и «телом» книги необъяснима, а «что она существует — это очевидно и бесспорно», — заключает философ.
Отсюда он делает вывод, что и у слова есть «тело», которое нельзя считать чем-то ничтожным. На самом деле связь между ним, т. е. звуковой формой, и смыслом должна быть также очевидна и бесспорна[4].
Поиск этой связи стал одной из главных задач как философии, так и поэзии Серебряного века.