Тенденции эпистолярной и мемуарной прозы К.Н. Леонтьева
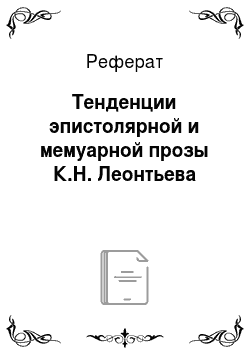
В письме к Ф. П. Леонтьевой от 10 января 1855 года Леонтьев коснулся своей повести «Лето на хуторе» (1852−54, опубл. 1855). Он беспокоился, что цензура не пропускает ее, так как «ни Тургенев, ни Краевский не пишут ни слова» о судьбе данной вещи. В «Моей литературной судьбе» и «Моих делах с Тургеневым.» автор указал только, что он писал и печатал «Лето на хуторе», причем осудил эту повесть. Теперь… Читать ещё >
Тенденции эпистолярной и мемуарной прозы К.Н. Леонтьева (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Тенденции эпистолярной и мемуарной прозы К.Н. Леонтьева
Роль эпистолярных и мемуарных произведений в творчестве К. Н. Леонтьева (1831−1891) необходимо оценивать с учетом разнородности жанров, в которых работал этот автор. Наиболее ранние опыты Леонтьева (стихи, драматургия, художественная проза) можно датировать началом 1850-х годов. Из них сохранились немногие [см.: 8: I, 601−609]. При содействии И. С. Тургенева, А. А. Краевского и М. Н. Каткова Леонтьев стал печататься. С 1854 года, появлялись его публикации (в основном малая проза, а также комедия «Трудные дни», 1858).
На рубеже 1850−60-х годов Леонтьев углубленно работал над романом «Подлипки» (опубл. 1861). Тогда же он писал критические статьи («Письмо провинциала к г. Тургеневу», 1860; «По поводу рассказов Марка-Вовчка», 1861). Позднее, помимо повествовательной прозы (романы, повести, рассказы) и литературной критики, Леонтьев занимался публицистикой на религиозные, культурные и политические темы. Первым дошедшим до нас опытом писателя в мемуарном жанре оказался очерк «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» (1869, опубл. 1915). Все указанные направления интенсивно развивались в 1870−80-е годы.
Чтобы соотнести с этой картиной тенденции эпистолярной и мемуарной прозы Леонтьева, надо учесть сложный характер взаимодействия тем и жанровых особенностей в его творчестве.
Письма и мемуары прямо отображают факты биографии их автора. Это общая черта таких произведений. Но и в художественной прозе Леонтьева востребована автобиографическая основа. Писатель использовал в творческих целях факты своей жизни и черты из жизни своего окружения. Это осветил Ю. П. Иваск [6]. По мнению О. Е. Майоровой, «Леонтьев относился к тому типу художников, которые всегда нуждаются в том, чтобы каждый поворот судьбы, каждое значимое событие отражались в слове. Потребность в автоконцепции у него была настолько сильна, что служила мощным и, может быть, даже ведущим творческим импульсом. Ведь почти вся его проза это развернутая автобиография, почти все его письма и воспоминания — это довольно правдивая исповедь» [11: 70]. Однако данная мысль носит общий характер. Когда мы обращаемся к более частным «письмам и воспоминаниям» Леонтьева, перед нами предстают неоднородные воплощения его «творческого импульса».
Письма Леонтьева часто перерастали роль «бытового документа» (термин Ю. Н. Тынянова: [14: 265]). Автор затрагивал в них не только повседневные частные дела. Так, в письме к Н. Н. Страхову от 20 мая 1863 года Леонтьев писал о своих отношениях с А. А. Григорьевым как с редактором журнала «Время» и газеты «Якорь». При этом Леонтьев сообщил Страхову о своих достижениях в литературной критике и планах в сфере публицистики. Отсюда автор перешел к своим идейным приоритетам, изложенным в виде тезисов [10: 4142]. За счет данного изложения в письме появился публицистический элемент. Можно сказать, что здесь уже не «исповедь», а скорее «проповедь».
Притом суждения на идейные темы заняли значительное место и в более поздней переписке Леонтьева. Яркие примеры подобных суждений можно найти в его письмах 1880−90-х годов к А. А. Александрову, И. И. Фуделю, В. В. Розанову. Видимо, надо учитывать значение данного процесса при анализе эпистолярной прозы Леонтьева. В этой связи отметим исследовательскую позицию С. Г. Бочарова, который востребовал письма Леонтьева к А. А. Александрову как ресурс эстетических и религиозных идей автора [см.: 1, по указателю имен].
Но Леонтьев придавал эпистолярную форму критическим статьям («Письмо провинциала к г. Тургеневу»), а также публицистике («Письма отшельника», 1879; «Национальная политика как орудие всемирной революции», 1888, и др.). На описанном фоне важно, что в конце 1860-х годов Леонтьев написал очерк, в котором объединились мемуарный и эпистолярный жанры. Это все те же «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве», созданные в виде письма к Страхову. Но специфика текста не сводится лишь к данному приему. В основу «воспоминаний» Леонтьева легли факты его встреч и дальнейшего общения с Григорьевым в Петербурге в 1863 году. Леонтьев не напоминал Страхову о деталях, перечисленных в письме к нему же от 20 мая 1863 года [см. об этих источниках также: 4]. Автор предпочел высказать свои «мысли» о значении наследия и личности Григорьева. Делая это, Леонтьев создал определенный идейный посыл и ввел в текст публицистический элемент.
С первых строк очерка Леонтьев делится своими давними впечатлениями от критических статей Григорьева начала 1850-х годов. Передача этих впечатлений достаточно быстро уступает место выводу: «Апол. Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале: его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности» [8: VI, кн. 1, 8]. Рассказ о частных мнениях мемуариста сменяется обобщенными оценками «идеала» Григорьева. Это прямо показывает, что мемуарный текст формировался в ходе решения идейных задач. Поэтому в текст воспоминаний вошло публицистическое изложение, при помощи которого писатель интерпретировал идеи героя.
В мемуарном сочинении «Моя литературная судьба» (1874, опубл. 2003) Леонтьев описывал автобиографические коллизии. В произведении «Моя литературная судьба 1874−75 года» (1875, опубл. 1935 [см. также варианты заглавия: 8: VI, кн. 1, 72, 817; кн. 2, 184, 305]) публицистический элемент определяет часть текста, где Леонтьев описывал свои споры с И. С. Аксаковым. При этом надо оговорить взгляды О. Е. Майоровой, а также В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко, согласно которым обсуждаемые сочинения взаимосвязаны [11: 71−73; 8: VI, кн. 2, 257], что не отменяет описанных нами различий.
Из наиболее поздних мемуарных текстов Леонтьева, где автор задавал приоритет идейных задач и публицистических мотивов, выделяется «Воспоминание об архимандрите Макарии…» (1889). В нем Леонтьев ставил чисто религиозные вопросы, на которые сам же и стремился твердо ответить. В связи с этим текстом О. Е. Майорова указала: «Здесь сконцентрированы хорошо известные идеи позднего Леонтьева, его представления о самой сущности христианства.. Здесь с отчетливостью слышен голос автора „Наших новых христиан“ — Леонтьев отдает отцу Макарию свои идеи, подставляет себя на его место» [11: 82, 83]. Этому подчинена и автобиографическая основа текста. В числе сходных мемуарных сочинений можно отметить очерк «Мое обращение и жизнь на Св. Афонской горе» (1889, опубл. 1900).
Итак, идейная тематика прямо сближает письма Леонтьева с его мемуарами, придает и тем, и другим публицистический стиль, наконец, просто роднит их с публицистикой как с жанром. В этой связи принципиально важны свойства авторского кругозора Леонтьева. Вернемся к тому, что он освещал в своих письмах все же не только факты, связанные с идейной жизнью, но и свои частные обстоятельства. Стоит проследить за логикой соотношения тех и других.
18 мая 1855 года Леонтьев, тогда участник Крымской войны, писал своей матери, Ф. П. Леонтьевой: «Пока все благополучно, милый друг мой. Керчь сдана неприятелю — это правда. Еникале взят. Но войска отступили вглубь полуострова, и я со своими донцами живу на биваках. Не беспокойтесь за мое здоровье; от простуды я предохранил себя, за седлом у меня ездит теплая шинель и большие сапоги на гуттаперче. А усталости я не чувствую никакой; скорее даже отдыхаю в этой свободе на чистом воздухе после гошпитальной жизни» [10: 30]. Общезначимые факты (ход военных действий) сменяются описанием частных дел автора, доведенным до мелкой детализации. В письмах к менее близким лицам Леонтьев выдерживал ту же субъективную манеру описания.
Исследуя письма Леонтьева к Е.С., О.С. и Ю. С. Карцовым, приходящиеся на вторую половину 1870-х годов, Ю. П. Иваск поставил вопрос о смысле «афоризмов и настроений, очень уж прихотливых, но высказанных безо всякой претензии» в этих письмах. Следовал вывод о творческой манере Леонтьева: «Это его стиль; он один умел так перескакивать с одного предмета на другой; от искусства и молитвы — к „отличному кофе“; или от арфы, котлет — к всенощному бдению!» [6: 476]. С учетом этого вывода можно допустить, что субъективизм и детализация свойственны письмам Леонтьева точно так же, как и публицистический элемент. Вопрос о соотношении последнего с описаниями бытовых деталей и коллизий уместно решать при изучении конкретных писем или эпистолярных циклов.
Но если обратиться к мемуарным текстам писателя конца 1860-х — первой половины 1870-х годов, то все они начинаются с заявок на личный, даже субъективный подход к явлениям. А это вновь сближает мемуаристику Леонтьева с его письмами. Приведем цитаты.
«Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве». Начав с обращения к Страхову как к условному адресату («М.Г.», то есть «милостивый государь»), Леонтьев перешел к первой строке таким образом: «Незадолго до кончины Ап. Григорьева я познакомился с ним. — Имя его я знавал и прежде» [8: VI, кн. 1, 7]. Субъективизм автора просматривается именно в эпистолярной формуле.
«Моя литературная судьба» начинается с фразы: «Мне был 21-й год, когда я написал комедию „Женитьба по любви“» [8: VI, кн. 1, 27]. Следующая фраза — «Я сказал, что учился тогда медицине» [8: VI, кн. 1, 27] - могла бы поставить читателя в тупик, если не считать, что тексту предшествовали другие главы. Однако факт их наличия не установлен. Высказывалось мнение, что «для них могли использоваться написанные в конце 1870-х гг. „Воспоминания о Ф. И. Иноземцове.“» [8: VI, кн. 2, 277]. Но тогда встает вопрос, как последние предваряли «Мою литературную судьбу», написанную Леонтьевым «после выхода в отставку в 1874 г. [8: VI, кн. 2, 276]. Может быть, это связано с авторскими замыслами 1889−90 годов, «когда Леонтьев задумал отдельное издание своих воспоминаний» [8: VI, кн. 2, 277, 258−260; ср.: 11: 80]. В обсуждаемом случае изложение личных обстоятельств автора «Моей литературной судьбы» туманно. Несмотря на это, оно задает тон всему дальнейшему тексту.
«Моя литературная судьба 1874−1875 года». Здесь принципиально важна вводная фраза: «Посвящается друзьям и поручается С. П. Хитровой (Хитрово — С.Д.)» [8: VI, кн. 1, 72]. Имеется в виду дружеский круг, сложившийся близ Леонтьева «в годы его дипломатической службы в Турции» и знакомый с делами писателя. О. Е. Майорова выделила в этом кругу фигуры С.П. и М. А. Хитрово, К. А. Губастова и Е. А. Ону [11: 71, 73, 74]. Обстоятельства, излагаемые далее, видимо, были полностью понятны именно близким людям. Текст, как и предыдущий, действительно выглядит отрывком из обширного сочинения и начинается так: «Из Калуги, по окончании всех дел по имению, мы с Георгием в Ечкинском тарантасе доехали до Ивановской станции, оттуда по железной дороге до Москвы» [8: VI, кн. 1, 72. См. коммент.: кн. 2, 307−310].
Итак, в приведенных текстах наблюдается субъективный подход, связанный с описанием неких фактов биографии автора. Детализация в последнем случае осложнена тем, что не все вещи поясняются в тексте. Налицо «недоговоренность, фрагментарность, намеки», то есть те «явления», которые Ю. Н. Тынянов считал присущими жанру письма [см.: 14: 265]. О. Е. Майорова рассмотрела мемуары Леонтьева середины 1870-х годов «в контексте эпистолярных бесед с К. А. Губастовым, С. П. Хитрово, Е.А. Ону». Это позволило определить «природу» «воспоминаний, более похожих на письмо, чем на мемуар — и по доверительности тона, и по конкретности адресата, и по способу функционирования (текст первоначально для печати не предназначался, был отправлен, хранился и читался в кругу друзей)» [11: 74].
Другими словами, субъективизм Леонтьева сложился при обращениях писателя к узкому, определяемому им же самим кругу читателей. С последними можно было говорить откровенно, вне зависимости от жанровой формы обращений. В то же время этим читателям можно было не напоминать обо всех без исключения деталях жизни автора.
Но роль деталей была важна и при описании других лиц. В очерке «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» Леонтьев рассуждал: «Когда я хочу знать биографию лица, мне недостаточно отчета о его общественной деятельности, — я хочу знать все его слабости, все пороки, все домашние дела, все его привычки, всю анекдотическую часть его жизни. Представляя себе Наполеона 1-го, я думаю не только о Маренго, Аустерлице, Бородине и Пирамидах, об административной энергии его, об его законодательстве и т. п. вещах, — нет, — я интересуюсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он был хуже собой, чем в зрелости и т. п.» [8: VI, кн. 1, 20].
Леонтьев нашел, что в таком любопытстве уже со стороны публики «есть как бы научное предчувствие». В связи с этим автор «желал, чтобы друзья Ап. Григорьева, которые знали его хорошо, не стесняясь никакими обыкновенными приличиями, составили бы биографию, достойную этой страстной и мыслящей натуры» [8: VI. кн. 1, 20−21]. Леонтьев явно осознавал интерес к деталям как творческий принцип.
Подход, основанный на таком принципе, позволил бы автору субъективно оценить жизнь героя. Ради этого Леонтьев был готов пренебречь даже «обыкновенными приличиями», что бы он ни подразумевал под этим. Можно задать вопрос, до какой степени субъективизм и детализация формировали образы в мемуарах Леонтьева.
В «Моей литературной судьбе» Леонтьев вспоминал о своем знакомстве с Тургеневым: «Я не знал ни наружности, ни состояния Тургенева и ужасно боялся встретить человека, не-годного в герои, некрасивого, скромного, небогатого. Мало ли что! Это чувство, а я хочу вид хороший» [8: VI, кн. 1, 36]. Ниже автор привел детальное описание внешнего вида Тургенева: «Росту он огромного, широкоплечий, глаза глубокие, задумчивые, темно-серые, волосы были у него тогда темные густые, курчавые с небольшой проседью. Надет на нем был темно-малиновый летний шлафрок и белье прекрасное» [8: VI, кн. 1, 36]. Роль всех деталей здесь сведена к подтверждению ранее сложившихся симпатий автора.
Такое построение образов соотносится и с «собственной идеологией Леонтьева», по словам Ю. П. Иваска, «тоже образно выраженной» [6: 314]. Примером является описание одного из болгарских лидеров, которое Леонтьев привел, беседуя с И. С. Аксаковым. Оно воспроизведено в «Моей литературной судьбе 1874−1875 года», где выглядит так: «Если бы Топчилешта был старик в восточной одежде, в шальварах и нес бы сам лук по улице, несмотря на свое богатство он внушал бы к себе симпатию и уважение. А когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе. то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского Патриарха, которого желал бы видеть и чтить, а так какого-то обыкновенного буржуа, только грубее и глупее европейского» [8: VI, кн. 1, 93].
Образ этого болгарского лидера строится за счет идейного посыла, которому в мемуарном тексте подчинен отбор деталей. Л. Я. Гинзбург выявила аналогичные признаки в «Былом и думах» А. И. Герцена: «Единичные явления действительности могут приобретать особую смысловую значимость. Слова, жесты, детали наружности, одежды, обстановки срастаются с событиями, становятся внешними знаками их исторического смысла» [2: 54]. Но в мемуарах Леонтьева «значимость» деталей определяется логикой субъективного отношения автора к герою. Конечно, идейная позиция Леонтьева не противоречит такой логике. Вопрос заключается в том, всегда ли указанные факторы позволяют писателю точно оценивать «исторический смысл» явлений.
В январе 1879 года Леонтьев направил Вс.С. Соловьеву письмо, где, среди прочего, затронул тему модернизации Японии на западный образец. Здесь он более чем резко отозвался о японском императоре («микадо») Муцухито (другое имя — Мэйдзи, по девизу правления). Это было связано с тем, что «микадо японский надел цилиндр европейский. Чего можно ожидать от Азии? — продолжил Леонтьев, — Цилиндр и сюртук — это внешний признак, как опухоль желез в чуме. А зараза, значит, уже в крови, если и одежда появилась» [10: 228]. Эпистолярная оценка общественно значимой фигуры детализирована, как и в мемуарном тексте. Можно указать, в чем субъективизм этой оценки.
В своих работах середины 1870-х — начала 1880-х годов Леонтьев, как правило, достаточно ровно отзывался о Петре I [см.: 9: по указателю имен; ср. также: 15: 191]. Между тем в конце XIX — начале XX века общественность Японии и России сходно воспринимала фигуры Петра Великого и Муцухито-Мэйдзи [12: 257, 681, 682, 698, имя К. Н. Леонтьева в указателе имен не упоминается]. Вопрос о том, насколько Леонтьев осознавал специфику современной ему японской истории, надо считать открытым. Приведенная же оценка говорит об этом мало.
Итак, субъективизм и детализация в связи с идейными посылами влияли на становление не только мемуарных, но и эпистолярных текстов. И здесь уместен вопрос о самобытности Леонтьева как автора, писавшего в обоих этих жанрах.
Ю.П. Иваск, исследуя проблему стиля писем Леонтьева к членам семьи Карцовых, настаивал не только на уникальности этого стиля, но и на преемственности по отношению к нему манеры «Опавших листьев» В. В. Розанова [6: 476]. При этом Иваск писал о разнице между приемами Леонтьева и Розанова [6: 476−477, 610 — 611]. Он указал на неоднородное отношение Леонтьева к разным корреспондентам [6: 244−245, 471] и, видимо, поэтому слабо обобщил свои мысли об эпистолярном стиле автора. Проблема самобытности данного стиля вытеснена у Иваска проблемой самобытности разных циклов писем Леонтьева. В силу этого важно изучение перекличек между письмами.
При анализе же воспоминаний Леонтьева стоит учитывать не только их своеобразие, но и типичность. Напомним о достижениях авторов, которые шли к мемуарам от автобиографической беллетристики. Так, ранняя проза А. И. Герцена (1830-е годы) и его же «Записки одного молодого человека» (опубл. 1840−41) предвосхитили позднюю работу над «Былым и думами» [2: 12−13, 112−113; 3: 217−218; 13: 195, 201−203, 234, 251, 280−282]. Путь Аполлона Григорьева позволил Б. Ф. Егорову соотнести его книгу «Мои литературные и нравственные скитальчества» (1862−64) и автобиографические сочинения 1840−50-х годов. Последние имели форму не только повести или очерка, но и письма [5: 353].
Эти поиски жанра сблизили авторские позиции в мемуарах Герцена и Григорьева. Авторы сочетали «субъективное» восприятие действительности и четкие описания социальной атмосферы. Б. Ф. Егоров, говоря о «воздействии» «Былого и дум» на Григорьева, выделил такой фактор, как связь «лиризма и историзма» [5: 358; ср. о соотношении этих начал в «Былом и думах»: 2: 78−79]. Не абсолютизируя эту связь, далее мы отметим, востребована ли она у Леонтьева, симпатизировавшего Григорьеву и Герцену [6: 449−450].
Публицистический элемент и вызвавшие его идейные посылы не мешают субъективизму в мемуарном очерке о Григорьеве или близкой к памфлету «Моей литературной судьбе 1874−1875 года». Но среди наследия Леонтьева есть и такие мемуары, в которых субъективизм сложно взаимодействует с описаниями исторической обстановки («Мои воспоминания о Фракии», 1878, опубл. 1879; «Сдача Керчи в 55 году», 1886−87, опубл. 1887 и др.). Иногда Леонтьев сочетал свою манеру изложения с передачей мемуарного текста другого автора. При этом последний текст сохранял самостоятельность («Рассказ моей матери об Императрице Марии Феодо — ровне», 1883−85, опубл. 1887, 1891). Леонтьев нелегко расставался с субъективизмом и при возвращении к старым замыслам.
Это случилось в 1880-е годы, когда писатель дорабатывал «Мою литературную судьбу». Новая редакция получила заглавие «Мои дела с Тургеневым и т. д. (1851−1861)». Первые две части этого текста опубликованы под названием «Тургенев в Москве. 1851−1861 гг. (Из моих воспоминаний)» в журнале «Русский вестник» (1888, № 2−3). Полностью «Мои дела с Тургеневым.» увидели свет в 1913 году [7: IX, 69−153]. Важны следующие черты этой редакции.
С одной стороны, Леонтьев ввел в текст часть тех писем, которые Тургенев направлял ему в 1850-е годы. Действительно, этим достигнута объективная картина связей двух писателей. Мы не рассматриваем вопрос, подражал ли Леонтьев аналогичному приему Герцена в «Былом и думах» [2: 61−68, 292; 3: 224−225].
С другой стороны, от обобщенного заглавия («Моя литературная судьба») автор пришел к более субъективному («Мои дела с Тургеневым и т. д.»). При этом появление варианта «Тургенев в Москве.» могло не быть личной инициативой Леонтьева. Воспоминания о Тургеневе писатель готовил к печати с лета 1886 года. Не сумев опубликовать их в «Русской мысли», в «Ниве» и «Русской старине», Леонтьев хотел обратиться в «Гражданин», но в итоге принял приглашение Ф. Н. Берга, редактора «Русского вестника» после смерти Каткова [8: VI, кн. 2, 571−574]. Позиции мемуариста могли не соответствовать требованиям журналов [см. об этом в письме Леонтьева к Т. И. Филиппову от 3 июля 1887 года: 8: VI, кн. 2, 573]. Но если это и отразилось на общем мемуарном контексте, то весьма незначительно.
Тема связей Леонтьева и Тургенева вынесена на первый план в обоих окончательных вариантах заглавия. Помимо нее для биографа важна тема встреч Леонтьева с литераторами-западниками в московском салоне Евг. Тур (Е.В. Салиас де Турнемир). Но описания этих встреч достаточно слабо позволяют оценить становление писателя.
Если обратиться к письмам Леонтьева начала 1850-х годов, то очевидны его интересы, лежавшие вне западнического круга. В 1853 году Леонтьев готовил публикации своей прозы в «Отечественных Записках». Но в октябре этого года он дважды сообщал Краев — скому о намерении печататься в «Москвитянине», если публикации не состоятся. Идейными соображениями это явно не было мотивировано [8: I, 642, 645−646].
Позднее Леонтьев писал о своем интересе к «Москвитянину» в «Нескольких воспоминаниях и мыслях о покойном Ап. Григорьеве». Но там не затронута тема ранних выступлений Леонтьева в печати. Имя Краевского также не названо. Зато автор описывал собственное восприятие мнений Григорьева. Тогда Леонтьев не принял его взгляды, объясняя это влиянием западников: «Даровитые и ученые люди этого круга жили все готовыми, ясными европейскими идеями и вкусами; за ними жил тем же самым и я; мне, по крайней моей молодости, казались одинаково чуждыми и Славянофилы, и Григорьев, с своим неуловимым идеалом» [8: VI, кн. 1, 9].
Надо полагать, что в начале 1850-х годов Леонтьев стоял ближе всего к западникам. На взгляд С. В. Хатунцева, «именно западничеству Леонтьев отдавал предпочтение» в «кружке» Евг. Тур [15: 64]. Но эта часть биографии писателя несходно описана им самим. Перед нами единый мотив, по-разному воплощенный в письмах и мемуарах Леонтьева.
В письме к Ф. П. Леонтьевой от 10 января 1855 года Леонтьев коснулся своей повести «Лето на хуторе» (1852−54, опубл. 1855). Он беспокоился, что цензура не пропускает ее, так как «ни Тургенев, ни Краевский не пишут ни слова» о судьбе данной вещи [10: 27]. В «Моей литературной судьбе» и «Моих делах с Тургеневым.» автор указал только, что он писал и печатал «Лето на хуторе», причем осудил эту повесть. Теперь он не упоминал ни о поддержке со стороны Тургенева, ни о своем беспокойстве [8: VI, кн. 1, 55−57; 7, IX, 136−137, 140]. Это вновь подтверждает, что если в письмах Леонтьев фиксировал некие детали своей жизни, то в мемуарах он мог пренебречь ими. Напомним, что писатель так же подошел к теме своих отношений с Аполлоном Григорьевым. Теперь же мы вновь видим отличия при воплощении единого мотива в разных текстах и жанрах. Можно сопоставить это с тем, как Герцен варьировал описания своих отношений с П. П. Медведевой в эпистолярной прозе 1830−40-х годов, а затем в «Былом и думах» [2: 258−259, 302; 3: 235, 238].
Но наследию Леонтьева присуща и обратная тенденция. Она связана с более или менее точным переносом фактов, деталей, суждений из текста в текст. Примером служит письмо Леонтьева к Н. Н. Страхову от 19 ноября 1870 года. В нем автор затронул и развил тему своих дебютов в 1850-е годы. Комментаторы отмечали, что в «Моей литературной судьбе» Леонтьев «почти дословно повторил то, что писал» Страхову [8: VI, кн. 2, 276]. Это наблюдение сделано с учетом одного из фрагментов письма и нуждается в уточнении.
В письме Леонтьев указал: «Тургенев, сидя (в 52 или 53 году) у Мад Евг. Тур вместе со мной — сказал при Феоктистове, при Корше, при професс Кудрявцеве, что он истинно нового Слова ждет только от Графа Толстого и от меня» [цит. по: 8: VI, кн. 2, 276]. В «Моей литературной судьбе» была приведена другая редакция той же реплики Тургенева: «.бедный Ап. Григорьев все ищет нового слова.. Ни от меня, ни от Писемского, ни от Гончарова он нового слова не дождется. — Его могут сказать только двое молодых людей, от которых можно многого ожидать, Лев Толстой и вот этот (Леонтьев — С.Д.)» [8: VI, кн. 1, 53]. Эта редакция почти без изменений была включена в текст «Моих дел с Тургеневым.» [7: IX, 133−134].
Источники термина «новое слово» по-разному освещены в эпистолярном и мемуарном текстах. В письме к Страхову от 19 ноября 1870 года Леонтьев ссылается лишь на имя Тургенева, причем в тексте присутствует оборот «истинно нового Слова». В мемуарах он усечен («нового слова») и в этом виде связан уже с тургеневской отсылкой к Григорьеву. Термины и контекст сходны только частично. Но фактографическая основа эпизода едина, хотя и основана на разном количестве деталей.
В данном случае мы не касаемся вопроса о роли термина «новое слово» в критике и эстетике Григорьева. Важно, как Леонтьев, передавая мнение Тургенева, воспроизвел этот термин в письме, а затем в мемуарном источнике. Единый эпизод переходит из текста в текст, из жанра в жанр с потерей или обретением деталей. Мотивы просматриваются тем легче, чем сильнее эпизод связан с передачей суждений, важных для автора. Но последние могут принадлежать не только ему. Тогда мотив оказывается сквозным.
Единый и сквозной мотивы могут взаимно дополнять друг друга. Тема внимания Леонтьева к «Москвитянину» выглядит в его письмах и мемуарной прозе как сочетание мотивов, из которых единый перешел в сквозной. Мотивы взаимодействуют вне связи с границами текстов. Конечно, это лишь подтверждает, что письма и воспоминания Леонтьева связаны с реакциями автора на события духовной (или социальной) жизни его времени. Исследователь не способен обойтись без отсылок к этим событиям в каждом конкретном случае.
Все приведенные нами примеры указывают на следующие тенденции эпистолярной и мемуарной прозы К. Н. Леонтьева.
Ситуативное изложение биографических фактов выступает в качестве смысловой основы того или иного текста.
Прослеживается влияние идейных интересов автора, формирующее публицистический элемент в тексте.
Важная роль субъективного авторского кругозора, с которым связаны неоднозначные описания конкретных событий.
Детализация изложения, острый интерес автора к частным предметам, в силу описания которых строятся образы и оценки реальных лиц.
Единые мотивы, воплощаемые автором разнородно.
Сквозные мотивы, в силу которых разные тексты связаны между собой, с мнениями и текстами других авторов.
Эти тенденции могут быть востребованы в отдельном тексте или группе текстов, независимо от их границ и жанра.
эпистолярный мемуарный леонтьев переписка.