«Новые диаспоры» и проблема социальной стабильности в регионе
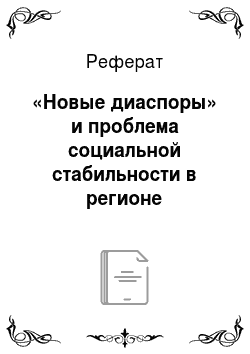
Образ «криминального кавказца» — важнейшая составляющая современной российской мифологии. Далеко за 90% любых упоминаний о таджиках в иркутских СМИ так или иначе связаны наркотиками и наркобизнесом. Другой любимый их сюжет — китайские триады, китайская организованная преступность. В криминальной хронике этническая принадлежность выходцев с Кавказа, Центральной Азии, китайцев, монголов обязательно… Читать ещё >
«Новые диаспоры» и проблема социальной стабильности в регионе (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Формирование «новых диаспор» неизбежно влечет за собой изменение сложившейся социальной структуры принимающего общества. Появление в нем нового элемента ведет к перераспределению ресурсов, заставляет заниматься взаимной притиркой и привыканием, выработкой характера и стиля отношения. В общем, у принимающего общества и у отдельных его представителей появляется новая проблема, а это само по себе раздражающий фактор. И хотя все это происходит в ситуации общей дестабилизации, когда радикально меняется весь уклад и образ жизни сообщества, тем не менее, и этот момент не теряется в ряду других.
При динамичном росте «новых диаспор» за счет миграции, при том, что многие представители местного сообщества вдруг и неожиданно для себя обнаружили, что оказывается, они живут в многоэтничном обществе, — все-таки реальное воздействие всего этого на жизнь обитателей Прибайкалья не слишком велико. И поэтому кажется несоразмерным пристальный интерес к феномену, его мощный конфликтный потенциал, который виден невооруженным взглядом.
В чем же многие представители общества и властей видят угрозу со стороны «новых диаспор»? Каковы вызовы? Какой образ феномена формируется в массовом сознании? Насколько эти угрозы и/или образы этих угроз стали или могут стать в дальнейшем дестабилизирующим фактором?
В обыденном сознании вряд ли существует некая типология, осознанная классификация причин и поводов для недовольства и опасений. Скорее — общее раздраженное ощущение, что «понаехали тут всякие», «ведут себя как хозяева», «наглые», «не уважают наших обычаев», «живут за наш счет», «занимают наши рабочие места, квартиры», «пристают к нашим женщинам"28.
И все-таки, несколько крупных «блоков» выделить можно. Прежде всего, это комплекс проблем, связанных с самим миграционным процессом. Представители властей больше всего озабочены его стихийностью, слабой контролируемостью и большой нелегальной составляющей. И действительно, массовое нелегальное пребывание иностранных граждан является серьезной угрозой безопасности и стабильности в обществе. Оно демонстрирует неэффективность закона, бессилие государственных органов, провоцирует коррупцию, формирует почву для организованной преступности, лишает государство полагающихся ему налогов и сборов, делает мигрантов невидимыми и неподконтрольными, не позволяет принимать адекватных и продуманных управленческих решений. Все это в целом можно охарактеризовать как подрыв основ государственности.
Кроме того, раздувание этой угрозы, использование ее в качестве инструмента манипулирования, достижения неких ведомственных, корпоративных или региональных задач, нагнетание с этой целью антииммигрантской истерии также не способствует эффективности государства и общественному здоровью. Ситуация с гигантским разбросом оценок численности китайцев свидетельствует об этом со всей определенностью.
С этим связаны и массовые страхи по поводу численности мигрантов. Идея о том, что численность мигрантов является фактором угрозы, что есть некий порог, после которого этот фактор становится разрушительным для принимающего общества, широко распространена сейчас не только в обыденном сознании, но и у чиновников и некоторых ученых-экспертов. Она является, в частности, теоретической основой специфической миграционной политики в Краснодарском крае29.
Не вдаваясь в дискуссию с этим крайне спорным тезисом, хотел бы отметить, что в Байкальском регионе удельный вес внешних мигрантов в общей численности населения весьма невелик, даже по самым завышенным оценкам. Тем не менее, наблюдается парадоксальное явление: даже представители государственных служб дают с одной стороны весьма скромные статистические данные и оценки на этот счет, а с другой часто оценивают ситуацию в категориях «экспансии» и даже «нашествия». А уж о тоне и стилистике средств массовой информации говорить не приходится, причем принципиальных отличий у изданий разной политической и идеологической направленности не наблюдается.
Особенно волнует численность китайцев. Мотивы этого понятны, на тысячу ладов, в разных трактовках и вариантах они воспроизведены и в серьезных научных трудах, и в пропагандистских материалах, и в прессе. Учитывая неограниченный миграционный потенциал Китая, его растущую державную мощь и амбиции, неуклонное уменьшение и без того малочисленного населения Сибири и Дальнего Востока, игнорировать эти опасения, отметать их с порога как фантомные, не приходится. Другое дело, что мониторинг и анализ реальной ситуации очень часто подменяется спекуляциями в духе известного советского анекдота о том, что «китайцы будут проникать к нам малыми группами по сто тысяч человек в каждой».
Игнорирование местными властями того факта, что китайцев в регионе не так уж и много, что в основном это маятниковые мигранты, что неуклонного роста их численности не наблюдается, а происходят подъемы и спады в зависимости от состояния экономики — все это плохая база для принятия управленческих решений, тем более, ориентированных на будущее.
Это не значит, что нынешняя ситуация с численностью будет всегда или сохранится даже в обозримом будущем. В ближайшие десятилетия в этом плане возможны радикальные сдвиги — и уже только такая возможность заставляет анализировать возможные последствия.
Мне вообще представляется сомнительной гипотеза о том, что численность мигрантов и их удельный вес в составе населения напрямую определяют уровень нестабильности и конфликтности в обществе. Конечно, чрезвычайно заманчиво получить научно обоснованный, очень конкретный инструмент для измерения уровня этнической напряженности. Не случайно за него так ухватились практики, чиновники некоторых регионов. Однако пока эта гипотеза не доказана. Как правило, аргументация этого важного и далеко ведущего тезиса заменяется перекрестными ссылками на отечественных и зарубежных коллег. И, если заняться реконструкцией, то, скорее всего, он введен в отечественный научный оборот В. И. Козловым со ссылкой на статью британского автора в качестве аргументации30.
Такой редукционистский подход игнорирует целый комплекс основополагающих факторов. Прежде всего — состояние принимающего общества. Его численность, национальную и социальную структуру, уровень развития экономики, внутреннюю конфликтность и социальную тревожность, состояние экономического и социального кризиса или, напротив, подъема, исторические традиции ксенофобии и толерантности. Давление на ресурсы, характер этих ресурсов. С другой стороны — и мигрант при таком подходе предстает среднестатистической единицей, а не носителем вполне определенных культурных, этнических, экономических и т. д. характеристик. Не учитывается величина культурной дистанции между ним и принимающим обществом. То, претендует ли мигрант на уже имеющиеся ресурсы или способен и готов создавать новые — и то, как это оценивается представителями принимающего общества. Собственно, этот ряд можно продолжать долго. Можно вполне резонно предположить, что численность мигрантов и их удельный вес в составе принимающего общества — только одна из составляющих сложного и в каждом отдельном случае уникального набора факторов, определяющих конфликтогенный потенциал.
Если же вернуться к рассматриваемому региону, то пока основные узлы противоречий, конфликтов, взаимных недовольств и претензий сосредоточены в сферах экономики, безопасности и межкультурных взаимоотношений.
Конфликтогенность присутствия мигрантов и «новых диаспор» в экономике бросается в глаза в первую очередь. О ней много говорят и пишут в категориях «засилье», «господство», «клановость», «нечестная конкуренция», «мошенничество», сейчас реже чем раньше — «торгашество». Часто пытаются подсчитать или просто оценить долю тех или иных этнических групп в экономике региона, соответствие этой доли их удельному весу в численности населения.
Что стоит за этим? Насколько действительно велика роль миг-рантских меньшинств в экономике? Можно ли в принципе такую роль выявить и описать в количественных категориях? И, наконец, существует ли вообще их роль как группы или совокупности групп? Имеются ли особенности экономического поведения мигрантов, если да — то в чем их причина? И как все это оценивается принимающим обществом, или его значительной частью?
Каждый из этих вопросов «тянет» на отдельное большое исследование. На уровне самых общих рассуждений можно констатировать, что ситуация мигранта, этничность могут быть серьезными экономическими факторами. Далеко не все способны стать мигрантами (речь, естественно, идет об экономических мигрантах, а не о беженцах и политэмигрантах). Отбор происходит еще на родине, на стадии выбора, принятия решения. Не каждый отважится на «прыжок в неизвестность», риск и лишения жизни в чужом государстве и обществе, низкий статус, отрыв от родных, своей среды вообще, тяжелый труд.
Поэтому, как правило, трудовыми мигрантами становятся люди легкие на подъем, энергичные, иногда авантюрные, предприимчивые, ориентированные на успех любой ценой. Ставка на успех (который часто бывает синонимом простого физического выживания) предполагает готовность и способность много и тяжело трудиться. Ситуация иностранца автоматически закрывает для него массу профессий и сфер деятельности в принимающем обществе — и это заставляет быть конкурентоспособным там, где применение его труда и энергии возможно. Он готов браться за самые грязные и не престижные занятия — даже если его профессия и статус на родине от них далеки.
Иностранный трудовой мигрант, особенно если он нелегальный, не защищен или очень плохо защищен трудовым законодательством, вообще государством (как своим, так и принимающим). Поэтому его труд дешев, а сам он в качестве наемного работника, дисциплинирован, послушен и безотказен для работодателя.
Те же ограничения могут заставить мигранта активизировать или создавать заново такой ресурс выживания и достижения экономического успеха, как неформальные связи на семейной, земляческой, этнической основе. Маленькая иллюстрация. Несколько случайно выбранных для исследования бригад таджикских строителей-отходников в Иркутске все состояли или из родственников, или из соседей и земляков. В них явственная видна иерархия — всегда есть несомненный лидер-патрон и зависимые от него клиенты31. О роли этого фактора в бизнесе азербайджанцев в России обстоятельно пишет А. Юнусов32. Групповая солидарность, взаимопомощь и сотрудничество — это немалый экономический ресурс.
Все перечисленные обстоятельства делают мигрантов сильными конкурентами на рынке труда, в бизнесе, в тех сферах занятости и профессиях, которые фактически предоставляет им принимающее общество.
Кроме того, действуют, и еще какое-то время будут действовать, обстоятельства, унаследованные от советского прошлого. Мощная, особенно в «период застоя», «теневая экономика» включала в себя заметную составляющую «этнического предпринимательства». Выходцы с Кавказа преобладали среди «шабашников» (сезонных строителей-отходников), торговцев овощами, фруктами, цветами на рынках больших и маленьких городов России.
Научное изучение этого феномена еще впереди, но и сейчас можно уверенно утверждать, что для многих из них торговля (не путать с государственной распределительной системой) становилась постоянной экономической специализацией, а функционирование в качестве почти легального рыночного элемента в официально нерыночном обществе — социальной ролью. Огромное количество земляков и родственников были связаны с ними экономическими, родственными, социальными связями, формируя, таким образом, массовую социально-психологическую среду.
Причины и механизмы формирования и развития этого феномена — предмет особого исследования. Здесь же важно отметить, что был накоплен большой рыночный потенциал: опыт частного предпринимательства, психологическая предрасположенность к нему, его высокая моральная оценка, отлаженная система связей, как на исторической родине, так и в принимающем обществе, немалые финансовые ресурсы. Этот потенциал давал большие стартовые преимущества в эпоху рыночной трансформации российского общества.
Отсюда — непропорционально высокая относительно численности и весьма заметная роль выходцев с Кавказа в формировании современной рыночной среды, особенно в мелком и среднем бизнесе. По оценке заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью Ф. Чернышева, до 90% торговых киосков и павильонов Иркутска принадлежат азербайджанцам33. После распада СССР по проторенным еще в советские времена путям двинулся большой поток гонимых нуждой, экономическим кризисом и политическими неурядицами на родине новых мигрантов. Естественной сферой приложения их энергии и усилий также стало предпринимательство.
Однако, насколько эти общие и довольно спекулятивные оценки можно выразить количественно? Можно ли подсчитать удельный вес той или иной этнической группы, формирующейся «новой диаспоры» в экономике региона? На первый взгляд, основная проблема здесь техническая — крайний дефицит информации, слабая разработанность исследовательских приемов и методик подсчетов. На деле же, все упирается в вопрос принципиального характера — общностью или механической совокупностью являются в экономике представители изучаемых групп? Любые подсчеты имеют смысл, только если удастся доказать, что «новые диаспоры» являются едиными, консолидированными игроками на экономическом поле региона, что сформировались экономические группировки на этнической основе. Или, как минимум, сложилась (складывается) система сотрудничества и координации деятельности.
Скорее всего, однозначного ответа на этот вопрос нет, да и быть не может. Все ситуативно и изменчиво. Ресурс этнической солидарности может мобилизовываться, когда это выгодно, или игнорироваться, когда такой необходимости нет. Потребность в нем может ослабевать, в частности, по мере интеграции мигранта и его потомков в принимающее общество.
Многое зависит от отношения этого общества — выделяет ли оно мигранта и его этническую группу, насколько это выделение негативно и дискриминационно. Выталкивает ли оно мигрантов в собственную кастообразную группу и, тем самым, заставляет этнически консолидироваться, в том числе и в повседневной экономической деятельности.
В этой статье нас как раз и интересует не столько сама роль «новых диаспор» в экономике, сколько ее оценка принимающим обществом и воздействие этой оценки на стабильность в регионе. С точки зрения общественного мнения, по крайней мере, преобладающего сейчас, этничность — это врожденное и неотъемлемое человеческое качество, когда человек принадлежит своей группе по факту рождения. Этим же определяется и его экономическое поведение. Такой стихийно примордиалистский подход формирует отношение к мигрантам как естественным группам, изначально обладающим некими общими характеристиками и свойствами. Поэтому претензии, недовольства по поводу отдельных людей, частных ситуаций распространяются на всех.
Это одна из предпосылок того, что представителей некоторых мигрантских групп часто рассматривают в категориях «торговых меньшинств». Заметная роль выходцев с Кавказа и граждан КНР в формировании рыночной среды, естественная для недавних мигрантов устремленность в торговлю, как наиболее доступное для них занятие, ведут к тому, что оценка практик их экономического и социального поведения становятся базовыми характеристиками «образа кавказца» и «образа китайца». Их торговая, рыночная специализация — в глазах большинства вещь само собой разумеющаяся, не требующая доказательств.
И очень плохая рекомендация для общества, долгие годы верившего в необходимость, возможность и справедливость материального равенства, а торговлю воспринимавшего только как торгашество, спекуляцию, занятие низкое, грязное, социально не значимое. При этом отторгаются как социально ценные не только само занятие, но и связанные с нею образ жизни, тип поведения, система ценностей. В такой среде формируется типичнейший по отношению к «торговым народам» стереотип жуликоватого, пронырливого бездельника, который обирает местного жителя — трудолюбивого, честного, но бесхитростного человека.
Сейчас этот «образ торгаша» постепенно отступает на второй план. Связанные с ним кавказские погромы на иркутских рынках к концу 90-х годов прекратились. Рыночные отношения становятся привычными, законными с точки зрения общественной морали, а торгово-предпринимательская деятельность — массовым занятием. Естественно, поэтому, что актуализируется проблема конкуренции. Тем более, что основным полем приложения сил и энергии мигрантов является мелкий бизнес — массовое занятие современных россиян. Растет значение обвинений в «нечестной конкуренции», использовании незаконных и неэтичных методов ведения бизнеса.
Типичный сюжет, обошедший, видимо, прессу большинства городов России: «азербайджанцы (как вариант — чеченцы, дагестанцы и т. д.) держат рынки», монопольно устанавливают там цены, не допускают туда посторонних торговцев, не дают возможности свободно торговать местным товаропроизводителям. Этот контроль и монополия базируются на криминальном насилии. Особенно часто об этом пишут московские СМИ.
В иркутской прессе эта тема начала было «раскручиваться» в середине 90-х годов, после письма в газету крестьян одного пригородного села. Они жаловались, что все места на рынках раскуплены, причем раскуплены «кавказцами», поэтому они не могут свободно сбывать продукцию своих хозяйств. В отличие от Москвы, правда, жалоб на то, что их силой заставляют торговать по уже установленным ценам или сбывать продукцию перекупщикам, не было. На первых порах тема была подхвачена многими газетами и местными телеканалами. Однако дальнейшего продолжения не последовало — возможно потому, что муниципальные власти санкционировали создание в городе значительного количества новых рыночных площадок. Но внимание к теме осталось — и когда в Иркутске было открыто новое здание Центрального рынка, многие журналисты специально отмечали (наряду с другими, по их мнению, достоинствами), что «кавказцы» там не торгуют. С другой стороны, были и публичные жалобы лидера азербайджанского национально-культурного общества, что его земляков неэкономическими методами оттеснили от работы в этом чрезвычайно привлекательном и доходном месте34.
Можно предположить, что эта конкретная ситуация отражает общее положение с конкуренцией на этнической основе. Конфликты и инциденты бывают, иногда им придается этническая окраска, но в целом, сложилось некое равновесие. В каком-то смысле модельной стала ситуация на «Шанхайке». Там торгуют не только китайцы. С ними мирно сосуществуют иркутяне, выходцы с Кавказа, из Центральной Азии, вьетнамцы и монголы. Сложилась даже некая специализация на этнической основе, что, в свою очередь, привело к созданию китайского, вьетнамского, кавказского и т. д. секторов. В ряде случаев все «разноплеменные» торговцы рынка дружно и организованно отстаивали общие корпоративные интересы, проводили совместные акции (пикетирование, организованное прекращение работы и т. д.).
«Теневые практики», столь распространенные в современном российском бизнесе, присутствие в нем мощной криминальной составляющей, вкупе с оценкой мигрантских сообществ как «торговых», стали основой для формирования их устойчивой криминальной репутации.
Образ «криминального кавказца» — важнейшая составляющая современной российской мифологии. Далеко за 90% любых упоминаний о таджиках в иркутских СМИ так или иначе связаны наркотиками и наркобизнесом. Другой любимый их сюжет — китайские триады, китайская организованная преступность. В криминальной хронике этническая принадлежность выходцев с Кавказа, Центральной Азии, китайцев, монголов обязательно подчеркивается. Но ни разу мне не встретился материал, где в этом контексте прозвучали бы этнонимы русский, украинец, белорус, татарин, бурят. В общем, если читать иркутские газеты и смотреть местное телевидение, следить за выступлениями местных политиков (вне зависимости от их клановой принадлежности и политических взглядов), то проникнешься ощущением тотального уголовного беспредела, который установили в регионе мигранты.
На этом фоне любые заявления представителей правоохранительных органов о том, что основную массу преступлений и правонарушений совершают местные жители, совершенно не воспринимаются. Правда, и публикуются такие оценки крайне редко. Еще реже публикуется соответствующая официальная статистика, из которой видно, что удельный вес мигрантов и представителей национальных меньшинств не превышает их доли в численности населения. Если какие-то цифры и публикуются, то без соответствующих комментариев. Правды ради, стоит заметить, что официальной статистике правоохранительных органов не слишком доверяют и они сами, не говоря уже об остальном населении. Но другой нет.
Есть подозрение, однако, что криминальный образ мигранта формируется не только и не столько из-за отсутствия реальной информации. Возможно, ее так мало именно потому, что в ней не нуждаются. Не нуждаются СМИ — как важнейший социальный институт, не столько отражающий (или пытающийся отражать) общественные настроения, явления и процессы, сколько стремящийся оказывать воздействие на них. Возможно, они не нуждаются в такой информации как субъекты рыночных отношений, жизненно заинтересованные в высоком спросе на свой товар. На рынок должен поставляться товар, пользующийся спросом — и для СМИ очень трудно и разорительно идти наперекор массовым настроениям. В массовом сознании сформировался соответствующий стереотип — и воспринимается только та информация, которая ему не противоречит.
Поэтому уже недостаточно просто описать образ «криминального мигранта», недостаточно даже выявить масштабы его распространения. Это уже делается социологами, представителями других научных дисциплин. И это необходимо делать дальше, несмотря на опасения того, что своими вопросами социологи могут спровоцировать рост соответствующих настроений или даже создать соответствующий синдром35. Исходя из постулата о том, что «преступник не имеет национальности» можно осудить или проигнорировать соответствующие настроения в обществе, даже ввести табу на их изучение. Однако, от этого они не исчезнут и даже не уменьшатся.
Перед исследователями встает кардинальный вопрос — что же формирует массовый, устойчивый, не нуждающийся в доказательствах и рациональных объяснениях образ криминального мигранта? Здесь вряд ли возможен однозначный ответ. Факторов много — и они, скорее всего, разноплановые.
Уже отмечалось, в частности, воздействие криминализированности современного российского бизнеса — во всяком случае, такого представления о нем в массовом сознании. Вряд ли стоит игнорировать широко распространенные и общеизвестные оценки представителей правоохранительных органов о существовании криминальных сообществ, организованных на этнической основе. Мировой опыт показывает, что для бесправных и чужеродных мигрантов криминал, криминальный бизнес, структуры организованной преступности становятся важным инструментом социальной интеграции в принимающем обществе. Мигрант — особенно выделяемый этнически — просто заметен. Каждое его правонарушение особо выделяется, маркируется этнически и распространяется на всю группу.
Но, даже учитывая все эти обстоятельства, рационально объяснить всеобщий страх перед «криминальным беспределом мигрантов» невозможно. А страх такой есть, он вполне реален. Не приходится отрицать влияния пропагандистской машины, всей совокупной мощи современных СМИ, массовой культуры. Кавказский криминальный авторитет или безжалостный боевик-убийца — излюбленный и самый распространенный персонаж многомиллионного потока отечественных детективных романом, популярных телесериалов. Постепенно свое «место в этом строю» находит китайский, не менее безжалостный и бесчеловечный, «участник Триад», коварный наркоторговец из Центральной Азии и т. д. Так или иначе, все это читают или смотрят большинство россиян. Тем не менее, мощь этой машины имеет свои пределы. Можно констатировать, например, что интенсивные попытки «раскрутить» антиеврейскую истерию окончились неудачей.
Возможно поэтому, что за этой фобией — или в ее форме — скрываются более глубокие и/или слабо отрефлексированные страхи и опасения. Не исключено, что боятся не столько криминала мигрантов, сколько того, что ощущается как угроза этнокультурной безопасности (по Сергею Панарину)36. В основе страхов и опасений может лежать ощущение «инаковости» пришельца, причем такой инаковости, которая может разрушить или радикально изменить культурные основы жизни.
Характерно, что страх перед «криминальным кавказцем» сильнее, чем перед «криминальным китайцем» или «криминальным таджиком». Может быть, причина и в том, что китайские (да и таджикские) мигранты более культурно изолированы, они менее решительно и энергично вторгаются в социокультурную ткань принимающего общества. Поэтому они меньше способны ее разрушить или изменить.
Тот же китайский мигрант до сих пор живет в своем мире, соприкасаясь с российской обыденностью только на рынке. Он не претендует на свою, собственную нишу в российском обществе, тем более — на высокий статус. Поэтому и отношение к нему скорее отстраненно-пренебрежительное и совершенно не персонифицированное. И в личном качестве каждого отдельно взятого китайца не опасаются, угрозы от него не чувствуют.
Китайских мигрантов обычно воспринимают как массу — и не случаен устойчивый, популярный еще с XIX века, образ муравья, муравейника37. Частью этого образа является не только представление о многочисленности и растворенности китайцев в группе. Муравей — не человек. И легко убедиться, что «несущей конструкцией» мощного уже в конце XIX века синдрома «желтой опасности» было ощущение выключенности китайцев, нерасчлененных «желтых» вообще, из человеческого сообщества. И здесь образ муравья органично дополняется образом инопланетянина.
Удивительно, но этот образ появляется задолго до космической эры — и он прямо или косвенно соотносится с европейскими попытками осмыслить и оценить феномен «возрождающегося Китая"38. Интереснейший материал для размышлений по этому поводу дают романы Герберта Уэллса «Война миров» (1898 год) и «Война в воздухе» (1908 год)39. Они содержат примерно однотипную картину смертельного столкновения цивилизаций. Причем, если одна сторона битвы представлена людьми, существами не просто разумными, но персонифицированными, испытывающими человеческие эмоции и чувства, то вторая — некой разумной, но нерасчлененной, нечеловеческой силой. И если в «Войне миров» — это марсиане, от которых и невозможно требовать человеческой логики и человеческих эмоций, то в «Войне в воздухе» их аналогом становятся «желтые», объединенные японо-китайские силы.
Интересен и важен здесь элемент трансцендентности, запредельности угрозы. Угроза воспринимается не как нечто рациональное, или поддающееся рациональному обоснованию и/или объяснению, по крайней мере, описанию, а как нечто таинственно-грозное, глобальное, всеобще-вездесущее, мало зависящее от действий, воли и решений отдельных людей. Рок.
«Чужой», представляющий опасность, предстает не в облике конкретного «врага», имеющего совершенно конкретные интересы, несущие в себе угрозу, пусть даже смертельную. Он становится персонификацией «абсолютного зла», воплощением тотальной чужеродности, принципиальной несовместимости. Аналогом Дьявола. С ним невозможно договориться, сторговаться, достичь компромисса. Его логику невозможно понять. Конфликт с ним — это тотальное противостояние, смертельная война до полного уничтожения одной из сторон. А неконкретность, невидимость «врага» делает сомнительным возможность победы над ним.
Образ «желтой опасности», само это словосочетание, возродились в современной России после долгого перерыва. Как для массового сознания, так и для публицистов, журналистов, политиков напряженные дискуссии по «желтой проблеме» начала XX века — явление не просто забытое, а как бы не бывшее. Это некая Атлантида, о существовании которой остались в лучшем случае неясные легенды и предания. Проблема осмысливается как совершенно новая, уникальная, а потому реакция на нее отличается почти первозданной свежестью.
По сравнительно недавней авторской оценке, «при первом же взгляде на отечественные публикации начала и конца века бросается в глаза их несомненное сходство в жанрах, оценках, подходах и эмоциональной окрашенности. Очень часто можно говорить даже не о сходстве, а о дословных совпадениях и повторах. При этом, если исключить специалистов, современные авторы дореволюционных почти не читают, а то и не подозревают об их существовании"40. Не отказываясь полностью от этого утверждения, хотел бы, однако, внести в него некоторые коррективы.
Главное отличие сегодняшней ситуации я вижу в том, что реально из употребления вышел (или почти вышел) эпитет «желтый», качественно важный для рассматриваемого феномена рубежа XIX—XX вв.еков. И сам термин «желтая опасность» употребляется сейчас больше именно как термин, исторически сложившееся словообразование. Куда более адекватными для характеристики нынешних страхов я бы посчитал слова «китайская экспансия». Они и употребляются все чаще и чаще.
Вряд ли это следствие политкорректности — этот мощный на Западе феномен не получил в России достаточного распространения и уж тем более не стал эффективным инструментом регуляции поведения. Кроме того, сами «политнекорректные» слова употребляются свободно — и не только в качестве терминов при необходимости. Потребности в эвфемизмах пока явно не чувствуется.
Скорее можно предположить, что это результат ухода на периферию мощного, возможно преобладающего в конце XIX века, расового дискурса при анализе социальных отношений и проблем. Расизм, конечно, сохранился, расовые различия фиксируются и реально отражаются на характере человеческих связей и отношений, но массовое представление о непреодолимой пропасти между расами, взгляд на представителей иной расы как на инопланетян в целом ушло.
Поэтому перенос центра тяжести с определения «желтый» на определение «китайский» представляется мне важнейшим, качественным сдвигом в структуре рассматриваемого феномена. Объект страхов, «враг» не просто конкретизируется — он рационализируется.
Это не означает, однако, исчезновения или даже уменьшения опасений перед угрозой нарушения культурного равновесия из-за массового притока культурно чужеродных мигрантов. В нарушении такого равновесия видится угроза собственной культурной идентичности. И хотя до сих пор массового притока нет — само его ожидание и предчувствие могут послужить питательной почвой для формирования самых разнообразных этнофобий.
А точнее сказать — этнически окрашенной мигрантофобии. Это принципиальное отличие, т.к. даже без проведения специальных исследований можно утверждать, что этничность старожилов редко становится выделяющим и формирующим конфликт фактором. Даже если она замечается и фиксируется — то просто как факт. Явление это для Сибири не новое. Еще с XIX века здесь существует оппозиция: старожил — новичок. Для последних даже появилось прозвище «навозные». Игра ударениями недвусмысленно говорит о характере отношений.
Можно предположить, что зачастую страшит не иная этничность, а выделяющаяся модель поведения. Она не просто раздражает или шокирует, а воспринимается как вызов или агрессия. В свою очередь, такая модель поведения может быть обусловлена не только или не столько этническими различиями, хотя бы и маркируемая таким образом.
Распространенный вариант текущей российской ситуации — крестьянское происхождение значительной части мигрантов, их неумение, часто нежелание соответствовать городскому стилю и укладу жизни. Миграция происходит не только из одного этнического ареала в другой, но из деревни в город. В ходе ее происходит маргинализация, когда носители крестьянско-патриархальной модели поведения, мигрировав, оказываются вне контекста привычной жесткой регулятивной системы деревни, вне постоянного и всепроникающего контроля сообщества. На первых порах особенно это может показаться отсутствием социального контроля вообще, отсюда — осознанное или неосознанное нарушение норм морали и обычаев принимающего общества.
По словам С. Панарина, «принимающему обществу приток торговцевазербайджанцев с их племенной моралью и подчеркнутым сексизмом и со склонностью значительной их части к престижному потреблению и криминальному предпринимательству, тоже создает проблемы в области физической и социальной безопасности"41.
Возможно, и даже наверное, отмеченная модель поведения присуща меньшинству мигрантов, но именно она становится визитной карточкой, характеристикой группы вообще. Не приходится и говорить о воздействии этого фактора на формирование мигрантофобии, на масштабы ее распространения.
Косвенным, но весьма показательным индикатором масштабов явления может послужить готовность общества к тому, чтобы поверить любым обвинениям в адрес мигрантов. Тех же китайцев обвиняют во всем — от сознательного распространения атипичной пневмонии до массового поджога лесов, от грабежа российских природных богатств до варварского отлова и поедания собак, от тотальной причастности к шпионажу до такого же тотального (и финансово поддерживаемого китайскими властями) стремления осесть в России и скупить здесь всю собственность. Любая реалистичная информация на этот счет совершенно не воспринимается.
Пример китайских мигрантов особенно показателен потому, что с ними на практике местные жители сталкиваются и общаются меньше всего. А, значит, и меньше вступают в конфликтные отношения. Более того, там, где происходит реальный контакт, а это преимущественно на «шанхайке», обвинений и предубежденности в адрес китайцев меньше. Довольно высоко и доброжелательно оценивается их деловая практика: китайские торговцы услужливы, доброжелательны, они не «обмеривают-обвешивают», с ними можно торговаться. Но все это, а также их замкнутость, культурная отъединенность, отсутствие видимого стремления интегрироваться в принимающее общество, занять в нем свою нишу, завоевать ступеньку в его иерархии, не спасают от массовой китаефобии, недоброжелательного и даже враждебного отношения.
Поэтому не исключено, что неизбежный рост числа китайских мигрантов, такие же неизбежные процессы их интеграции в принимающее общество, могут усилить мигрантофобию, придать ей новую динамику и новую роль в общественно-политической жизни.