Автономность и лингвистический пантеизм private persona.
Философско-поэтическое мировоззрение Иосифа Бродского
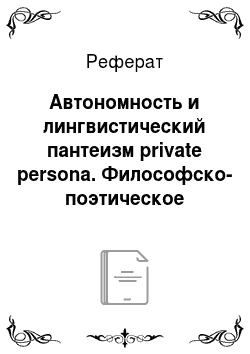
Влияние английского языка со своим определенным ценностным этосом не ограничивалось поэтической сферой, а затрагивало весь строй мировоззрения Бродского. Неудивительно, что многие положения поэта можно характеризовать как «западнические». Но нужно всегда помнить, что изначально основой для этого, условно говоря, западничества, была не политическая идеология или философия, а английская… Читать ещё >
Автономность и лингвистический пантеизм private persona. Философско-поэтическое мировоззрение Иосифа Бродского (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Статья приурочена к 20-й годовщине со дня смерти одного из крупнейших поэтов XX в. Иосифа Бродского. Автор предлагает на основе подробного анализа прозы представить основные принципы философско-поэтического мировоззрения поэта. В ходе такого исследования выявляется понимание И. Бродским языка и времени, соотношения языка и поэта, поэзии и прозы, человека и мира, а также таких поэтов, как У. Оден и М. Цветаева. Автор статьи подробно рассматривает значение для Бродского ценности «частного» существования и Я (или private persona), человеческой автономности, приоритета эстетики над этикой, автобиографического стиля его прозы и сознания, формирования своего образа. Отдельно автор останавливается на метафизическом понимании языка у поэта, предлагая оценивать его взгляды в этом вопросе как лингвистический пантеизм. Поэтический опыт языка Бродского определял не только его эстетику, но и метафизику, антропологию, этику. Этот опыт может быть интересен и полезен поэтам, филологам, философам и всем заинтересованным читателям.
Ключевые слова: Иосиф Бродский, философско-поэтическое мировоззрение, частное лицо (private persona), человеческая автономность, поэзия и метафизика языка, приоритет эстетики над этикой, автобиографичность поэтического сознания, английская поэтическая традиция, У. Оден и М. Цветаева.
Статтю приурочено до 20-ї річниці з дня смерті одного з великих поетів ХХ ст. Йосипа Бродського. Автор пропонує на основі докладного аналізу прози подати основні принципи філософсько-поетичного світогляду поета. У дослідженні з’ясовується розуміння Й. Бродським мови та часу, співвідношення мови та поета, поезії та прози, людини та світу, а також таких поетів, як У. Оден та М. Цвєтаєва. Автор статті докладно розглядає значення для Бродського цінності «приватного» існування і Я (або private persona), людської автономності, пріоритету естетики над етикою, автобіографічного стилю його прози та свідомості, формування свого образу. Окремо автор зупиняється на метафізичному розумінні мови у поета, пропонуючи оцінювати його погляди з цього питання як лінгвістичний пантеїзм. Поетичний досвід мови Бродського визначав не тільки його естетику, але й метафізику, антропологію, етику. Цей досвід може бути цікавим та корисним поетам, філологам, філософам та всім зацікавленим читачам.
Ключові слова: Йосип Бродський, філософсько-поетичний світогляд, приватна особа (private persona), людська автономність, поезія та метафізика мови, пріоритет естетики над етикою, автобіографічність поетичної свідомості, англійська поетична традиція, У. Оден, М. Цвєтаєва.
Article is dated for the 20 anniversary of death of one of the largest poets of the XXth century Joseph Brodsky. The author suggests to present the main principles of philosophical-poetic worldview of the poet on the basis of the detailed analysis of his prose. During such research author underlines the understanding by J. Brodsky of language and time, relations between language and the poet, poetry and prose, the person and the world; separately it had been investigating significance for biography of J. Brodsky such poets as U. Oden and M. Tsvetaeva. The author of article in detail considers role for worldview of Brodsky of the value of «private» existence and I (or private persona), human autonomy, an esthetics priority over ethics, autobiographical style of his prose and consciousness, formation of the human image. The author stops on metaphysical understanding of language at the poet, suggesting to estimate his views in this question as linguistic pantheism. Poetic experience of language of Brodsky defined not only his esthetics, but also metaphysics, anthropology, ethics. This experience can be interesting and useful to poets, philologists, philosophers and all interested readers.
Key words: Joseph Brodsky, philosophical-poetic worldview, the individuality (private persona), human autonomy, poetry and metaphysics of language, an esthetics priority over ethics, autobiographical essence of poetic consciousness, English poetic tradition, U. Oden and M. Tsvetaeva.
лингвистический пантеизм бродский поэт Двадцать лет назад умер поэт Иосиф Бродский. Но, пожалуй, язык не повернется сказать, что все это время его нет с нами. Напротив, он постоянно и с все более увеличивающейся активностью присутствует в европейском, особенно российском пространстве. Книги Бродского регулярно и в большом количестве переиздаются, воспоминания и научные исследования о нем и его творчестве можно встретить в любом книжном магазине, посвященные ему фильмы и передачи также не редкость, а ставшие в последнее время популярными декламации стихов известными актерами постоянно включают в свою программу стихи поэта. Совершенно очевидно, что в начале XXI в. Иосиф Бродский самый востребованный представитель российской литературы за всю ее историю.
Думается, однако, что самого поэта такая популярность если и не встревожила бы, то уж точно удивила, насторожила и заставила ощущать некоторую неловкость. Ведь он постоянно и в самых значимых местах, включая Шведскую королевскую академию, подчеркивал принципиальную важность признания и осознания себя в первую очередь частным человеком, делающим осознанный и свободный выбор частного существования в качестве наиболее достойного — причем как с эстетической, так и этической позиции — для себя. Уважая и понимая эту позицию, в дальнейшем я собираюсь прежде всего именно как частный человек коснуться мировоззрения private persona Иосифа Бродского. Это означает, что смысл нашего исследования не в том, чтобы оценить его, раскритиковать, принять или тем более распропагандировать, сколько в том, чтобы его понять. Как представляется, это будет небесполезно, поскольку, во-первых, частное мировоззрение крупного поэта, ставшего фактом в истории русской и европейской литературы, заслуживает внимания; во — вторых, благодаря особенностям своего формирования и развития оно, как кажется, несет в себе серьезную философскую составляющую и может быть любопытно еще и этим; наконец, оно просто вызывает живой интерес у автора этих строк по причине своего своеобразия, глубины и особой, скажем так, эстетической интонации. В конце концов, интерес философа к поэту неудивителен, в отличие от намного более редкого встречающегося интереса поэта к философу.
Другое дело, что частные лица поэта и философа имеют разные очертания. И хотя в дальнейшем я не буду стараться полностью заглушить в себе голос философа (что должно объяснять имеющиеся отсылки), все же буду помнить, что пишу о поэте, не нуждающемся в философской концептуализации. Поэтому я буду говорить о философско-поэтическом мировоззрении Бродского не как о законченной системе или конструкции (поэтому и о его реконструкции речь здесь идти не может), а лишь как о ряде имеющих определенную связь друг с другом положений, относительное единство которых задается не строгими понятиями, стремящимися к искусственной целостности, а органикой жизненного опыта и вытекающими из него размышлениями отдельного частного человека, правда, являющегося поэтом. Представляемое в этих опытных размышлениях поэтическое воззрение на мир оказало на меня довольно сильное философско-эстетическое впечатление, и это при отсутствии слишком уж большого личного мировоззренческого родства. Эти частные впечатления, однако, не могут быть признаны уж совсем произвольными, поскольку их источником являлась в первую очередь эссеистическая проза Бродского, в которой он позволял часто говорить о себе и выражать свои мировоззренческие взгляды на общезначимые, в том числе философские темы.
Можно сказать, что мировоззрение Поэта, в силу самого рода его деятельности напрямую связанного с Языком, в процессе своего осмысления и выражения по необходимости выходит за границы своей private persona, хотя и отталкивается от его личного жизненного опыта. И тогда встает вопрос: может ли слово поэта быть частным, а частное слово — поэтическим? Вопрос далеко не праздный. Ведь Бродский как раз относился к тем, кто (как, например, и любимая им Цветаева) даже в прозе оставался поэтом. Но если собственно в поэзии эта апория и присутствует, то не явно и завуалировано, в прозе, особенно автобиографической, которой так много у Бродского, она раскрывает свою продуктивность со всей наглядной выразительностью и резкой отчетливостью, так что не всегда можно уверенно сказать, где кончается слово поэта и начинается слово частного человека. Поэтому я буду ориентироваться прежде всего на нее, а не на поэзию, которая, впрочем, поддается не только филологическому, но также, при желании, метафизическому рассмотрению (впрочем, первое может быть путем ко второму — но не наоборот). Ведь если проза Бродского поэтична, автобиографична и философична, что позволяет на ее основе исследовать философско-поэтическое мировоззрение ее автора как частного человека, то его стихи слишком хороши для того, чтобы видеть в них выражение психологических особенностей, проявление каких-то жизненных обстоятельств и иллюстрацию философских или даже просто мировоззренческих взглядов автора, т. е. находить в них что-то еще, кроме подлинной поэзии (я по крайне мере не хочу этим заниматься). Впрочем, повторюсь, и в прозе Бродский, который видел в себе «еврея по национальности, русского поэта и американского гражданина», остается прежде всего поэтом, причем прошедшим школу английской метафизической поэзии XVII в. (Дж. Донна по преимуществу), и потому именно поэтическое определяет философское в его мировоззрении.
Поэтому совершенно очевидно, что в этом известном самоопределении наиболее значимой для Бродского является идентификация себя как «русского поэта». Действительно, национальность дается при рождении, гражданство определяется обстоятельства — ми и только поэтический род деятельности связан с призванием, особым отношением к языку, личным выбором себя и всего образа своей жизни. И очень показательно, что поэт здесь четко соотносит себя не просто с поэзией, а с ее конкретным языковым воплощением. Ведь несмотря на то, что поэты могут быть двуязычными, — сам Бродский признается, что начал писать на английском летом 1977 г. [см.: 1, с.82], — но все же язык, на котором они открывают себе поэзию и в котором они прежде всего и наиболее полно осуществляют себя в поэзии, у них один. Это не обязательно должен быть изначально родной язык, но это язык их поэтической идентичности, на котором они не просто думают, но видят и познают мир в том или ином стихотворном размере. Поэтическая двуязычность расширяет и углубляет эту идентичность, но не делает ее двойственной, что характерно уже для шизофрении, но никак не для поэзии. «Привязанность к языку у поэта моногамна, ибо поэт, по крайне мере в силу профессии, одноязычен» [5, с.92]. И приоритетность для Бродского русской поэтической идентичности подтверждается прежде всего тем, что, в отличие от подавляющего числа его эссе, написанных на английском для американского читателя, почти все стихи написаны на русском (их же он сам часто и переводил на английский), а причиной создания тех, что были написаны на английском, по его собственному признанию, являлось желание быть ближе к Уистену Хью Одену [см.: 1, с.82], поэзия которого так сильно повлияла на стиль и сам дух его русскоязычной поэзии (он же успел написать в 1970 г., за три года до смерти, предисловие к сборнику стихов Бродского, доступных ему только в переводе проф. Клайна); круг, таким образом, замыкается. Получается, русская поэтическая идентичность Бродского, как и весь этос его философско-поэтического мировоззрения, имеет своим истоком и даже формо-смысло-образующим фундаментом именно язык английской поэзии. Интересная ситуация, не правда ли?
Таким образом, философско-поэтическое мировоззрение русского поэта Иосифа Бродского оказалось сформировано прежде всего английским языком, точнее языком английской поэзии, ее, так сказать, метафизического авангарда, от Дж. Донна до У. Одена и Р. Фроста и от Э. Марвелла до С. Спендера и Макниса. Каждый из наиболее развитых языков несет в себе свою метафизику, свой мировоззренческий порядок, свою ценностную картину мира — все это определяет национальное своеобразие не только поэзии, но и философии, и даже порядков повседневного сознания. Бродский не раз высказывался об ordo lingua английского языка. Прежде всего, это язык, равнодушный к категории рода, аналитический, рационально-упорядоченный («позитивистский»), язык ясных и отчетливых определений, антириторический, самой своей структурой избегающий всякого рода расплывчивости, двусмысленности, неоднозначности, что существенно затрудняет использовать его в целях демагогии и догматического манипулирования [см.: 2, с.743−744, 581 583 и др.]. Все это — наиболее высокочтимые языковые добродетели в иерархии поэтической картины мира Бродского. И как резко они отличаются от добродетелей русского языка, флективного по своей сути, со спиральными ветками синтаксиса, с его хитросплетениями условно-уступительных придаточных предложений, всей своей грамматикой и фонетикой так подходящих для постоянных саморефлексий, отступлений, выстраиваний словесных паутин, самоуничижений, сомнений, которые составляют суть потока сознания у Достоевского — как мы видим, языкового в своей основе, а не наоборот [см.: 3, с. 204−206] В этой связи интересна оценка Достоевского, неожиданно пересекающееся с бахтинской концепцией «полифонического романа» М. Бахтина: «Достоевский был первым нашим писателем, доверявшим интуиции языка больше, чем своей собственной, больше, чем установкам своей системы убеждений или же своей личной философии. И язык отплатил ему сторицей. Придаточные предложения часто уносили его гораздо дальше, чем-то позволили бы ему его исходные намерения или интуиция. Другими словами, он обращался с языком не столько как романист, сколько как поэт или как библейский пророк, требующий от аудитории не подражания, а обращения… В этом своем векторе он по сути отклонялся от православия (как, впрочем, и от любой другой конфессии)» [3, с. 171−172].. Очевидно, такие добродетели русского языка, сформировавшиеся на основе своих глубинных языковых порядков, были чуждыми для Бродского, хотя им и отдавалось должное. Для нашего поэта стремление к точности, которое так выразительно и полно представлено в английском языке, вообще-то лингвистично по своей природе, укоренено в самом языке и характеризует поэзию как таковую [3, с.154]. Одна из фундаментальных новаций Бродского-поэта состоит в том, что у него русский стих вступил в диалог с английской поэтической традицией, стремился органически, без слепого и механистического подражания, впитать ее в себя и развиваться в заданном ей направлении, но на специфической почве русского языка.
Влияние английского языка со своим определенным ценностным этосом не ограничивалось поэтической сферой, а затрагивало весь строй мировоззрения Бродского. Неудивительно, что многие положения поэта можно характеризовать как «западнические». Но нужно всегда помнить, что изначально основой для этого, условно говоря, западничества, была не политическая идеология или философия, а английская и американская поэзия. Именно она воспитали у Бродского ощущение поэтического языка как высшей, даже божественной необходимости, отношения с которой амбивалентны. С одной стороны, их осуществление — в написании или даже только чтении стихов — непосредственно, не нуждается в посредниках (что сближает их с отношениями с Богом в мистическом опыте), является личным, неразделимым ни с кем делом и потому способствует развитию (самопознания свободной частной индивидуальности. Сам Бродский неоднократно подчеркивал, что поэзия вообще, по определению является искусством индивидуалистическим, а английская и особенно американская поэзия есть «настойчивая и нескончаемая проповедь человеческой автономии; если угодно — песнь атома, бунтующего против цепной реакции» [5, с.231]. И «сродство» с ней, по собственному признанию Бродского, расковало его метрически и строфически [5, с.555], что не могло не повлиять на формирование, осознание и развитие у него мировоззрения автономного private persona. Ведь если язык на априорно — дорефлексивном уровне формирует у причастного ему человека определенный склад, то поэзия, особенно постоянное занятие ею, приобщает его своим добродетелям, в частности ценности личной свободы и способности осуществлять ее в жизни — в том числе за счет развития критически мыслящей способности. Бродский неоднократно говорил о поэзии как предельном смысловом конденсате, благодаря чему она, а через нее и вся литература «является лингвистическим эквивалентом мышления» [3, с.152−153]. Такое понимание поэзии было заложено, конечно же, английским языком, и понятно, почему для Бродского Оден был не только великий поэт, но и не имеющий себе равных интеллект [1, с.82]. С другой стороны, однако, занятие поэзией преодолевает иллюзию претенциозной и пафосной значимости самоутверждения Я, умеряет, а то и смиряет его голос, приучая не переоценивать себя, выступать средством проявления, существования и самоутверждения самого языка. Все, что вне этих непосредственных отношений с языком, может быть оценено как малозначимое, затемняющее, уводящее в сторону ритуальное догматическое украшательство. Чтобы следовать за принудительной необходимостью языка, нет нужды выводить ее из идеологической, политической, философской или религиозной логики, достаточно просто открыться, довериться, следовать языку.
Естественно, что и отношения с языком для поэта являются основными, первичными и более важными, чем отношения, скажем, с людьми, природой или даже своим собственным эго, которые они фундируют и определяют. Такую модель отношений поэта и языка Бродский не только воплощал в своем творчестве, но и ясно и глубоко осознавал, что, вообще-то говоря, встречается не так часто у представителей муз. Еще Платон (например, в «Ионе») подчеркивал, что поэты, создавая свои произведения, ничего не понимают в них, ничего не могут в них объяснить. Поэтому далеко не у всех поэтов, даже из числа великих, саморефлексия занимает столь большое место и находит столь впечатляющее выражение, как у Бродского, у которого она неотъемлемая составляющая его положения в мире, так и хочется сказать — его бытия-в-мире.
И неудивительно, что при обращении крупного или даже великого поэта, склонного и способного к такой саморефлексии, к осознанию языка, его власти, сферы и способов влияния, значению для бытия (не только самого поэта, но и как такового) он невольно приходит к ряду положений, которые вполне можно рассматривать как «философию языка», но которые для него самого предстают скорее как некие очевидности собственного ощущения языка. Примеры Гете, Рильке, Цветаевой, Мандельштама и, конечно, самого Бродского тому подтверждение. Правда, нужно понимать, что не все поэты склонны к прозе, которой свойственна детализация рефлексивной вербализации. Сам Бродский говорил, что есть поэты «центробежные», творчество которых предполагает развертывание языковой формы (метафоры, образа, сравнения), а есть «центростремительные», которые эту форму за счет максимального насыщения имплицитным смыслом стремятся выразить предельно кратко и афористично; и неудивительно, что Мандельштам и Пастернак, которые относились к первой группе поэтов, написали яркие автобиографические сочинения (соответственно, «Шум времени» и «Охранная грамота»), а Ахматова, поэт второй группы, — нет [7, с.516−518]. И Бродский, несомненно, относящийся к «центробежным» поэтам, эксплицирует свою поэтическую реальность в ткань рассуждений прозаической формы, призванной эту реальность раскрыть с новой (возможно, более доступной для большинства) стороны и даже подвести к ней (своеобразное «вечное возвращение», в котором отчуждение от первоистока — а проза и есть такое отчуждение от поэзии — с неизбежностью приводит к нему).
Конечно, в таких случаях речь не идет о философии в строгом смысле слова, т. е. системе умозрительных положений, открытых благодаря понятийному мышлению и претендующих (скрыто или явно) на некоторую всеобщность и даже необходимость. Скорей, можно говорить об осмыслении своего частного личностно-уникального опыта поэтических отношений с языком, который поэт выражает не в первичной форме создания стихотворных строк, а подвергая его рефлексии — особой рефлексии поэта, — являющейся вторичной сравнительно собственно со стихотворным творчеством, возможной лишь на его основе и представляемой чаще всего в разнообразных малых прозаических жанрах (эссе, статьи, доклады, выступления и т. п.).
Такой прозы у Бродского много — достаточно вспомнить книги его эссе: в 1986 г. был опубликован и сразу же получил признание (в частности удостоен премии Национального совета критиков США) сборник «Меньше единицы», в 1992 г. выходит в свет знаменитая «Набережная неисцелимых» (Watermark), а в 1995 г., совсем незадолго до смерти автора, печатается книга «О скорби и разуме», последняя прижизненная книга Иосифа Бродского; а ведь эти издания далеко не охватывают всего прозаического наследия поэта. Поскольку эту прозу для англоязычной среды пишет поэт, для которого родной язык, язык его поэтической идентичности русский, то для него обращение к ней — возможность преодолеть для себя неизбежный в стихах языковой разрыв и расширить читательскую аудиторию (и действительно, Бродский стал популярен в США в значительной степени благодаря своей прозе).
Впрочем, эти мотивы не самые существенные. Важнее, что в этих текстах очень часто, много и глубоко говорится о языке, о языке поэзии — ведь эту прозу пишет поэт, и потому это проза, полная поэзии. При чтении этой прозы чувствуется, что присутствующие в ней размышления для их автора не проходные, а очень важные, в них он проговаривает и выводит в верхние слои сознания личный опыт погруженности поэта в язык. И, конечно же, раз «стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения» [1, с.255], то понятно, почему у поэта возникает желание, а может, даже потребность, поделиться результатом этого ускорения в соответствующей ему форме литературной саморефлексии. В этом плане «философская» и «литературоведческая» эссеистика Бродского — органичное порождение самой поэзии, ее неотъемлемое следствие, даже в чем-то оборотная сторона, возможность, отталкиваясь от нее, вернуться к ней же обогащенным этим самоотчуждением поэтического слова в прозаическое. В этом проявляется не только первичность поэзии по отношению к прозе, историческая в своей основе, но и ее суверенность, ведь именно поэтический язык — высшая и самодостаточная форма языка, независимая как от прозы, так и от самой действительности. И обращение поэта к прозе — это не столько эманация, сколько поэтический эксперимент, возможность по-новому явить и развернуть поэтический потенциал языка. Особо Бродский выделял здесь прозу Марины Цветаевой, о которой он пишет в эссе «Поэт и проза», да и вообще он считал, что, за исключением Андрея Платонова (язык которого также отличается той суверенностью, которая обычно характеризует поэтов), лучшая русская проза ХХ в. написана поэтами [см.: 7, с.511].
Однако при этом проза Бродского сплошь автобиографична. Сразу всплывают в памяти его автобиографические воспоминания («Меньше единицы», «Трофейное», «Полторы комнаты») или воспоминания о путешествиях (в Венецию, Стамбул, Бразилию). Сам Бродский не раз признавал приоритет для себя времени над пространством, а из временных измерений — приоритет прошлого над настоящим и будущим. Прошлое — исток всего, и обращение к нему придает реальность и значимость существующему. Это касается и ипостаси поэта, чье появление стало возможным благодаря предшествующим великим служителям языка, и ипостаси частного человека, все время отступающего и оглядывающегося в свою доисторию, в свое детство и юность, и в этом только и находящего передышку для себя [1, с.148]. Нельзя не учитывать и определенную «психологию изгнанника», которая заставляет возвращаться в «потерянный рай» прошлого, жить и творить «в поисках утраченного времени». Бродский посвятил поэтическому осмыслению состояния изгнания даже целое эссе («Состояние, которое мы называем изгнание, или Попутного ретро»), в котором он понимал его как состояние метафизическое, приобщающее добродетели смирения и приучающее жить в ретроспективной установке, при которой прошлое, получая независимость от настоящего и будущего, выступает, по сути, единственной безопасной территорией [см.: 5, с.29−44]. Стремление в прошлое — это стремление странника вернуться домой, чего ему не дано сделать, зато само это стремление делает его автономным; и частные путешествия Бродского по миру — это одновременно символ и манифестация такого странничества. Поэтому и поэзия Бродского — это поэзия, которая пишется, вглядываясь в прошлое, человеком, который в этом прошлом в определенном смысле остался. Ретроспективна не только его автобиографическая проза, но и сами стихи, хотя и иным образом, ведь они, как считал наш поэт, обращены не к современникам и тем более не к потомкам, а к предшественникам, тем, кто дал язык, дал формы [5, с.521].
Поэтому, несмотря на необходимость четко различать эти две ипостаси, ипостась поэта и частного человека, они тесно, вплоть иногда до неотделимости связаны друг с другом, правда, связь эта в поэзии и прозе все же разнится. И когда Бродский говорит об осевой значимости для прозы да и всей жизни Цветаевой этой автобиографической ретроспекции, то, кажется, он говорит и о себе — в конце концов, они близки еще и по ощущению времени для себя и себя во времени. Оба в значительной степени живут в прошлом и прошлым, а прошлое живет в воспоминаниях и воспоминаниями. Для Бродского действительность обретает смысл и значение только посредством воспоминания, и «оглядываться — занятие более благодарное, чем смотреть вперед», ведь «завтра менее привлекательно, чем вчера» [1, с. 19].
В этой оценке Бродский был до удивленья близок к древним грекам. И все же воспоминание для него не столько самопознание, как для Платона, хотя, конечно, и оно, ведь обращение в прошлое есть один из наиболее действенных механизмов развития интериоризации и активности работы сознания. Однако, как кажется, более значимым являлось для Бродского воспоминание в качестве поэтического акта, в котором, как и в стихотворении, создается новая, во многом автономная реальность. Ведь погружение в прошлое позволяет обрести независимость от настоящего и тем более будущего. Поэтому в этом акте посредством прозаического языка, к которому обращается поэт, и на основе его личной памяти рождается поэзия, поэзия прошлого, обладающая независимостью от реальной фактичности (хотя и появившаяся благодаря ей) и в этом более истинная, чем она — ведь, как скажет однажды Бродский, «правда языка» больше «правды опыта», и поэт пишет не ради самовыражения, не ради познания, не ради читателя, а ради самого языка [7, с. 465, 440−441]. Поэтому, конечно, следует четко отличать автобиографическую прозу Бродского, которая являет собой поэзию прошлого, и многочисленные интервью или те же диалоги с Волковым в режиме table-talk, в которых много интересных, автобиографически значимых (особенно для авторов книг о Бродском) размышлений, оценок, воспоминаний о своем прошлом и всем, что с ним так или иначе связано, но в которых нет этой поэзии прошлого. Ведь поэзия создается не припомненными фактами и рассуждениями по их поводу, а языком, той неуловимой атмосферой, которая, как обволакивающий землю утренний туман летом, окутывает и пронизывает собой, казалось бы, привычные слова и языковые конструкции, придавая им новое, поэтическое звучание и значение.
Правда, следует признать, что не все эссе Бродского, так сказать, равнопоэтичны, есть у него и такие, в которых идеологическая, политическая, ценностная составляющая — т. е.
та, что относится не к поэту, а к «субъективности» отдельного частного лица со своими взглядами и убеждениями — является определяющей. Таковым, на мой взгляд, является эссе «Коллекционный экземпляр» [5, с.166−223]. Но интересно, что даже в нем очень выразительно и выпукло представлен подход, которым Бродский часто пользуется в лучших образцах своей прозы и который характеризует его поэтическое сознание в прозе. Поэт опирается на какой-либо запавший в его память и сознание образ или деталь — в «Коллекционном экземпляре» это выпущенная в СССР небольшим тиражом марка известного разведчика из «кэмбриджской пятерки» Кима Филби, — и придает ему поэтическое звучание, органично встраивая его в поэтический контекст прозаического повествования. И весь текст по сути являет собой развернутую поэтическую рефлексию, разработку и развитие такого образа, осуществляющееся с разных сторон, по разным поводам и в разных контекстах, в чем-то даже напоминающее поток поэтического сознания, но подчиненное, как это становится ясно к концу чтения, довольно строгому порядку. В итоге эти кажущиеся разрозненными множественные эпизоды (а большую часть своих эссе Бродский имел обыкновение делить на небольшие, примерно 1−1,5 страницы, главы), благодаря талантливо претворяемой поэтической работе с языком, в которой размышления являются зачастую продолжением и порождением сравнений, метафор, ассоциаций и, конечно, воспоминаний, организуются в стройную целостность со своим неповторимым философско-поэтическим стилем.
Этот стиль был органичен для мироощущения Бродского поэта, поэтому он отличает уже самую раннюю прозу середины 1970;х, не претерпевая заметных изменений и в дальнейшем. И важной, можно сказать, неотъемлемой частью этого стиля была поэтическая интеграция в общую ткань повествования автобиографических отсылок. Если в воспоминаниях данная черта объясняется особенностью жанра, то в других эссе, посвящены ли они конкретному поэту или разбору конкретного стихотворения, языку поэзии или прозы, публичному выступлению по поводу какого-либо общественно-политического вопроса или размышлению на литературно-философско-мировоззренческие темы, она предстает именно как ключевая особенность стиля, и даже шире — как принцип поэтической рефлексии в прозе Бродского. Нет работ (за исключением, пожалуй, только статей о Кава — фисе и Рильке), где он так или иначе не включал бы свой автобиографический потенциал, будь то опыт доэмигрантского существования или приведение какой-нибудь смыслообразующей и даже символической детали из своих европейских путешествий, указание на черту из своего прошлого или вставку происходившего с ним конкретного эпизода с его детализированным описанием, ссылку на свое личное впечатление или мнение. Так, например, в посвященной римскому императору-стоику статье «Дань Марку Аврелию» [5, с.307−343] сразу же вослед вводным размышлениям об античности, всаднике и скульптуре, автор подробно описывает свое первое впечатление от увиденной через ветровое стекло такси статуи Марка Аврелия, сопровождая это описание частными деталями и воспоминаниями из школьного детства. Однако, уже в процессе чтения, не говоря уже об оценке после его завершения, складывается ясное ощущение, что эти (и последующие за ними) автобиографические детали выходят за пределы private persona, поскольку, хотя и вызваны ей, но, будучи пропущены сквозь фильтр поэтической рефлексии, являют нечто принципиально большее, чем эпизод из истории отдельного Я. Причина этого в том, что все эти автобиографические реминисценции почти всегда поэтически оправданы у Бродского, выполняя свою роль в создании поэтической целесообразности прозаического сочинения, например, задавая определенную тональность повествованию или внося личностно-интимную и образно-смысловую конкретность в ход общих рассуждений. Ведь у Бродского, особенно в прозе, поэтическое сознание было автобиографично, поскольку он воспринимал и осознавал свое Я через Язык, а не наоборот. Поэтому говоря о языке, — а о нем он говорил и в поэзии, и в прозе, — он не мог не выйти к своему Я, которое было при этом призвано не заслонить собой его и тем более не подчинить себе и своей произвольности, а во всей возможной полноте явить его, языка, голос.
И закономерно, что наиболее сжатое и точное выражение поэтического понимания языка было представлено во второй части Нобелевской лекции, de juro (а пожалуй, и de facto) главной речи Бродского. Поэзия в качестве высшей формы языка (а это положение Бродский часто повторяет в разных трудах) опровергает одну из иллюзий, свойственную более низшей форме повседневного языкового сознания, а именно, что человек владеет, распоряжается, пользуется языком по своему усмотрению как средством. Именно поэт, более чем кто-либо — и чем более он велик, т. е. чем более он поэт, тем эта степень становится больше — всей тканью своего поэтического существа ощущает и признает «диктат языка», делающего самого поэта лишь «средством языка к продолжению своего существования». На уровне поэтического творчества зависимость эта абсолютная, безальтернативная, всепоглощающая, но при этом освобождающая, преображающая, возносящая человека (причем не только самого поэта, но и, пусть и в меньшей степени, читателя поэзии) на более высокий уровень реальности, более высокий уровень бытия [1, с.251−255].
Более или менее, в зависимости от склонности к поэтической саморефлексии, явные черты такого понимания языка можно найти у многих поэтов, причем самых разных эпох. И неудивительно, что философия, открывшая для себя тему языка много позже, лишь в XX в., и во многом именно в результате философского (пере) осмысления поэзии, приходит к схожим выводам. Самый наглядный пример здесь — Мартин Хайдеггер, чья «философия языка», складывающаяся в процессе чтения древнегреческих поэтов-мыслителей, Гельдерлина, Рильке, Тракля, является путеводной звездой его поздней «фундаментальной онтологии», ведь сам язык — «дом бытия», и в этом доме обитает человек, а хранителями этого жилища являются поэты и философы, своего рода высшие и наиболее полные проводники и просветы бытия [11, с. 192−220].
Сам Бродский, насколько мне известно, в своих работах ни разу не упоминает ХайдеггераДа и вообще философы не слишком частые гости на страницах его работ, на которых лишь изредка мелькают упоминания Сократа, Плотина, Декарта, Гегеля, Кьеркегора, Витгенштейна, Ше — стова (влияние которого на себя в молодости поэт даже признавал); исключением здесь является Марк Аврелий, которому, как уже сказано выше, посвящено целое эссе, и это не случайно, видимо, здесь имело место известное родство жизненного мироощущения поэта и античного философа — императора — но об этом в своем месте., хотя, скорее всего, не мог не знать о нем, все-таки 24 года преподавал в американских университетах (Мичиганском, Колумбийском, Нью-Йоркском)! Впрочем, это не принципиально. При сходстве понимания языка у философа и нашего поэта важнее различия, так сказать, в интонациях и акцентах. Философ придает языку предельно-всеобщее, онтологическое измерение, рассматривая его в непосредственной соотнесенности с бытием как таковым, а себя признает его прямым медиумом. Но именно подобные претензии философии говорить от лица бытия, истины, разума всегда встречали сопротивление и отторжение Бродского, который вовсе не стремился к любого рода обобщениям и следуемой отсюда назидательности, не видел в себе вещающий откровения рупор, не желал примерять на себя одежды пророка, избегал сам и критически, подчас довольно жестко разоблачал в других претензии на какое-либо «мессианство». Все это ему претило и мировоззренчески и эстетически потому, что стремилось облечь и утвердить частный голос за счет авторитета разного рода всеобщих «институций», не решаясь по разным причинам открыто говорить от своего и только своего конечного частного лица (думается, такую критическую позицию Бродского поддержал бы Ницше).
Как мы уже отмечали, сознательной, довольно рано сформировавшейся и выстраданной жизненной позицией Бродского, одним из столпов его мировоззрения, было признание в качестве ценностного ориентира «частности человеческого существования», а себя — частным лицом, private persona. Это был ориентир отдельного частного человека Иосифа Александровича Бродского, не более, но и не менее. Помимо других особенностей биографии (например, ранней работы на заводе, участия в геологических экспедициях и т. п.), на этот выбор Бродского, несомненно, определяющее влияние оказал личный опыт жизни в Ленинграде 1960;х годов в среде «поэтической и интеллектуальной богемы», выработавший идиосинкразию ко всем коллективно-общественным формам человеческого существования, которые вынуждали редуцировать, а то и просто растворять в себе голос частной, отданной исключительно на свое собственное попечение индивидуальности.
Этот опыт, несомненно, формировался как благодаря людям, с которыми общался Бродский, в первую очередь с покровительствующей ему «царственной» Ахматовой, и той деятельности — и именно поэтической — которой они занимались, так и благодаря неповторимой эстетической атмосфере исторического центра Ленинграда, с его строгой классической архитектурой, знаменитой невской «першпективой», повсеместным присутствием воды с отражающимися в ней расплывчатыми контурами зданий и людей, фантасма — горичной атмосферой белых ночей, бесстрастным бледно-однотонным небом, покрывающим этот город большую часть года и невольно воспитывающим стойкость духа. Думается, что существование в таких условиях, наряду с влиянием духа английского языка и англо-американской поэзии, в немалой степени способствовало формированию автономности как поэтического, так и индивидуально-личностного мироощущения поэта, признающего ценность своей свободной индивидуальности и готовность любой ценой отстаивать ее выбор; впрочем, не исключено, что одно было лишь следствием другого. И сам Бродский признавал (и в этом с ним согласятся не только ленинградцы-петербуржцы, что не удивительно, но и многие москвичи), что наличие совершенно уникального genius loci Ленинграда-Петербурга ощущается как действительное и действенное, ведь он, живущий как в его культурных, так и природных, географических ландшафтах, воспитывает причастного ему — хотя бы уже одним фактом проживания или даже кратковременного пребывания на этом пространстве — как эстетически, так и этически, приобщая его, с одной стороны, ясности мысли и строгому благородству форм, а с другой — представлению о ценности человеческой свободы; все это позволяло ему говорить о Ленинграде-Петербурге как об «эстетическом эквиваленте стоицизма» [7, с.549−568]. В конце концов, не случайно в советское время Ленинград вызывал подозрения и неприязнь официальной Москвы за ощущаемый в нем дух скрытой фронды, сопротивления навязываемой идеологической официозности и отстаивания своей суверенной самодостаточности. Право на свой особый статус у города было закреплено в имперской истории, великих классических памятниках архитектуры и литературы, наконец, в самом месторасположении города, уже одной своей географией формирующим особый психологический и эстетический настрой. И Бродский был пропитан этим духом с головы до ног, он был зачат им и вскормлен, и в нем же, уже вдали от родины, продолжал находить вдохновение и отдохновение, возвращаясь в него в своих воспоминаниях и отказываясь вернуться физически (ведь прошлое, как мы отмечали выше, было для поэта дороже и ценней настоящего). Поэтому, когда читаешь посвященное этому городу эссе, «Путеводитель по переименованному городу» [см.: 6, с.75−101], то хотя в нем практически нет прямых автобиографических отсылок (что нехарактерно для его прозы), но за каждой строчкой видишь личный опыт поэта, позволяющий лучше понять генезис его поэзии и философско-поэтического мировоззрения в целом.
Таким образом, идеологическое неприятие советской власти с ее гимнами общему благу и новому public persona было лишь следствием эстетического неприятия ленинградца, чьи занятия искусством поэзии воспитывали обостренное понимание ценности своей частности, особости, автономности, того, что не объединяет с другими, а отличает от них как «собственное» в своей неповторимости, необщности, суверенности существования. И понятно, почему положение о том, что «эстетика мать этики» было одним из наиболее значимых остовов мировоззрения Бродского. Ведь если вкус, еще у Канта выступающий основой эстетического суждения как способности судить о прекрасном в частном, воспитывается поэзией (а также и другими видами искусства) в личных непосредственных отношениях читателя и автора, автора и самого языка, то его генезис и осуществление предельно индивидуальны и личностны, и это если не гарантия, то важный залог его свободного — и нравственного — выбора, позволяющего сопротивляться соблазнам зла, которое как «плохой стилист» [1, с.246] зачастую скрывается под повторяющейся демагогией и дидактикой общих призывов. Хороший вкус и сомнение, сплав которых представлен в произведениях великой литературы, — вот что является для Бродского главным, чуть ли не единственным противоядием «от пошлости человеческого сердца», что делает такую литературу единственной формой «нравственного страхования», которая есть у общества и человека в частности [5, с. 251, 30]. Вкус и сомнение — проявление индивидуальной автономности. «Красота спасет мир» — с этим принципом Достоевского Бродский бы согласился, по — жалуй, только с тем дополнением, что она может спасти не весь мир, в отношении которого он был скептиком, а конкретного человека; в этом отличие вселенского пророка от поэта как private persona. И неудивительно, что свою Нобелевскую речь Бродский озаглавил фразой из любимого им Баратынского (благодаря которому, кстати, он во многом и решил писать стихи) «лица необщим выраженье» — ведь именно приобщенность искусству, и особенно поэзии, отношения с которой нельзя ни с кем разделить из-за их предельной личностности, порождают образ частного, в самом широком философско-антропологическом смысле, человека, эстетический вкус которого ведет его по пути свободного собственного самоопределения и позволяет избегать разных безличностных форм определения себя извне (т.е., по Канту, развивает человека как нравственную автономную личность, а не гетерономное существо). По этой же причине Бродскому всегда претило и вызывало жесткое отторжение, когда его причисляли к какой-нибудь группе, — например, диссидентов, — желая видеть в нем ее представителя, а не его собственное, представляющее только самого себя частное лицо.
Однако этот частный человек был еще и поэтом, причем крупным, если не великим; во всяком случае, настоящим, подлинным (а это, по сути, высшая оценка). Впрочем, здесь сразу нужно точно расставить приоритеты: не поэзия явилась выражением своей «частности», а, наоборот, осознание себя частным человеком, признание private persona ценностным остовом своего мировоззрения пришло к Бродскому благодаря обращению к поэзии, в процессе занятия ею, как следствие ее преображающего влияния. Частный человек в данном случае — это не исходная данность, это ценностная, этическая характеристика, результат выбора, в первую очередь эстетического.
И потому в дальнейшем, в неоднократно рассматриваемой паре «поэзия — жизнь», Бродский всегда будет признавать определяющую роль первой, говоря, например, что «искусство не подражает жизни, а заражает ее» [5, с.270]. Выше мы уже отметили важность разделения ипостаси поэта и частного человека, которые живут в разных, хотя и несомненно связанных реальностях. Эту двойственность хорошо уловил Пушкин: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». И ошибочно рассматривать поэзию (как, впрочем, и другие искусства) лишь как трансформацию жизни, например, жизненного переживания, к чему склонялись уже немецкие романтики и что стало основой понимания творчества в философии жизни В. Дильтея. И даже психоаналитик Карл Юнг, идя в этом дальше Фрейда, понимавшего творчество лишь как сублимацию личного бессознательного, признавал, что «личная психология творца объясняет, конечно, многое в его произведении, но только не само это произведение», поскольку подлинный творец в своем творчестве выходит за рамки переживаний своего частного индивидуального эго, говоря уже от имени духа и сердца всего человечества и в этом уже преодолевая собственно человеческое и являя голос сверхличного или даже безличного [13, с. 124, 133−146]. Бродский, думаю, полностью согласился бы с Юнгом в невозможности выводить поэзию из частных личных переживаний поэта, рассматривая автора как инструмент, а не причину творчества, также он признал бы, что отношения между обычным человеком (private persona в широком смысле) и творцом организованы иерархически таким образом, что первый подчинен второму, а не наоборот.
Однако еще более важны различия между ними, четко показывающие рубикон между поэтом и психологом-психоаналитиком. Если для Бродского поэт подчинен языку, являясь по сути его рупором, то для Юнга поэт в своей творческой имперсональности выражает коллективное бессознательное, те глубинные и необъяснимые мистические первопереживания (или прапереживания), которые с неотвратимостью заставляют художника служить их медиумом, забывая об своих интересах как private persona. Кроме того, важно отметить, что если у швейцарского мыслителя отношения между ипостасями поэта и обычного человека носят строго подчиненный характер, при котором одна ипостась, высшая, заставляет жертвовать ради себя другой, низшей, то для русского поэта, признающего иерархический характер между ними, принципиально важно, чтобы высшее поэтическое начало не только использовало бы низшее, но и преображало бы его своим влиянием. Не жизнь определяет поэзию, а поэзия определяет, т. е. меняет собой жизнь, иначе говоря, чем больше, дольше, дальше и глубже поэт приобщается автономности языка, «то есть порождает такие автономные творения или же оперирует ими, тем больше идея автономности внедряется в его собственную психологическую структуру, в его самоощущение» [4, с.237]. И в этом смысле private persona у Бродского было не то, с чего он начинал, от чего он отталкивался в своей поэзии, а то, к чему он в итоге пришел благодаря поэзии: его «философия частного существования» есть результат поэтической деятельности и эстетического самосознания, полагания себя, своего образа, образа своих мыслей и жизни в целом, которое формировалось в процессе обращения к стихотворной деятельности и осознавалось в эссеистической прозе. Можно сказать, что private persona — это эстетически определяемая антропология, аксиология, этика — короче, философско-поэтическое мировоззрение Бродского.
В этом смысле антропологию Бродского можно назвать книжной, поскольку именно власть книжного слова для него была безусловно определяющей в формировании бытия человека. Только для человека книжной культуры реальность книги может рассматриваться не только как большая окружающей повседневной реальности, но и как по сути единственная. «Человек есть продукт чтения, поэт — тем более» [4, с.48−49]. И именно потому, что книга прежде всего феномен антропологический, т. е. в чтении образующий человека, полагающий его внутренний и внешний образ, Бродский и будет в своей Нобелевской речи настаивать на том, что человек является существом эстетическим прежде, чем этическим. Ведь в чтении, когда встречаются два неразделимых ни с кем одиночества, одиночество автора и читателя, происходит «бегство от общего знаменателя. — бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону числителя, в сторону личности, в сторону частности» [1, с.248]. И значимость человека, а подчас и его величие, если мы говорим о поэте, определяем книгой, т. е. языком, свидетельствующим о том, что он способен определяться в способе своего бытия благодаря открытости языку, рецептивному принятию в себя его преображающей силы, а также того неизреченно-ужасного, перед чем он предстает благодаря ей. «Язык, вторгающийся на территорию молчания, не получает никакого трофея, кроме эха собственных слов» [5, с.290].
Однако то, что привело Бродского к признанию ценности частности существования и должно было быть прививкой от соблазнительной для многих инфекции стать public persona, т. е. занятие поэзией, сделало его — конечно, благодаря в первую очередь таланту, но также и известному стечению обстоятельств (при аресте Бродского Ахматова не зря воскликнула «какую биографию они делают этому рыжему!» — и действительно, этот — драматичный факт из его жизни, наверное, сыграл свою роль в довольно успешной адаптации на Западе в первый, самый сложный период эмиграции) — публичным лицом, транслятором, пусть и помимо его собственной воли, неких положений, выходящих за пределы частного лица и воспринимаемых многими (в том числе благодаря создаваемой технологиями СМИ публичности) как имеющие всеобщую значимость. Драматическая ситуация, не правда ли?
В этом положении Бродского, однако, нужно четко разделять две ипостаси. Первая лежит на поверхности: это его фактическое присутствие в публичном пространстве культуры. На Западе, особенно благодаря истории с его арестом и ссылкой в село Норенское в 1964 г. и вышедшей (причем без ведома самого автора) непосредственно за этими событиями в 1965 г. книгой стихов, он стал известен задолго до эмиграции как притесняемый режимом талантливый поэт, а уехав из Ленинграда 4 июня 1972 г., Бродский уже в конце июня дает в Лондоне интервью на радио, затем следует разговор на Би-Би-Си и вскоре выходит первое журнальное интервью — их у него будет за всю жизнь такое огромное множество (по предварительным данным — 176), что мало кто с ним из деятелей культуры XX в. может сравниться. Как преподаватель в США он постоянно выступает с публичными речами не только перед студентами, но перед выпускниками, наставляя их перед выходом во «взрослую жизнь», как публичное лицо печатает открытое письмо Президенту Чешской Республики и, конечно, его известность получает мировую легитимность благодаря Нобелевской премии. Все это — неизбежные следствия широкого признания поэта в культуре и обществе, большая часть которого, правда, даже зная благодаря СМИ имя Бродского, так и не читала его стихов (т.е. здесь publica persona полностью вытесняет и заменяет его ипостась поэта и явленную в ней ценность private persona). Сам поэт, ощущая, видимо, некоторую неестественность для себя такого положения, постоянно и в разных формах оговаривается, ссылаясь на свою позицию частного человека, не претендующего на учительство, и подчеркивая индивидуальную значимость сказанного им, но эти искренние оговорки, думается, не слишком изменяют суть дела.
Другой аспект для нас более значим, поскольку затрагивает более фундаментальную область, непосредственно связанную с поэтическим творчеством. Ведь настоящий поэт преодолевает в своих стихах субъективную произвольность и ограниченность своим частным Я, которые могут иметь значения разве что для близких автора (как интересны, например, стишки детей их родителям). Такой поэт является «тем, кем язык жив» (У. Оден), тем, через кого язык — который существовал задолго до него и будет еще невесть сколько существовать после него — раскрывает себя, тем, кто своей уникальной, отличающей только его открытостью к языку позволяет тому проявить свой надындивидуальный, надсубъектный, можно даже сказать надличностный голосСовременные философы тут же бы придумали понятия, типа «языковая имманентная трансцендентность» или поэт как «трансцендентальный медиум языка»; думается, однако, что старое определение Гегеля «субстанциональная индивидуальность», применяемое им, правда, к древнегреческой скульптуре, в полной мере допустимо и здесь в отношении к поэтическому творчеству, схватывая нечто глубинное, значимое.. «Поэт — орудие языка», часто любил повторять Бродский, указывая тем самым на характер отношения между языком и пишущим человеком, сколь бы выдающимся или даже великим он ни был, точнее — как раз благодаря этому. Поэтому занятие поэзией для Бродского более и эффективней — повторяю, это он говорит в отношении себя, не собираясь генерализировать этот итог своего призвания, опыта и развития — чем что-либо способствует преодолению ситуации, когда «первое лицо единственного числа высовывает свою безобразную голову с тревожащей частотой» [1, с.90]. Один из наиболее главных эстетико-этических принципов мировоззрения Бродского состоял в запрете каким-либо способом выставлять напоказ все, что «намекает на исключительность его существования» [7, с.253] И то, что этот — вполне аристократический по своему духу — принцип был естественным для Бродского, хорошо показывают его диалоги с Соломоном Волковым, когда последний неоднократно, например, в отношении знаменитого суда или признаний о значимости своей поэзии, стремился вывести своего собеседника к «типовым» ответам и удивлялся отсутствию желания у поэту так или иначе позиционировать свое «Я», например, как несправедливо ущемленного, незаслуженно наказанного, значимую в общеевропейском масштабе личность и т. п. .
И сакрально-почтительное отношение к Одену было вызвано именно тем, что в его стихах имело место выразительное преодоление своего самостного эго, вместо пафосного утверждения которого вставало смирение, смирение поэта перед языком, радость быть его скромным проводником. Поэзия — чтение, но особенно ее сочинение — учит этому смирению, учит быть скромным, даже скептично настроенным, постоянно сомневающимся и неуверенным в отношении своего Я — ведь в этой сфере оно не определяющее, а определяемое, скорее даже пропускающее через себя то, что больше него — язык [см.: 5, с.563]. И, конечно, особой сдержанности в отношении себя и языка (что здесь, впрочем, нераздельно) научила Бродского Ахматова, как самим своим образом, так и своей поэзией; за это он ей до конца жизни был благодарен.
Отсюда идет и бесстрастно-нейтральная, отрешенно-невозмутимая интонация оденовской (и поздней ахматовской) поэзии, столь привлекательная для Бродского (перенявшего и развившего ее как в своих стихах, так и в способе их декламации), что делает ему близкой и этику римских стоиков, покоющуюся на схожих философско-мировоззренческих принципах. Сам Бродский очень ясно и личностно понимал, что подлинность осуществленности своего бытия вытекает не из потакания своему Эго, а благодаря причастности высшему, чем само это Эго, началу, благодаря готовности обратить себя к нему и сделать свое бытие бытием, вопрошающим об этом начале, вещающим о нем и, в конечном счете, являющем его. И уже не столько важно, знал ли Бродский об хайдеггеровской модели отношения Dasein в подлинном модусе его осуществленности и Sein, угадываемой здесь post factum, — просто это было неотъемлемой частью его поэтического, жизненного и, поскольку она подвергалась рефлексии, то и, пусть и с оговорками, «философского» мировоззрения. В конце концов, далеко не случайно, а для нас и вовсе предельно характерно и значимо, что в качестве эпиграфа своей последней книги, «О скорби и разуме», Бродский взял строчку из стихов столь любимого им Уинстона Одена: Blessed be all metrical rules that forbid automatic responses, force us to have second thought, free us from the letters of self (Славен метрический стих, что не терпит поспешных ответов, думать велит, от оков «я» избавленье несет — пер. С. Гандлевского; выделено мной — Д. Д.).
Как и стоицизм, занятия поэзией образуют установку бесстрастной автономности, позволяющей быть независимым от окружающего мира со всеми его перипетиями и не поддаваться его соблазнам. Достигается это тем, что стоик уходит в себя, поэт — в язык, но в целом, говорит Бродский, при занятии поэзией стоическая позиция «практически неизбежна» [5, с.264]. В любом случае обретение такой свободы предполагает сознательный выбор частности своего существования, выбор себя как «частного лица», что и происходит в римском стоицизме I—II вв. н.э. и в философско-поэтическом мировоззрении Бродского. Кроме того, подобно тому, как стоик не переоценивает значения своего собственного Я, оказавшегося в силу какой-то неведомой закономерности «здесь и сейчас» внутри очередного витка бесконечной эпопеи вечного возращения космической цикличности, полностью подвластного фатуму и даже подобно буддисту (но без знаменитой улыбки последнего) делающего все для того, чтобы преодолеть любые самостные проявления своего Эго ради обретения этически значимого бесстрастия, так и поэт ощущает себя лишь эпизодом истории языка, которая подготовила почву, породила и вскормила его, того, чье значение не в собственном «уникальном самовыражении», а в сохранении этой преемственности, позволяющей выявлять подлинную реальность или, по крайне мере, как определит Чеслов Милош суть поэтического творчества в разговоре с Бродским, находиться в состоянии погони за ней [2, с.492]. И сдержанная скромность поэта лишь оборотная сторона его благодарности тем, кем жил язык в прошлом, тем, благодаря кому он живет в настоящем, тем, наследником, преемником, эхом, тенью которых ощущал и неоднократно признавал себя Бродский, войдя уже сам в их ряды и обращаясь своей поэзией к будущему языка. Жить, скажет Бродский незадолго до смерти, в каком-то смысле цитировать.
Согласимся, подобный масштаб не очень-то соответствует границам частного человека и претензиям на частность существования (хотя, как известно, расцвет римского стоицизма в I—II вв. н.э. во многом связан именно с повышением значимости частной жизни). А ведь поэты, которые, пусть и не подвергают понятийной рефлексии отношения бытия и языка (и слава Богу!), воплощают связь между ними в своих стихах, выражая также этот опыт (пусть и не в столь явном виде) поэтическими средствами и в прозе. Поэтому, думается мне, у каждого поэта есть интимное, если хотите, личностное ощущение своей собственной связи с языком как началом, фундирующим, полагающим, пропитывающим собой все, и эта особая связь делает его доверенным лицом языка, через которое он проявляет свою власть, волю, возможность быть. Поэт, таким образом, проявляет то, что больше частного человека, но что может проявиться только благодаря ему. Более того, по большому счету для поэта и не существует ничего, кроме языка, которому он дает голос в своей поэзии. Правда, сам поэт и не считает ее «своей», в том смысле как его может быть машина, жена, карьерные успехи и т. п. Скорей уж следует говорить о том, что в стихах поэт, напротив, освобождается от всего своего частного, индивидуального, личностно-конкретного, преодолевая свое ставшее узким Я и растворяясь в обволакивающих бескрайних просторах языка.
Конечно, было бы, наверное, неосмотрительно строить на основании такого поэтического миро-языко-ощущения какие-то метафизические концепции, но все же, в целом, рискнем его охарактеризовать как своего рода языковой, или лингвистический, пантеизм. Причем пантеизм этот не плюралистический, или политеистический, что характеризует дорефлексивно формирующуюся мифологическую картину мира первобытного мышления, а монистический и вполне осознанный. И здесь отсылка к римскому стоицизму, особенно Марка Аврелия, опять представляется уместной, ведь в размышлениях императора — философа мы не раз встретим указание на пантеизм, т. е. пронизанность мира божественным Логосом. Используя философские категории (что, конечно, не вполне корректно, но в определенных случаях неизбежно), складывается впечатление, что у поэта язык обожествляется, причем признаваясь в качестве res infinita единственной субстанцией. Сам Бродский рассказывает, какое огромное впечатление произвела на него строчка из стихотворения Одена о том, что «время боготворит язык» и какие метафизические выводы сделал поэт из нее, признав, в частности, что язык является хранилищем времени, понимаемого как онтологический остов [см.: 1, с.87−89] - и здесь опять невольно вспоминается Хайдеггер со своим пониманием отношений между языком, временем и бытием. Действительно, слушая слова Бродского о том, что «поэзия есть искусство метафизическое по определению, ибо самый материал ее — язык — метафизичен» [7, с.291−292] или что «язык выталкивает поэта. туда, откуда язык пришел, туда, где в начале было слово или различимый звук. отсюда склонность поэзии к метафизике, ибо всякое слово хочет вернуться туда, откуда оно пришло, хотя бы эхом, которое есть родитель рифмы» [5, с.93], невольно ловишь себя на мысли, что их вполне мог бы сказать и немецкий философ. Ведь поэт, не уставал повторять Бродский, постоянно имеет дело со временем в своей деятельности, реорганизуя его в соответствии с голосом языка метрической поэтики своих стихотворных строчек. Соглашаясь признавать себя агностиком, скептически относящимся к ценностям, в которые верили люди предшествующего поколения, Бродский, однако, готов поклоняться и даже боготворить язык, который встает на место Высшего Начала. И отнюдь не случайно Бенгт Янгфельдт, многолетний друг и издатель Бродского в Швеции, назвал книгу своих воспоминаний о нем «Язык есть Бог» [14].
Здесь может прийти на ум аналогия с пантеизмом Спинозы (сложившегося под влиянием как еврейской и средневековой мистики, так и возрожденческого пантеизма), для которого существование монистически понимаемой божественной субстанции было намного более очевидным, нежели бытие собственного частного Я или множественной природы, служившими лишь отдельными, из числа бесконечного множества, атрибутами ее манифестации. И если спинозовское amor intellectualis Dei возвышает человека настолько, что он сам становится модусом божественного мышления и уже сам Бог мыслит себя в нем и через него, то открытость к языку поэта (условием и основой для которой можно считать любовь к языку) приводит к тому, что в своем творчестве через поэта говорит сам язык. И как amor intellectualis Dei человека на самом деле есть любовь Бога к самому себе [см.: 10, с.463−465], так и голос поэта является лишь голосом самого языка, а его самовыражение — лишь выражение самого языка. «Рифма сообщает словам оттенок неизбежности» [4, с.27], т. е. делает поэзию наиболее полным воплощением божественной неизбежности и власти автономного и суверенного языка5. Впрочем, и в прозе, пусть и в меньшей степени, это возможно, за что Бродский и ценит так высоко творчество Андрея Платонова, который, в отличие от традиции великой русской литературы, так или иначе исходившей из принципа «человек есть мера всех вещей», приобщает своих читателей к имперсональ — ной автономности и суверенности языка, обнажая язык, «компрометирующий время» [3, с.212]. И если к своей этике Спиноза, как еще раньше Марк Аврелий, пришел в результате познания и самопознания, неизбежно, как следствие, придавая своей жизни определенный эстетический окрас, то наш поэт отталкивался уже от языка, выстраивая этику своего существования на эстетическом фундаменте вкуса. И здесь опять находит свое подтверждение положение Бродского о том, что эстетика матерь этики.
Думается, перед нами здесь аналогия не произвольная и искусственная, а основанная на сущностном родстве философского и поэтического пантеизма, и совсем не случайно великий поэт и мыслитель Гете так почитал СпинозуДумаю, что и этот момент вместе с общим пониманием языка, влиянием англо-американской поэзии, признанием ключевыми ценностями понимание человека как автономного, индивидуального и частного лица, критическим отношением к человеческой самости и любой догматике внешних форм, особой интериоризированности сознания, стремлением мужественно, в одиночестве, без самоутешений доходить до предела, а также мировоззренческой, даже психологической близости позволил Бродскому в конце жизни прямо называть себя кальвинистом [см.: 2, с. 735−736]. См. о влиянии монистического пантеизма Спинозы на Гете и на немецкую философию в целом [12, с. 57−69].. Это, однако, отдельная масштабная тема, исследование которой увело бы нас слишком далеко; подчеркнем сейчас лишь следующее. Пантеизм, неважно философский или поэтический, приводит к признанию незначительности своего частного конкретного Я перед лицом единой божественной субстанции, неважно понимается она как мышление или как язык, и рождает стремление преодолеть его, освободиться от него или, по крайней мере, насколько возможно уменьшить его костную потребность в личном самоутверждении (самолюбовании, самовосхвалении, само-обо-значении и т. д.) ради служения этой субстанции в качестве возможности быть рупором ее наиболее полного проявления.
Опыт приобщенности поэтическому языку позволяет сделать шаг в сторону нового и, сравнительно с повседневным, более высшего уровня бытия, выйти за узкие границы своего частного Эго и трезво, критично, сдержанно, непредвзято оценить его — если уж не sub specie aeternitas, то по крайне мере sub specie aesthetics. В отличие от мистического, этот опыт доступен не только «избранным», но и каждому, достаточно только взять и начать читать стихи, что и будет началом восхождения, началом обра-зования. Ведь, как мы уже отмечали, антропология и онтология человека чувствительны к книжному слову, особенно поэтическому, которое способно их эстетически преображать. Поэтому Бродский, который оценивал количество читателей поэзии примерно в один процент населения земного шара, а то и меньше, так активно в своих публичных выступлениях (например, в «Нескромном предложении») стремился донести мысль о значимости приобщения поэзии самых широких слоев общества и даже предлагал конкретные пути для этого (например, массово распространять дешевые книги стихов в гостиницах и магазинах) — хотя, как мне кажется, несколько иронично, поскольку понимал явную утопичность такого проекта.
Так или иначе, но, если отталкиваться от принципов «феноменологии множественных реальностей» 7, в соответствии с которой человеческое сознание обладает способностью переживать разные реальности (повседневную, религиозную и т. д.) с отличным друг от друга порядком картины мира, переходить из одной в другую и в каждом случае раскрывать себя соответствующим образом, то, несомненно, для И. Бродского поэтическая реальность является высшей. Раз реальность полагается и в определенном смысле является языком, то его высшая форма, поэзия, воплощает собой и высшую реальность. В самом деле, сопоставляя поэзию и повседневную реальность, поэт однозначно отдает приоритет первой — прежде всего за то, что она более гибка и разнообразна, предельно «экономична», не позволяя себе ничего лишнего, избегает всяческих повторений, клише, общих фраз, т. е. всего того, что неприемлемо эстетически, но чем постоянно грешит повседневность (и оправдания — идеологические, этические, политические, прагматические — здесь не спасают). Немалое значение имеет и органическая упорядоченность стихов рифмой, позволяющей избегать хаотичной произвольности и случайности, также характеризующих повседневный мир. Суверенность поэзии проявляется и в том, что благодаря строфике, метрике, цезуре, музыкальной акустике стихотворение есть «процесс реорганизации Времени в лингвистически неизбежную запоминающуюся конструкцию, как бы наводящую Время на резкость» [3, с.36]. А поскольку язык полагает время (которое, как мы помним, боготворит его), а само время условие бытия, то поэзия имеет власть и над бытием. Именно поэтому стихотворение есть «не парафраза реальности и не ее метафора, но реальность как таковая», оно «скорее порождает, нежели отражает», и его язык есть «сам по себе конденсированный вариант реальности» [4, с.231−232]. Являясь высшей по сравнению с повседневной, поэтическая языковая реальность по определению не выводится из последней и даже не является ее трансформацией; напротив, она сама способна притягивать к себе повседневность и преображать ее — если уж не всю ее, то, по крайне мере, повседневную реальность конкретного частного человека, приобщенного поэзии в чтении и тем более в ее сочинении.
Поэтому следы влияния поэтической деятельности обнаруживаются у самого Бродского не только в ее непосредственных результатах, литературных произведениях, но и на иных, более низших уровнях, включая мировоззренческие принципы, повседневный способ существования, собственный образ, особенности темперамента, манеру одеваться и О ней мы подробно писали в своих книгах: [8, с. 17−50] и [9, с. 197−232]. вести себя, даже знаменитый, растянуто-нейтральный, отрешенно-бесстрастный, безэмоциональный стиль декламации собственных стихотворений, в котором можно различить «монотонность, присущую бесконечному» [3, c.35], и дыхание Времени как такового (в самом деле, о какой собственно человеческой экспрессивности, психологическом проявлении субъективности, можно говорить там, где говорит сам язык!).
Все это для нас особенно интересно в связи с активными занятиями сейчас эстетикой — и опосредованно философско-антропологически рассматриваемой онтологии — человеческого образаC работами автора этой статьи, а также его коллег, продуктивно развивающих эту тему в своих публикациях уже несколько лет в рамках проекта «Иконография античных философов: история и антропология образа» можно ознакомиться на специальном сайте этого проекта по адресу: http: //iconsphilosophy. ucoz.ru. Бродский размышлял об этом, вспоминая об открытии для себя Одена, его стихов и его образа на фотографиях [см.: 1, с.90−100]. «Нас меняет то, что мы любим, иногда до потери собственной индивидуальности» [1, с.90]; эти слова Бродского вполне применимы как к Одену, так и к нему самому — оба самозабвенно, до самоуничижения своей самости любили поэзию, и следы этой любви воплощались в их образе. Нейтральность тона оденовской поэзии, определяемая духом скромности подлинного поэта перед языком, удивительно воплотилась и в образе английского поэта, лишенного любой героической позы, всего, что могло бы его феноменально выделять, от стиля одежды до особенностей лица. Сам Бродский признавал, что для него визуальные стороны жизни всегда значили больше, чем ее содержание [см.: 1, с.33]. Но и для него, кажется, было удивительным, что «визуальное может удержать семантическое» [1, с.95], т. е. что в феноменально визуальном образе Одена, относящемся в общем и целом к уровню повседневной реальности и к тому же представленном не непосредственно, а фотографией, нашел соответствующее воплощение его специфически-уникальный опыт приобщенности поэзии. Более того, уже сам этот образ, который постепенно складывался в процессе поэтической деятельности и в котором для любящего стихи Одена раскрывалось, «как истина выглядит во плоти» [1, с.99], не только стал просматриваться за этими строчками, но и проявлять, манифестировать, материализовать и прояснять их. Перед нами настоящее взаимосоотнесение, взаимообращение, диалог чувственно воспринимаемого эстетического образа поэта и его поэзии, и это отличает не фотографии только Одена, но и самого Бродского.
Вот как Бродский описывает фотографию Одена, на которой он стоит, застигнутый врасплох, с недоуменно поднятыми бровями на одной из эстакад Нью-Йорка: «Контраст или, лучше, несоответствие между бровями, поднятыми в формальном недоумении, и остротой его взгляда, по моему мнению, прямо отвечает формальной стороне его стиха (две поднятые брови = две рифмы) и ослепительной точности их содержания. То, что взирало на меня со страницы, было лицевым эквивалентом рифмованного двустишия, истины, которая лучше познается сердцем. В этом лице не было ничего особенно поэтического, ничего байронического, демонического, ироничного, ястребиного, орлиного, романтического, скорбного и т. д. Скорее, это было лицо врача, который интересуется вашей жизнью, хотя знает, что вы больны. Лицо, хорошо готовое ко всему, лицо — итог. Результат. Его лишенный выражения взгляд был прямым производным этой ослепляющей близости лица к предмету. Это был взгляд человека, который знает, что он не сможет уничтожить эти угрозы, но который, однако, стремится описать вам как эти симптомы, так и саму болезнь» [1, с.96]. И отнюдь не случайно Иосиф Бродский, сам сын фотографа, утверждал связь между писанием стихов и черно-белой фотографией, ведь то и другое — способ сохранения времени, из разрозненных фрагментов воспоминаний которых, словно в лоскутном одеяле, складывается жизнь [см.: 5, с.569].
Конечно, у каждого, кто заинтересованно читал стихи и прозу Иосифа Бродского, а также видел его самого (хотя бы на фотографиях) или слышал, как он читает свои «стишки» (хотя бы в записи), сформировался свой собственный образ поэта. Не претендуя на приоритет своего образа, автор данной статьи предложил здесь лишь способ понимания философско-поэтического мировоззрения Бродского, исходя из его отношения к языку как к высшей, даже божественной реальности и к человеку, в первую очередь поэту как проводнику этой реальности, служение которой позволяет ему обрести свободную автономность private persona.
Список использованных источников
- 1. Бродский И. Поклониться тени: Эссе / И. Бродский. — СПб.: Азбука-классика, 2006. — 256 с.
- 2. Бродский И. Книга интервью / И. Бродский. — М.: Захаров, 2007. — 784 с.
- 3. Бродский И. Власть стихий: Эссе / И. Бродский. — СПб.: Азбука-классика, 2010. — 224 с.
- 4. Бродский И. В тени Данте: Эссе / И. Бродский. — СПб.: Азбука-классика, 2010. — 288 с.
- 5. Бродский И. О скорби и разуме / И. Бродский. — СПб.: Лениздат, 2015. — 576 с.
- 6. Бродский И. Меньше единицы / И. Бродский. — СПб.: Лениздат, 2015. — 288 с.
- 7. Волков С. Диалоги c Иосифом Бродским / С. Волков. — М.: Эксмо, 2007. — 635 с.
- 8. Дорофеев Д. Ю. Суверенная и гетерогенная спонтанность. Философско — антропологическое исследование / Д. Ю. Дорофеев. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 666 с.
- 9. Дорофеев Д. Ю. Под знаком философской антропологии / Д. Ю. Дорофеев. — СПб.; Москва: Центр гуманитарных инициатив, 2014. — 464 с.
- 10. Спиноза Б. Сочинения: в 2 т. / Бенедикт Спиноза. — СПб.: Наука, 1999. — Т.1. — 561 с.
- 11. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления / Мартин Хайдеггер. — М.: Республика, 1993. — 448 с.
- 12. Шелер М. Избранные произведения / Макс Шелер. — М.: Гнозис, 1994. — 490 с.
- 13. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке / Карл Юнг. — М.: Ренессанс, 1992. — 320 с.
- 14. Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском / Бенгт Янгфельдт. — М.: Corpus, Астрель, 2011. — 368 с.