«Мозговая игра» как принцип поэтики романа Андрея Белого «Петербург»
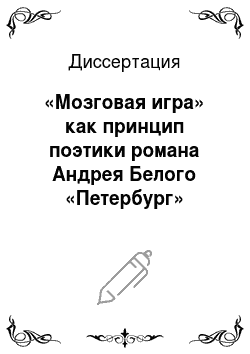
Там же. свободу. <.> Напряжение, возникающее между ожидаемой и реальной структурой отображения создаёт, некоторую дополнительную моделирующую активность. Именно нарушение правил перекодировки делает их моделирующую функцию не автоматической, то есть активной.<.> Таким образом, — делает вывод учёный, — условность отображения объекта в тексте воспринимается как «естественный» порядок… Читать ещё >
«Мозговая игра» как принцип поэтики романа Андрея Белого «Петербург» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Глава 1. «Мозговая игра» как гносеологический и эстетический феномен в теории символизма А. Белого
- 1. «Мозговая игра»: онтологический аспект
- 2. «Мозговая игра»: функция репрезентации и референты
- 3. «Мозговая игра» как система приёмов: реализация в тексте
- 4. «Мозговая игра» как компонент текста в цикле «Симфонии»
- Глава 2. «Мозговая игра» в романе «Петербург»
- 1. Общая смысловая концепция текста
- 2. Хронотоп и атмосфера романа
- 3. Метатекст «Петербурга» и его концептуальные значения
- 4. «Мозговая игра» как оригинальная фабульная конструкция
- 5. Провокация как концептуальное проявление «мозговой игры»
Роман Андрея Белого «Петербург» — такое большое явление русской литературы эпохи расцвета символизма, что охватить его одним взглядом, оценить его величину и значение можно будет, только отойдя от него на значительное историко-литературное расстояние".1 Справедливость этой оценки, заявленной ещё в начале 20-х годов, в полной мере подтверждается разноречивой историей прочтений шедевра Белого на протяжении последних десятилетий.
Как отмечает современный читатель и интерпретатор «Петербурга», «все исследователи так или иначе поддерживают набоковскую оценку романа Белого как одной из вершин литературы 20 века», а «ядром исследований служит „ошеломляющая“ (ключевое слово многих работ) новизна, новаторство поэтики Белого».2 Осмысляя проблему новизны и пытаясь найти её первопричину, как в тексте «Петербурга», так и за его пределами, исследователи «выявляют свою методологию и различаются по направлениям последующего анализа».3 При этом актуальность оценки, согласно которой «необычность этого необычного произведения до сих пор ещё не понята и не определена с подобающей обстоятельностью», 4 корректируется непрекращающимися попытками дать целостное описание художественной структуры романа: «Характер исследовательских работ о главном произведении А. Белого, множественность методик и подходов, плюрализм оценок романа ставит исследователя перед задачей поиска новых аспектов изучения «Петербурга», которые исходили бы из проблемы целостности как ведущей категории художественного и философско.
1 Иванов-Разумник. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Петроград, 1923. С. 89.
2 Ерофеев Вик. Споры об Андрее Белом. Обзор зарубежных исследований // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 482−483.
3 Там же. С. 483.
4 Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 8. эстетического мышления писателя-символиста", 5 — констатирует современный филолог-беловед.
В любом случае не вызывает сомнений тот факт, что широта и глубина историософской проблематики, проявленной в одном из «наиболее значительных европейских романов 20 века», 6 оригинальность замысла и, особенно, новаторские и экспериментальные качества художественной структуры будут и в дальнейшем привлекать к тексту «Петербурга» все больший исследовательский интерес. Очевидно также и то, что многообразие методологических подходов к тексту обусловлено сложностью и необычностью художественной формы «Петербурга», диктующей такие способы понимания и интерпретации, которые отвечают запросам и требованиям текста, построенного на принципах символической поэтики. Вероятность некорректного толкования «Петербурга» (как метод доказательства от противного) подтверждает эту методологическую установку.7.
С нашей точки зрения, самобытность текста «Петербурга» заключается, прежде всего, в том, что он, являясь романом-символом и романом-мифом, подобно учебнику по поэтике, вместил в себя и подверг мощному смысловому сдвигу такие актуальные литературоведческие категории, как персонаж, тип, образ, метафора и метонимия, тема, мотив, фабула, сюжет, повествование, вымысел, гротеск, фантастика, содержание и форма, хронотоп, символ, миф. «Петербург» — не только исследовательский «камень преткновения», но и своего рода «поле» проблем, созвучных многим современным лингвистическим, теоретико-литературным, семиотическим, психоаналитическим, эпистемологическим, структуралистским и постструктуралистским идеям и концепциям. Роман Андрея Белого как.
5 Яранцев В. Н. «Эмблематика смысла» романа Андрея Белого «Петербург». Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Новосибирск, 1997. С. 3.
6 Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 6.
7 Ярким образцом такого некорректного прочтения «Петербурга» может служить, например, статья А. Солженицына. Солженицын А. «Петербург» Андрея Белого: Из «литературной коллекции» // Новый мир, 1997, № 7. будто специально написан только для того, чтобы будить пытливую теорео тическую мысль, порождать оригинальные интерпретационные решения.
Объектом данного исследования является поэтика символической прозы Андрея Белого, и, прежде всего — поэтика романа «Петербург», где, по нашему мнению, характерные особенности художественного новаторства Белого выразились наиболее ярко, полно и последовательно. При этом в основе исследовательской метатеории лежит концепция «мозговой игры». Эта концепция призвана выделить в таком сложном и многозначном явлении, как символ, момент творческой символизации, необходимость учёта и развёртывания которого порождена самой спецификой символа.
Не требует доказательств тезис, согласно которому в творческой лаборатории Белого художественные открытия совершались параллельно с напряжённым теоретическим поиском. И литературные тексты, и книги статей (в первую очередь «Символизм» и «Арабески») не могут рассматриваться как замкнутые в себе системы, ибо они всегда были тесно связаны миропониманием писателя, а потому диалектически дополняли и обогащали друг друга. Эксперименты и новации в области литературной формы, с одной стороны, могли опережать философские выводы писателя, а с другой, они вполне могут служить своеобразным подтверждением его же чисто логических конструкций.
В связи с этим обстоятельством возникает потребность вычленить в метафизической эстетике Белого, изобилующей большим количеством специальных философских терминов (не всегда используемых им в каком-то одном — определённом и фиксируемом — значении) некоторые основополагающие концепты, позволяющие создать общую описательную модель построения символического художественного произведения.
Именно такой описательной моделью может служить, по нашему убеждению, модель, которую мы предлагаем называть «мозговая игра». И.
8 Этому положению соответствует оценка «Петербурга» как романа не «фабульно-исторического», а романа «филологического». Фатеева Н. А. «Петербург»: кто автор плана? //Русская речь, 1995, № 6. С. 33. поэтому именно этот интерпретационный ракурс: теория «мозговой игры» как транспонированной в систему поэтики символизации — определяет как понимание и прочтение символической прозы в целом, так и интерпретацию романа «Петербург» в частности. Пафосом же построения такой описательной модели стало желание выяснить, как «сделан» символический текстиначе говоря, интересно показать не только то, как принципы миропонимания писателя, преобразуясь в принципы художественного восприятия мира, создают неповторимую литературную реальность, но и какие теоретические процессы управляют построением словесного целого символического произведения, конституируя его поэтику, какие художественные приёмы наиболее характерны, а эта задача требует как привлечения историко — и теоретико-литературной информации, так и погружения в философскую проблематику: рассмотрения символа и, особенно, символизации в качестве основного формообразующего «механизма» эстетического объекта.
Здесь важно подчеркнуть, что словосочетание «мозговая игра» употребляется нами как эквивалент к концептуальному понятию символизация. Отправным пунктом подобного понимания стал принципиальный тезис Белого из статьи «Эмблематика смысла»: «Символ раскрывается в симво-лизациях, там он и творится, и познаётся» (Белый, 1910: 132).Белый специально указывал на необходимость различения понятий «символизм» и «символизация». Если символизм, согласно концепции Белого, есть творчество с точки зрения единства, то символизация есть та или иная зона творчества: «Тут мы видим, — пишет Белый, — что высота творчества определяется охватом все больших и больших сфер человеческой деятельностипримитивное, художественное, религиозное и теургическое творчество суть этапы все того же творчестваопределяя творчество с точки зрения единства, мы называем его символизмомопределяя ту или иную зону этого творчества, мы называем такую зону символизацией» (Белый, 1910: 139).
Говоря о модельной построенное&trade- «Петербурга», необходимо отметить, что представление о любом литературном тексте как семиотической модели само по себе не содержит чего-то принципиально новоготем не менее, ценность эстетического эксперимента Белого заключается ещё и в том, что он, используя конструктивные элементы символической поэтики, обыграл сам принцип модельной сконструированности литературного текста, сделал модельную конструкцию текста предметом художественного изображения.
В связи с этим, краткий экскурс в теорию моделей (в данном случае, с опорой на взгляды Ю. М. Лотмана) представляется нам весьма уместным и даже необходимым дополнением к теории символизации А. Белого. В «Заметках о структуре художественного текста» Ю. М. Лотман сформулировал ряд концептуальных положений, определяющих сущность художественного моделирования реальности. В частности, он констатировал тот факт, что «всякий уровень художественной конструкции подлежит двойному описанию, долженствующую составить некоторую двуступенчатую модель, причем отношение между ступенями строится не по системе „язык — речь“, „структура — реализация“ (такая двуступенчатость, присущая всякому семиотическому тексту, есть, конечно, и в художественных), а как „правило — нарушение“. При этом нарушение — само есть следствие пра9 вила, но иного».
Ю. М. Лотман отмечает, что, интерпретируя тот или иной литературный текст, «исследователи неоднократно оказываются перед вопросом: «Что описывать: некоторую упорядоченность реально данных в тексте и физически ощутимых элементов или другую, как бы просвечивающую из-за этого ряда, структурную упорядоченность?"10 При этом методологическая дилемма, порождающая ситуацию, когда «оба эти вида упорядоченности в науке часто противопоставляются: в одних из них видят ощутимую.
9 Лотман Ю. Заметки о структуре художественного текста // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. С. 282.
10 Там же. реальность, а в других — исследовательскую фикцию", 11 вполне разрешима, ибо, по мысли учёного, «на самом деле речь идёт о реальности разных уровней».12.
Далее Ю. М. Лотман так определяет специфику художественного моделирования: «Однако, если бы речь шла только о столь привычном в логике и теории моделей явлении — неполном воплощении системы в тексте, с одной стороны, и сравнительно большем богатстве текста, чем системы, явления, чем модели, с другой, то, вероятно, не было бы смысла подробно его рассматривать. Отношение здесь более сложное: если в логической иерархии названные подгруппы образуют модели разной степени абстракции, то есть разного уровня, то в системе художественного функционирования они выступают как противонаправленные упорядоченности, расположенные на одном уровне».13.
Результатом этих рассуждений стало положение, согласно которому «художественно активной может быть организация, состоящая из двух противоположных по направленности структур, подразумевающая, следовательно, как минимум, два описания для каждого уровня».14 В качестве иллюстрации этих отношений Ю. М. Лотман использует оппозицию некоторой нормы условности, принятой в тексте, и фантастического сюжета. В силу того обстоятельства, что любая знаковая система условна, она в той или иной степени обязательно деформирует реальность. Однако «отображение объекта в тексте может автоматизироваться до такой степени, что условность их соотнесённости перестаёт осознаваться».15 В свою очередь фантастика, по мысли Ю. М. Лотмана, способна служить одним из механизмов восстановления типа идеализации, «превращающего» объект в текст: «Соотношение элементов, принятое для объекта, в отображении получает некоторую дополнительную, регулируемую особыми правилами.
11 Там же.
12 Там же. С. 283.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же. свободу. <.> Напряжение, возникающее между ожидаемой и реальной структурой отображения создаёт, некоторую дополнительную моделирующую активность. Именно нарушение правил перекодировки делает их моделирующую функцию не автоматической, то есть активной.<.> Таким образом, — делает вывод учёный, — условность отображения объекта в тексте воспринимается как «естественный» порядок, а её нарушение — как фантастика. Фантастика реализуется в тексте как нарушение принятой в нём нормы условности. Итак, и в этом случае мы сталкиваемся с двусту-пенчатой моделью: одно описание задаёт «нормальное», в соответствии с принятыми нормами условности, отображение, другое — его нарушение в сист В свете выше изложенной интерпретационной схемы текст «Петербурга» предстаёт как целая система проекций, отвечающих (конечно, в самом общем виде) сформулированному Ю. М. Лотманом принципу — отношению «правило — нарушение»: «Двуслойность, — подчёркивает исследователь, — лишь элементарная (логически и исторически) система работающего художественного механизма. На самом деле на основе этого бинарного противопоставления могут возникать парадигмы большей сложности. И если на низших уровнях: фонологическом, метро-ритмическом, рифмы и пр. — действительно господствует парная оппозиция возможных описаний, то на высших (образ, жанр и др.) мы будем, как правило, иметь дело со сложно построенными парадигмами описаний, каждое из которых будет.
16 давать определенную проекцию текста", еме фантастического сюжета".17.
Текст «Петербурга» и есть такая сложно построенная парадигма, в полной мере отвечающая практике «проблемного» чтения. Достаточно привести несколько примеров художественно-смысловых «противоречий», чтобы убедиться в необычайно напряженной моделирующей активности этого текста, заставляющего читателя находиться в состоянии постоянного.
16 Там же. С. 285.
17 Там же. С. 287. напряжения и задаваться вопросами о том, как именно следует понимать тот или иной образ, ту или иную сцену или эпизод.
Взятый Ю. М. Лотманом в качестве примера формообразующий механизм «естественный» порядок — фантастика в «Петербурге» получает свою оригинальную реализацию. Каждый персонаж движется как бы в двух параллельных направлениях и мирах: натуралистическом и символическом, реальном и ирреальном, правдоподобном и фантастическом. При этом в сознании читателя не может не возникнуть понятийный, логический конфликт между «естественным» ходом событий, характерным для реалистического понимания действительности, и сверхъестественным развитием событий, живописующим аномальные факты. Двуступенчатая модель задаёт сразу два модуса реальности: естественное (физический модус реальности) и сверхъестественное (метафизический модус реальности) в тех смешанных, эклектичных формах, в каких действительность представлена в романе. Однако это только одна сторона проблемы.
Погружаясь в мир фантастического романа или волшебной сказки, читатель убеждён, что все происходит не на самом деле. Напротив, читая, к примеру, «Войну и мир» Л. Толстого, он верит в подлинность изображённых в романе событий, даже не взирая на то, что осознает условность и вымышленность изображенного в романе мира. Различные типы трансформации реальности предлагают и различные стратегии понимания текстов.
Роман «Петербург» парадоксальным образом совместил два типа трансформации, перевернул отношение: сверхъестественное предстаёт в виде «естественного» положения вещей, а собственно естественное как некое отклонение от этого положения.
Формообразующая модель «правило — нарушение» претерпевает процесс децентрации, и бинарная оппозиция лишается единого смыслового центра. Горизонт интерпретационного ожидания существенно расширяется, и говорить о какой-либо однозначности понимания уже не приходится.
Если в реалистическом произведении смысловой центр сдвинут в сторону «естественных» отношений (а это значит, что любой прорыв в сферу сверхъестественного должен быть как-то мотивирован), 18 то, соответственно, в фантастическом произведении смысловые отношения изначально строятся в некотором пространстве, живущем по собственным законам. Одно почти всегда исключает другое. «Петербург» ломает эти традиционные установки. Текст романа репрезентирует сразу два модуса реальности: естественное и сверхъестественное одновременно, и уже читателю решать, какой из них считать «правилом», а какой «нарушением».
Именно эта концептуальная проблематичность модельной конструкции «Петербурга», обращенная, в том числе и к проблеме «мозговой игры», стала предметом исследовательских рефлексий, вызванных к жизни поэтикой романа. Осмысляя амбивалентную природу символической реальности текста, интерпретаторы «Петербурга» так или иначе склоняются либо к «объективному», либо к «субъективному» решению проблемы эстетической экзистенции символической реальности «Петербурга».
Так, уже в одной из первых рецензий, принадлежащей перу Вяч. Иванова, категории «субъективное» и «объективное» осмысляются как две стороны одного целого: «Закономерно принимает роман отпечаток субъективизма, и последний не отнимает у изображения объективной значимости, а лишь затемняет её, обращая духовную летопись событий, в символическую тайнопись личного внутреннего опыта».19.
В статье К. Зелинского «объективное» определяется как «типическое», а «субъективное», трактуемое как «мозговая игра» единого сознания, выступает в качестве основания для существования всех «типов» романа: «Громадна описательная сила Андрея Белого, и в туманах высветляет он то одно, то другое явление, жилку на виске сенатора, волосок на подбо.
18 Наиболее распространёнными способами мотивации являются, как известно, сон и безумие. Например, сон Германа в «Пиковой даме», безумие Евгения в «Медном всаднике» Пушкинасумасшествие Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых» Достоевского и т. д.
19 Иванов Вяч. Вдохновение ужаса (О романе Андрея Белого «Петербург») //Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1917. С. 93. родке Анны Петровны, жёлтые пятна, кабинет Аблеухова, уличный промельк так — что впечатляет все это, как живое, как чисто толстовская деталь. Но сейчас же опять поглощается это дымом мороков, проваливается и падает в мозговой игре, в мозговых извилинах.<.> Все типы, изображённые в «Петербурге» Андрея Белого, выявлены не столько из реально ощутимого, а потому и из могущего быть проверенным материала самой действительности, сколько тянутся все они, как дым в открытую дверь, в мозговые извилины какого-то единого сознания. Там тип накладывается на тип. В их многоличии бьётся «мозговая игра» единого сознания. И через него-то мы должны понять все типы «Петербурга». И это, что не понимали многие критики «Петербурга», чувствовал сам автор".20.
По существу, К. Зелинский предлагает рассматривать «Петербург» как роман сознания, как автономный мир «субъективных» состояний: «И вот воспалённое это сознание, которое простилает все „типы“, становится на такую грань, где одно состояние оказывается сдвинутым в другое, в собственную противоположность, где начинается совершенная чертовщина, перемигивания друг с другом враждебных идей. Кощунственная мозговая анархия, его само самопровокация. Этой провокацией, хамелеонством так и несёт от романа. Даже слова в нём часто сцепляются друг с другом, как руки в спиритическом сеансе, а смыслики начинают забегать друг за дру-га». 21.
На самодостаточном субъективизме изображённого в «Петербурге» мира настаивает и К. Мочульский: «Это — небывалая ещё в литературе запись бредаутончёнными и усложнёнными словесными приёмами строится особый мир — невероятный, фантастический, чудовищный: мир кошмара и ужасамир извращённых перспектив, обездушенных людей и движущихся мертвецов. И он смотрит на нас фосфорическими глазами трупа, парализует ужасом, околдовывает гипнотическим внушением.<.> Чтобы.
20 Зелинский К. Поэма страха // Зелинский К. В изменяющемся мире. М., 1969. С. 205−206.
21 Там же. С. 207. понять законы этого мира, читателю прежде всего нужно оставить за его порогом свои логические навыки: здесь упразднен здравый смысл и ослаблены причинные связиздесь человеческое сознание разорвано на клочки и взрывается, как адская машина в «форме сардиницы».22.
Со временем эмоциональные оценки первых интерпретаторов «Петербурга» сменились более аргументированными системами доказательств, проецируемыми на опыт повествовательной прозы 20 века в целом. Так, Е. Старикова отмечает, что «автор «Петербурга» даёт ключ к одному из главных принципов построения своего романа, легшего в основу модернистской прозы 20 в. и имеющего более чем полувековое продолжение и развитие в современной мировой литературе. Здесь Белый с открытостью, ему свойственной, объясняет читателю, как именно происходит в его романе стирание границы между человеческим сознанием — героя или автора — и окружающим миром.
Идут два встречных процесса. Мир внешний — весь без остатка — вбирается в это сознание, становясь только его функций, его «мозговой игрой». <.. .> Мир внутренний — фантазии, литературные ассоциации, исторические параллели, воспоминания — объективизируется, приобретает плоть и кровь, живёт и действует на равных правах с реальностью — лакеями, стучащими сапогами, учреждениями, источающими поток циркуляров, с гостиными, полными светских сплетен, и т. д. Таков второй поток этого процесса растворения границы между «субъектом» и окружающим ми.
23 ром".
М. А. Никитина повторяет мысль о параллельности существования «объективного пространства» и «пространства сознания» в романе Андрея Белого: «Из задачи, поставленной себе автором, — констатирует исследователь, — вытекает её единственно возможное решение: герои романа превращаются в «тени», <. .> а окружающий их объективный мир оказывается.
22 Мочульский К. Андрей Белый. Томск, 1997. С. 150.
23 Старикова Е. Реализм и символизм // Развитие реализма в русской литературе. Т. 3. М., 1974. С. 229−230. преломленным через их сознание. Перед читателем предстают его символы — восприятия в той форме, которая сложилась в сознании данного персонажа. Можно сказать, что каждое имеющееся в романе «объективное пространство» является одновременно «пространством сознания» героя. Поскольку они суть отражение друг друга, у них не только много общего: зачастую они тождественны".24.
Венгерский исследователь Лена Силард развивает интерпретационную схему тождественности «субъективного» и «объективного» пространств «Петербурга», осмысляя специфику повествовательной техники романа: «Следующим шагом на пути перестройки эпической дистанции, -пишет Л. Силард, — явился роман «Петербург», место которого — в ряду крупнейших явлений прозы 20 века. В нём перевёрнуто привычное романное соотношение между объектным и субъектным миром. Андрей Белый, собственно, всегда исходил из мысли, что описывать можно лишь горизонты собственного сознания, но только в «Петербурге» он нашёл соответствующую технику, которую использовал почти сразу же и на несравненно более узком материале детского мышления — в «Котике Летаеве», а кроме того попробовал дать ей обобщённое оформление в незавершённом замысле с характерным названием: эпопея «Я».
Новизна состояла здесь в том, что, стремясь осветить жизнь сознания, Андрей Белый не только широко использовал внутренние монологи, сны, галлюцинации, в построении которых развивал традиции Л. Толстого и Достоевского, но практически весь объективный мир представил как интерьер сознания. Чьего? — то героев — протагонистов, то повествователя.
Технически это оказалось возможным прежде всего благодаря обнажению и намеренному смешиванию статусов персонажей и повествователях.^.
24 Никитина М. А. 1905 год в романе Андрея Белого «Петербург» // Революция 1905;1907 годов и литература. М., 1978. С. 191.
Лейтмотив «мозговой игры», разработанный, как и многие другие лейтмотивы романа с учётом опыта симфоний, выполняет множество функций, но прежде всего он эксплицирует роль автора как демиурга своего художественного мира и демонстрирует победу художника над своим, в сущности, мрачным материалом.
С другой стороны, лейтмотив «мозговой игры» выносит на поверхность, если угодно — тематизирует, факт введения в поле сознания повествователя героев-протагонистов как самостоятельных и самодовлеющих сознаний, поскольку «мозговая игра», «странное свойство» которой — превращать «праздную мысль» в «пространственно-временной образ» (гл. 1., подглавка «Странные свойства»), является также атрибутом персонажей, сознание которых связано между собой и с сознанием повествователя «круговой порукой». Чтобы убедиться в этом, достаточно соотнести те страницы романа, где появление сенатора Аблеухова у подъезда собственного дома обыгрывается как результат «мозговой игры» Дудкина, глядящего из окна сенаторского дома на подъезд, а появление Дудкина возле кареты Аполлона Аполлоновича — как результат «мозговой игры» сенатора, с общей мыслью о том, что возникновение всех фигур романа есть результат «мозговой игры» повествователя. В построении этой цепочки «мозговой игры» находит игровое выражение любимейший тезис Андрея Белого, утверждающий, что наше сознание творит новую действительность, что процесс опознания «идей — образов» «образует самую объективную действительность» и что «как только символ создан», «творчество наделяет его онтологическим бытием независимо от нашего сознания». Этим ходом осуществляется и «объективизация» сознания, являющаяся основой подстановки: именно сознание — при всем его фантасмагорично-сти — оказывается реальностью, в то время как объективный мир — фантасмагорией. В плане содержательно — тематическом это игра в риккертиан-ство выливается в центральный образ романа: весь «Петербург», главный герой произведения, есть плод «мозговой игры» Петра (как роман есть плод «мозговой игры» автора)".25.
Д. Е. Максимов, анализируя амбивалентную структуру текста «Петербурга», настаивает на том, что понимание романа вполне возможно и вне учёта его «иллюзионистского аспекта»: «В романе Белого мы наблюдаем и гоголевское языковое балагурство, и иронически поданные высокопарности, и официозности, и столь же иронические просторечия, и обращения к читателю, и ритмо-образующие игровые тавтологические словосочетания. Этот стиль, видоизменяясь, проникает и в те сферы романа, которые названы в нём «мозговой игрой».<.> Вся эта стилистическая игра, охватывающая текст «Петербурга», его язык и отчасти его содержание, смещает контуры создаваемой в романе действительности, способствует превращению реального в осмысленную иллюзию. Но эта игра, направляемая от лица повествователя — автора, выставляет вместе с тем дистанцию, отделяющую «страшный мир» романа от «авторского сознания».
Аблеухов-старший, как и другие персонажи романа, как и сам породивший их мифологизированный город Петербург, в толковании автора, является лишь «мозговой игрой», иллюзионистским феноменом грезящего сознания. Но это толкование — не более чем аспект авторского подхода к тексту. Этот аспект объясняется не только органическими особенностями миропереживания Белого, но и его художественным заданием, установ-кой.<.> Иллюзионистский аспект, кроме того, создаёт некую перспективу, особую подвижность в читательском восприятии героев, модальность их существования в романе, помогающую ощутить их тайное духовное единство (например, отца и сына Аблеуховых), или переходы одного в другого («печальный и длинный» — Лихутин). Но вместе с тем бытийственная и бытовая суть романа, его реальное самостояние, все его элементы и их сцепления художественно убедительны в самих себе и с такой очевидно.
25 Силард Лена. Поэтика символистского романа конца 19 — начала 20 вв. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) //Проблемы поэтики русского реализма 19 века. Л., 1984. С. 278,280. стью проецируются в реальную действительность, что их соллипсическое объяснение служит лишь дополнительным ракурсом, вариантом, без которого понимание их в известных пределах вполне возможно".26.
Мысль Д. Е. Максимова о возможности самостоятельных интерпретаций «объективного» и «субъективного» планов романа повторяется и в некоторых других работах: «Изображаемое в романе предстаёт то как отражение объективных жизненных явлений, то как призрачное видение, порождённое фантазией автора, — отмечает Л. А. Юркина. — Герои романа то наделяются чертами типической характерности, то объявляются «не существующими». Или: «Символизация образов персонажей в романе А. Белого превращает Николая Аполлоновича, Аполлона Аполлоновича, Лип-панченко, Дудкина в символы, полумифологические архетипы, в «бесов 20 века», как назвал их Д. Максимов, но при этом персонажи остаются жиз.
28 ненно реальными и психологически возможными".
Используя термин «символизация» Г. Н. Бахматова повторяет тезис о стирании в романе границы между «субъективным» сознанием и «объективной» реальностью: «В произведении используется художественный приём стирания границ между человеческим сознанием и окружающим миром. Он развивает процесс символизации в двух направлениях: во-первых, это материализация ощущений <.>, во-вторых, превращение конкретных жизненных реалий в призраки.<.> Эта взаимообратимая символизация материального и духовного стала в романе поэтическим средством выражения идеи целостности и в то же время обусловила формальный.
29 принцип организации художественного целого".
26 Максимов Д. О романе — поэме Андрея Белого «Петербург». К вопросу о катарсисе //Русские поэты начала века. Л., 1986. С. 278,312.
27 Юркина Л. А. Проблематика романа А. Белого «Петербург» // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1988, № 4. С. 18.
28 Бахматова Г. Н. О поэтике символизма и реализма (на материале «Петербурга») //Вопросы русской литературы. Львов, 1988. С. 128.
29 Там же. С. 128−129.
О «двоемирии» «Петербурга», трактуемом, как философское основание романа, размышляет в своей книге о Белом и Л. К. Долгополов: «Сочетание видимой, осязаемой материальности и мистической нереальности и составляет главное в поэтической структуре „Петербурга“ (и Петербурга)», 30 — замечает исследователь. Далее он так определяет специфику повествовательной структуры «Петербурга»: «Каждый из героев романа — и герой в собственно художественном смысле (то есть тип, образ), и носитель системы символических значений, которые являются атрибутами его подсознания и которые придаются ему автором. В этом и состоит прежде всего особенность «Петербурга» как символистского романа. Его герои — в такой же степени условные символы, как и художественно достоверные типы. Слияние этих двух аспектов, которое в иных условиях могло бы показаться невозможным или труднодостижимым, в «Петербурге» осуществлено сполна. Решающую роль здесь сыграла та общая идея, которая лежит в основе его художественно-философской концепции в целомвпервые открыто заявлена была она в 3-й «симфонии» («Возврат»), Принадлежность любого явления, факта, самого человека к двум мирам одновременномиру эмпирической действительности и миру бытийного, космогонического существования —решается в «Петербурге» на широком материале жизни столицы огромной империи, столицы могущественной и призрачной одновременно. Петербург в романе Белого — явление и «феноменального» и «ноуменального» (в кантовском смысле) мирови Российская столица, и (пользуясь словами героя романа Достоевского «Подросток») «чей-нибудь» сон, материализованная «греза», или, наконец, «праздная мозговая игра», как скажет уже сам Белый в Тексте романа. Эта идея, разветвление выраженная и художественно обоснованная, и будет положена в основание философии «Петербурга». Именно она окажется средством, связующим в одно целое разнородные и разностильные элементы романаболее того, ей предстоит держать на себе роман как единое и завершенное.
30 Долгополов К. Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 206. художественное целое, держать эту пирамиду, вбирая в себя, расплавляя и снова сплавляя, а подчас нейтрализуя произвол логических и исторических ходов Белого".31.
Опираясь на детальное рассмотрение теории символизации, концепцию «двоемирия» развивает Л. А. Новиков: «.характерной доминантой творчества А. Белого следует считать композицию «двоемирия» и метод художественной символизации.Эта. доминанта в значительной мере продолжает философское мировозрение писателя в его художественном твор-честве.<.>
Поверхностный и параллельный ему глубинный ряды в композиции литературных произведений, данные одновременно или даже разновременно, отражают соответственно явление («представление») и сущность («вещь в себе», «волю»), т. е. определённое, каждый раз специфически данное «двоемирие», а сам метод художественного постижения сущности, глубинных свойств мира путём обнаружения «соответствий» есть симво-лизация.с. .>
Таким образом, эстетика А. Белого, методы и приёмы художественного освоения действительности определялись не только доктриной символизма, но и разными видами и формами символизации как процесса построения определённых моделей переживаний с помощью образов видимости, т. е. непосредственно наблюдаемой действительности. <.>
Композиция «двоемирия» пронизывает «Петербург». Реальному миру (видимости) параллелен отвлечённый мир планиметрии, нумераций и математических измерений, внутреннего «Я», «второго пространства», сновидений и астральных переживаний, т. е. глубинный поток сознания, в котором взаимодействуют и сливаются мысли и переживания повествователя и героев".32.
31 Там же.
32 Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М., 1990. С. 22,45, 86.
Олег Клинг в статье, посвященной проблеме трансформации поэтики в ходе работы над редакциями романа, основываясь на тыняновском разграничении понятий «фабула» и «сюжет», отождествляет «субъективную» стихию «Петербурга» с сюжетом, а «объективный» мир романа с фабулой: «.уже в самом начале „Петербурга“ развитие романа идёт „вне фабулы“. По образному выражению Белого (о Гоголе), фабулу „Петербурга“ „выветривает“ сюжет, сюжетные ходы. В первую очередь это относится к мотиву „мозговой игры“. Он ключ к пониманию „Петербурга“ и становится центральным уже в „некрасовской“ редакции.<.> Белый отказывается от иллюзии достоверности, отказывается и от связи времени и пространства посредством фабулы, заменив её сложной иерархией материализующего вымысел сознания. <. .> Подводя итог первой главы, Белый подчёркивает в обращении к читателю не фабульное развитие, а мотив мозговой игры».33 Вывод, который делает исследователь, соответствует общему направлению интерпретационных оценок романа: «Петербург» -<.> это художественно организованный, подвижный, не имеющий чётких границ, вырывающийся за пределы времени и пространства мир взаимоисключающих сознаний, <. .> весь роман Белого пронизывает сплав объективного и субъективного начал".34.
Однако существуют и оценки, переносящие вектор интерпретационной активности исключительно в сферу человеческой «субъективности». Так, например, С. С. Хоружий, сравнивая художественные мышления Дж. Джойса и А. Белого, замечает следующее: «Что же до внутреннего зрения (интроспекции), то его развитость и острота делали неизбежным повышенное внимание к внутренней реальности, миру сознания. В установки художества вошла усиленная ориентация на внутреннюю реальность, стремление проникнуть в неё глубже, чем это умели раньше.<. .> И эти.
33 Клинг Олег. «Петербург»: один роман или два? Трансформация поэтики «Петербурга» Андрея Белого в ходе работы над редакциями романа //Вопросы литературы, 1993, № 6. С. 53−54.
34 Там же. С. 62−63. установки были блестяще воплощены. Небывалая объёмность и яркость, подробность и укрупнённость изображения внутренней реальности бросались в глаза и в «Улиссе» и в «Петербурге» и сразу же были признаны главнейшим отличием обоих романов. Необычайною была и пропорция, доля времени, проводимого автором и читателем во внутреннем мире.с. .>
Наконец, и «Петербург», и «Улисс» демонстрируют беспримерное богатство различных форм и горизонтов сознания образующих головокружительные смешения, смещения, положения. Плюрализм планов сознания реальности ставит авторов перед гносеологическим вопросом о существовании твёрдой основы, безусловно достоверного внешнего планаи они оба не склонны к простому положительному ответу. Джойс всерьёз принимает позицию солипсизма Беркли, раздумывает над неюБелый же прямо решает вопрос в пользу ирреальности, вымышленности петербургского мира".35.
Оценке С. С. Хоружего соответствует и точка зрения А. Е. Лало: «Различия в подходах к авторизации нарратива — налицо, но все они — явно тактического свойства- - утверждает исследователь, — стратегическая же цель у обоих писателей одна: показать жизнь индивидуального сознания, представить бытие «мысленных форм» на письме, в литературе.с. .> При этом, исповедуя культ словесности, оба они глубоко убеждены, что именно в слове заложен нужный им творческий потенциал, и действуют через чис.
36 то языковой медиум".
Разумеется, круг проблем, затронутых в процитированных нами фрагментах, не исчерпывает художественной проблематики романа «Петербург» в целом, описательные формулы, используемые беловедами при анализах романа («второе пространство», «центр и периферия», «астраль.
35 Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Джеймс. Собрание сочинений в 3-х т.т. Т. 3. М., 1994. С. 535−536.
36 Лало А. Е. Поэтика главных романов Дж. Джойса и А. Белого: попытка сравнительного анализа //Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий, 1995, № 2, С. 53. ный верх и инфернальный низ", «плоскость и глубина», 37 роман как «цепь.
О о Л Q катастроф", «сфера быта и сфера бытия» и др.) могут прямо и не затрагивать проблему художественной реализации «мозговой игры». Однако так или иначе почти все исследователи, размышляющие над особенностями художественной конструкции романа, приходят к необходимости экспликации смыслопорождающих механизмов этого необычного произведения, а это значит, что соотношение «субъективного» и «объективного» оснований для текста «Петербурга» будет оставаться всегда актуальным.
Подчеркнём ещё раз, что для нас «мозговая игра» — это не просто «образ», «тема» или «лейтмотив» романа, а конструктивный принцип построения целого текста, во многом аналогичный понятию «пространственная форма»: «Пространственная форма — англ. spatial form — тип эстетического видения в литературе и в искусстве 20 в., при котором смысловое единство изображённых событий раскрывается не в порядке временной, причинной и внешней последовательности действий и событий, а синхронично, по внутренней рефлективной логике целого, в «пространстве» сознания. <.>
Согласно Дж. Фрэнку, литература 20 в., как в поэзии (Э. Паунд, Т. С. Элиот), так и в особенности — в прозе (М. Пруст, Дж. Джойс, Д. Берне), ломает «натуралистический» тип повествования, изображения событий, перенося центр тяжести на внутренние соотношения элементов языковых и смысловых структур, подчинённых фрагментарно — ассоциативному принципу изображения и восприятия образа — «принципу рефлективной референции». В направлении авторской «художественной воли» пространственная форма есть художественный метод или «приём», соединяющий разнородный и подчас разновременный материал в новое «ненатуралистическое», акаузальное смысловое единство.<.>Конкретная историчность,.
37 Пискунов В. Громы упадающей эпохи // Белый Андрей. «Петербург». Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. М., 1994. С. 427−433.
38 Шулова Я. А. Новаторство Андрея Белого («Петербург») //Традиции и новаторство в русской литературе 19 века. Горький, 1983. С. 107.
39 Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 6. интуитивная память читательского восприятия восполняет авторский замысел до целого, как бы по вертикали вневременного смысла".40.
Возвращаясь к отношению «правило — нарушение», посредством которого мы очертили общую смысловую схему как совмещение «субъективного» и «объективного» оснований текста, необходимо отметить, что этот принцип действует на всех этажах символического произведения, определяя направления последующего анализа феномена символизации. Литературный эксперимент Белого обусловлен всем комплексом философских исканий писателя, и в том смысле не отделим от них.
С другой стороны, имагинация «мозговой игры» как специфически художественного феномена требует селекции методологических установок символического миропониманияпоэтому мы не станем рассматривать все гносеологические проблемы метафизики Белого специально, а только коснёмся их там, где это необходимо. А из всего многообразия теоретических посылок эстетики Белого мы выберем только те, что помогут нам в построении описательной модели «мозговой игры».
Таким образом, задачи исследования сводятся к осмыслению как общих, так и частных проблем поэтики символического текста. Предметом наших размышлений стали следующие моменты символической реальности:
1)специфика «мозговой игры» как гносеологического и эстетического феномена в теории символизма Андрея Белого;
2)функция репрезентации различного типа референтов в символическом тексте;
3)проблема реализации «мозговой игры» как системы художественных приёмов;
4)общая смысловая концепция текста «Петербурга», обусловленная «мозговой игрой»;
40 Махлин В. Л. Пространственная форма //Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М., 1996. С. 119−120.
5 качественные характеристики хронотопа и атмосферы романа;
6)функции и значения метатекстового компонента текста романа;
7)оригинальная фабульная конструкция текста «Петербурга»;
8)тематический комплекс провокации как концептуального проявления «мозговой игры». Материалом исследования являются роман «Петербург», а, кроме того, «Симфонии», как цикл текстов, который в своей поэтике прямо предшествует «Петербургу».
Заключение
.
Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что, во-первых, перед нами не стояла задача интерпретации тематической структуры романа, толкования тех или иных содержательных моментов текста «Петербурга» в целом. Историко-литературный, социологический, общефилософский, культурологический и иные контексты не вошли в круг нашего рассмотрения. (Именно поэтому историографическая часть работы ограничена проблематикой, связанной с актуализацией феномена «мозговой игры»).
Во-вторых, мы исходили из убеждения, что семантика текста, как вторичной моделирующей системы, обусловлена не только пониманием метафразовых единств, но и тем, как текст функционирует в сознании реципиента. Иначе говоря, наше внимание главным образом было сконцентрировано на проблеме экзистенции текста, т. е. на том, как «сделан», сконструирован художественный текст.
Все это, в-третьих, требует выбора соответствующей методики анализа текста, опирающейся на корректную интерпретационную метатеорию.
Попытка понять и интерпретировать текст, исходя из самой реалии символа и тех интерпретационных схем, которые предлагает теория символизма (в частности, теория символизма Андрея Белого), привела нас к убеждению, что гносеологические и искусствоведческие моменты творческой символизации изоморфны художественной практике писателя-символиста.
Мозговая игра", понимаемая как перенесённая в сферу поэтики символизация, предстаёт в виде художественного принципа, организующего литературную систему текста. Система приёмов, конструирующая символический текст, призвана выявить «объективную» реальность через «субъективный» мир сознания «автора», вмещающего в себя как значения эмпирической реальности, так и смыслы, явившиеся из реальности иного онтологического статуса.
Внутреннее через внешнее, невидимое через видимое, переживаемое содержание сознания через изображение пространственно-временных форм — вот ключевые формулы художественной реализации «мозговой игры».
Белый, осознав изначальную экзистенцию художественной реальности, как автономной принадлежности сознания, перенёс центр тяжести на восприятие текста, как самодовлеющего мышления, строящего миры по своим мыслительным законам: «Пишучи свой роман «Петербург», я старался главным образом описать события, протекающие у нас в голове, и картину мира в «понятийном взятии», — так охарактеризовал специфику своего художественного метода сам автор «Петербурга».48.
Прихотливые законы мышления и становятся главным предметом изображения в «Петербурге». Общая смысловая концепция текста оказывается детерминирована наличием, по крайней мере, двух референтов: текст проецируется на пространственно-временную перспективу, подчинённую причинно — следственным закономерностям, и на такую перспективу, которая не зависит от логики внешней действительности.
Пейзажи и интерьеры сознания совмещаются с пейзажами и интерьерами эмпирической реальности, а перед читателем возникает проблема дешифровки тех или иных фрагментов текста.
Общая смысловая концепция текста распространяется и на другие уровни романа. Как следствие, хронотоп «Петербурга» предстаёт как хронотоп сознания, а его атмосфера оказывается проникнута двусмысленностью, метаморфозностью и миражностью. Персонажи романа также подчиняются этой общей установке, являясь в виде мыслительных форм, носителей символических значений.
Существенно также и то, что персонажи не просто находятся внутри чужого сознания, но и осознают это свое присутствие, рефлексируют о.
48 Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Ответ Эмилю Метнеру на его первый том «Размышлений о Гёте». M., 1917. С. 30. Цитата по: Никитина M. А. 1905 год в романе Белого «Петербург» // Революция 1905 — 1907 годов и литература. М., 1978. нем. Эти рефлексии порождают ещё один слой текста «Петербурга» — петербургский метатекст. И повествователь, занимающий промежуточное положение между персонажем и традиционным рассказчиком, и другие герои «Петербурга» комментируют художественную атмосферу романа, а, кроме того, «объясняют» особенности его поэтики.
На уровне фабульной конструкции «мозговая игра» получает оригинальное воплощение: в силу того обстоятельства, что фрагменты текста репрезентируют «обычный» референт, соответствующий трехмерной реальности, и «аномальный» референт сновидения и мифа, практически все события и картины, изображённые в романе, предстают как компоненты спекулятивной, умопостигаемой фабулы. Внутренний и внешний срезы реальности сливаются в одно нераздельное целое.
Это концептуальное слияние подтверждается наличием тематического комплекса провокации, как своеобразной «обратной стороны» «мозговой игры». Герои-провокаторы делают все для того, чтобы взорвать сенатора, являющегося транспозицией авторского сознания (а значит, и текста романа). Внешние события определяют, таким образом, внутреннюю реальность, и наоборот. Сенатор мыслительно «породил» провокаторов и саму бомбу, которая должна его уничтожить. Сложно построенный иллюзорный мир должен исчезнуть. Однако взрыв, вопреки ожиданиям, не достигает цели: в результате, и значения нормального, и значения аномального референтов сохраняются. Провокация оказывается литературной мистификацией. На протяжении всего повествования именно она задаёт интригу действия, провоцируя реальность художественного текста, а в итоге действие романа замыкается на трёхмерной картине мира («Эпилог» «Петербурга»).
Таковы, в сжатом изложении, концептуальные моменты «мозговой игры», как смысловой детерминанты текста, совмещающего (и обыгрывающего) две ипостаси изображенного в романе бытия: логики внешнего и алогизма внутреннего пониманий реальности.
Рассматривая смысловую структуру романа (которая последовательно реализует схему: общая концепция текста — принципы изображения хронотопа и атмосферы романа — метатекст как автокомментарий этого изображения — оригинальная фабульная конструкция как «игра» по замещению референтов — провокация как тематическое проявление «мозговой игры»), мы выходим к проблеме онтологии литературного произведения. Если символизация («мозговая игра») действительно является основным формообразующим приёмом (принципом поэтики) текста, то она должна управлять и всеми законами его смыслопорождающих механизмов.
Что касается «Петербурга», то, исходя из логики вышеизложенных рассуждений, здесь объектом мыслительной активности интерпретатора становятся эффекты, возникающие в ходе восприятия романа и, как следствие, выделяющие его поэтику из ряда подобий. Регистрация и экспликация этих эффектов (как выше перечисленных, так и иных) цель интерпретационной активности. Один из таких эффектов — особое качество метафоры «Петербурга», некий парадокс восприятия, который заключается в том, что метафорические выражения, встречающиеся в тексте, перестают восприниматься в переносном значении. Ответ на вопрос, какова причина происхождения этого ущерба субституции, вскрывает, с нашей точки зрения, покров с динамической природы «мозговой игры» как принципа символической поэтики, при этом проблема соотношения репрезентативной модели и референта занимает здесь основное место. Главным, по существу, оказывается один вопрос: какой именно референт имеет в виду репрезентативная модель, на какую реальность она проецируется? Привычная мыслительная практика (особенно в реалистическом искусстве) проецирует художественное присутствие на сам мир. Иначе говоря, референт — это эмпирика причинно-следственных и хронологических связей в позитивистской естественно-научной картине мира. По нашему убеждению, реализм и есть имитация этой познавательной парадигмы, к которой на протяжении многовекового развития культуры постоянно устремляется искусство и которая наиболее полное своё выражение получает в поэтике реалистического романа. Референт же «Петербурга» — это нечто принципиально иное. Другими словами, если референтом реалистического взгляда на мир является «по-сю-сторонняя» реальность, то референт «Петербурга» — это своего рода инобытие, «по-ту-сторонность», или чистый «феномен сознания». Понятно, что поведение знака в такой реальности поистине непредсказуемо. Это же касается и метафоры. Уместен даже вопрос: а возможна ли вообще субституция в мифе и сновидении? Способны ли комбинации и неожиданные сочетания означающих обеспечивать семантические сдвиги в вывернутом на изнанку мире? Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский заявляют определённо: «.в самом мифологическом тексте метафора как таковая, строго говоря, невозможна».49 Восстание первичного значения слова, которое используется в качестве означающего, становится, таким образом, феноменологическим следствием символизирования предметными представлениями изначально непредметной реальности. При этом означаемое, утрачивая какую бы то ни было предметную определённость, просто вынуждено рождаться вновь в творческом сознании читателя. Рецепция текста, в принципе, есть его пересоздание, при чем главным образом именно в силу специфики означаемых, которые есть не что иное как импульсы подсознания («переживаемое содержание сознания» в словоупотреблении Белого), возникшие в результате общения реципиента со сложной системой означающих, закрученных «мозговой игрой» в бесконечную систему символических остранений.
Если освободить категорию «мозговая игра» от гносеологических рефлексии, присущих любой развернутой теории символа, и придать ей чисто эстетическую, преимущественно литературно-функциональную определённость, то она предстаёт в виде системы приёмов, с помощью которых создаётся композиционное целое романа. Иначе говоря, отказавшись.
49 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. С. 293. от регистрации и толкования тех или иных концептов, опредмеченых в художественной структуре, мы сконцентрировали своё внимание прежде всего на динамике текста как такового, т. е. на том, как сконструирован и как функционирует текст. Здесь важно подчеркнуть, что символическая реальность не исчерпывается только текстом (= формой, = композицией), она гораздо шире материально-знаковой (словесной) конструкции, но именно через эту конструкцию и происходит проявление, высвечивание смыслов.
Белый постоянно декларирует, так сказать, псевдоонтологический статус изображаемого им мира: для истинно символистского сознания «ноумен» (сущность) всегда дороже «феномена» (явления), важен не текст, а референт, т. е. то, что за ним (текстом) стоит. Тем самым, он кардинально ломает условную установку всякого эстетического объекта на «подлинность» репрезентируемой им реальности. Принципы жизнеи правдоподобий иронически обыгрываются и в конечном итоге девальвируются, что и позволяет автору как бы перескакивать с категории «мнимое» на категорию «подлинное», и обратно. Эти перевёртыши, эта смысловая эквилибристика и есть одно из проявлений «мозговой игры», как приёма, создающего тотальную зыбкость на границах значений — как отдельных слов, так и целых эпизодов. Эти «зыбкость», «текучесть», «переходность» и есть условия создания текста, интерпретации которого предопределены установкой на семантическую амбивалентность. Правда, об этом читатель узнает несколько позже. При чём, это не досадная забывчивость автора, а один из характерных приёмов создания литературной реальности: его смысл заключается в том, что-то или иное тематическое единство оказывается разбросанным, развеянным по всей протяжённости текста, и читателю необходимо как бы собрать воедино фигуры, развинченные на отдельные детали. Информация, касающаяся того или иного явления, даётся небольшими порциями, и читателю необходимо в процессе чтения реконструировать объект для того, чтобы удержать его в сознании. Кроме стимуляции творческих интуиций читателя, такая реконструкция предоставляет повествователю и множество других возможностей, которые заключаются прежде всего в том, что появляется некое семантическое «поле», так сказать, динамическое «общее место», в пределах которого можно нанизывать друг на друга означающие. Эти нанизывания не просто обогащают концепто-носителей всё новыми и новыми содержаниями, но и позволяют вступать им в большое число связей с другими концепто-носителями романа. В результате оказывается, что так или иначе, но все со всеми связаны через те или иные общие атрибуты, главным из которых является причастность к монгольской опасности, которая — в свою очередь — через жёлтый цвет, имеющий целую гамму смысловых тенденций, соединяет концепто-носителей со знаками провокации, сумасшествия, хаоса, а также и с «мозговой игрой» как фабульной конструкцией.
Другой характерный приём, имеющий отношение к нарративной технике, можно назвать приёмом «опережающего означающего»: автор интригует читателя, только называя объект, но не давая ему никакой характеристики или оценки. Например, Аполлон Аполлонович спрашивает камердинера о Николае Аполлоновиче, но читатель может только гадать о том, кем эта внезапно возникшая номинация приходится сенатору, подобными способами вводятся и другие персонажи и явления. Например, так называемое «фосфорическое пятно» постоянно фигурирует в описаниях Белого, но лишь во второй части романа оно обретает своё истинное родство с фосфорически горящим Медным Всадником. Так же конструируются мотивы безумия, провокации, революции, слякоти, болезни (постоянные упоминания о воде с бациллами, о гриппах, лезущих за воротник и т. д., и т. п.). Хорошо знакомому с текстом «Петербурга» читателю не трудно выстроить в сознании эти семантические цепочки. Интересен, например, мотив расширения. Впервые он появляется в сцене встречи Аполлона Апол-лоновича и незнакомца с узелком. Аполлон Аполлонович расширился в кубе кареты, а у Александра Ивановича расширились глаза. Затем мы узнаём, что Аполлон Аполлонович страдал расширением сердца. Одна из встреч отца и сына заканчивается расширением глаз у последнего, некоторые другие объекты «Петербурга» ширятся в мировые пространства, в конце концов весь Петербург должен погибнуть от расширения газов, вырвавшихся из бомбы, которая, кстати сказать, тоже являет собой яркий образец реализации приёма опережающего означающего: на протяжении нескольких глав мы постоянно сталкиваемся с роковым узелком, но что в нём — не знаем. Иногда на первый взгляд малозначительные подробности вступают в связь с ведущими мотивами романа. Так, во время встречи Николая Аполлоновича с агентом охранки, капает сардиночный жир, при этом говорится, что в детстве Николай Аполлонович «объедался сардинками», позже оказывается, что бомба находится в «сардинице ужасного содержания», в результате чего сцена в трактире получает апокалипсическую мотивацию.
Таким образом, мы имеем возможность убедиться, что «мозговая игра», как конструктивный принцип поэтики, действительно структурирует художественное целое символического «Петербурга». Концепты не отрицают друг друга, а свободно накладываются, совмещаются, сосуществуют, насыщая роман самыми разнообразными смыслами, предлагая различные варианты прочтения романа. Смысловая структура оказывается необычайно богатой: свое место в тексте находят — и мифологема Петербурга, и мифологема романа, и многие мифологемы сюжета. Литературная форма «Петербурга», представляя собою как бы слоеный концептно-образный «пирог», остаётся художественно цельной и органичной. При этом идея произведения, как мы смогли убедиться, заложена в самой его художественной концепции, в формообразующем приёме: «мозговая игра», что называется, её «высвечивает», восходит к ней.
Иначе говоря, идея детерминирована самим явлением эстетического объекта — и в творческом процессе («становлении»), и в «готовом», завершенном произведении, и в восприятии его реципиентом. И здесь — в силу самой природы символической реальности (субъектно-объектное образование, текст и метатекст одновременно) «мозговая игра» (символизация) наглядно демонстрирует почему и как именно идея произведения соответствует принципам его поэтики. Вернее, она — в самом же приёме, в сфере символа, она вспыхивает где-то по ходу концептно-образного движения и тем самым открывает и творит мир, срывает покровы с неведомого. Срав.
V 1 «У о нив свое мировоззрение с пространственной фигурои, имеющеи одну вершину и многие основания, Белый нашел удачный образ для символического произведения. «Петербург», по существу, и есть такая феноменальная «пирамида», острие которой — идея, ноумен.
Любой элемент «Петербурга» может служить микромоделью для всего произведения, и наоборот, концепция романа в целом объясняет какие-то его детали. Так, например, герои романа — это постоянно меняющие маски концепто-носители, не традиционные персонажи, а смысловые и образные комбинации, формы в движении (Аполлон Аполлонович Аблеухов.
— Хан Аблай — Маг Аполлон — К. П. Победоносцев — Отец — Зевс — Каренин.
— Хронос — Сатурн и т. д.- Александр Иванович Дудкин — Неуловимый -«Незнакомец с чёрными усиками» — Ницше — Петр Первый — пушкинский Евгений и т. д.). Так, господствующий цвет «Петербурга» — жёлтый — становится выражением желтой опасности панмонголизма, обозначением официального Петербурга, знаком провокации, сумасшествия, хаоса, а также и атрибутом «мозгового вещества». Развёртываясь в сложнейшую образную систему, уходят в бесконечную перспективу концепты: миф о Петербурге, «провокация сознания», тема революции, «мозговая игра» как сюжетная и фабульная фактуры, мифологема романа и многое, многое другое. Все завязано Белым в единый узел, который нельзя развязать, не нарушив целостности произведения. Узел этот — символизация (в нашей терминологии «мозговая игра»).
Мозговая игра" непрерывна и вездесуща, проницает каждую «клетку», каждую «пору» романа, она непрерывно реализует свои возможности во внутренних пространствах, этих извилистых и запутанных лабиринтах текста-мифа: и двояко прочитывающиеся метафоры, включаясь в игру «кажется — оказывается», «остраняясь», только подтверждают всеобщий закон «Петербурга».
Итак, «мозговая игра», являясь транспонированной в систему поэтики символизацией и действуя на всех уровнях романа, создаёт совершенно исключительную по своим художественным качествам форму, которая служит главной своей цели — вовлечению, втягиванию сознания читателя в творческий процесс пересоздания художественной реальности, чему прежде всего способствует специфика символа как гносеологической и эстетической категории.
Одним из гениальных открытий Андрея Белого, бесспорно, стало обоснование символа не только как гносеологической проблемы, но и как универсального приёма, конституирующего любой возможный эстетический объект, а значит и конституирующего те литературные произведения, которые создал сам Белый как художник-символист. Иначе говоря, реконструкция символической теории Белого и, соответственно, имагинация символа как конструктивного механизма смыслопорождения и формообразования дают «ключи» к загадкам поэтики, к тем литературным текстам, которые навеки вписали имя Андрея Белого в сокровищницу мировой литературы.
Список литературы
- Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977.
- Антокольский П. «Петербург» Андрея Белого // Белый А. Петербург. М., 1978.
- Бабич В. В. К истории символистского движения: Андрей Белый и М. Бахтин //Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий, 1995, № 2.
- Барт Ролан. Избранные труды: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Ю.Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
- П.Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Белый Андрей. Арабески. Книга статей. М., 1911.
- Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Исследования. М.-Л., 1934.
- Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., 1989.
- Белый Андрей. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. Л., 1981.
- Белый Андрей. Ритм как диалектика и «Медный всадник». Исследование. М., 1929.
- Белый Андрей. Символизм: Книга статей. М., 1910.
- Белый Андрей. Симфонии. Л., 1991.
- Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1910.
- Бибихин В. В. Орфей безумного века. Андрей Белый на Западе // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988.
- Блюмбаум А. Андрей Белый и Владимир Соловьёв: (Об одном интертексте) //Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1993.
- Брюсов В. Среди стихов: 1884−1924. Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990.
- Ведмецкая Н. Концепция художественного творчества русского символизма. Философский анализ (А. Белый, В. Брюсов, Вяч. Иванов). Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук. М., 1987.
- Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. В 3-х томах. СПб., 1994.
- Гинзбург Лидия. О старом и новом. Статьи и очерки. Л., 1982.
- Гусев Вл. Дух или Техника? Снова об А. Белом как теоретике художественной формы // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988.
- Донецкий А. К вопросу о «мозговой игре» в «Симфонии (2-ой, драматической)» А. Белого //Молодёжь науке. Псков, 1996.
- Донецкий А. «Мозговая игра» как интерпретационный феномен // Молодёжь науке. Псков, 1998.31 .Донецкий А. «Мозговая игра» как принцип поэтики романа Андрея Белого «Петербург» //Русская филология. Тарту, 1995.
- Донецкий А. Пушкинские реминисценции в романе «Петербург» Андрея Белого: их функции и значения в системе приёмов «мозговой игры» // Пушкин и русская культура. М., 1998.
- Ерофеев Вик. Споры об Андрее Белом. Обзор зорабежных исследований // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988.
- Зелинский К. Поэма страха //В изменяющемся мире. М., 1969.
- Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1917.
- Ильёв С. П. Русский символистский роман. Аспекты поэтики. Киев, 1991.
- Ильин Илья. Поструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
- Казин А. Л. Андрей Белый: начало русского модернизма // Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма. В двух томах. Том 1. М., 1994.
- Кожевникова Н. А. Заметки о собственных именах в прозе Андрея Белого //Ономастика и грамматика. М., 1981.
- Кожевникова Н. А. О звуковой организации прозы А. Белого // Проблемы структурной лингвистики. М., 1981.
- Кожевникова Н. А. Язык Андрея Белого. М., 1992.
- Колобаева Л. Человек и его мир в хкдожественной системе Андрея Белого // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1980. № 5.
- Лавров А. В. Юношеская художественная проза Андрея Белого // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1980. Л., 1981.
- Лало А. Е. Поэтика главных романов Дж. Джойса и А. Белого: попытка сравнительного анализа // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий, 1995, № 2.
- Лихачев Д. Предисловие к роману А. Белого «Петербург» // Лихачев Д. Прошлое будущему. Л., 1985.
- Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
- Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994.
- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995.
- Лосев А. Ф. Форма Стиль. Выражение. М., 1995.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф имя — культура // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Максимов Д. О романе-поэме Андрея Белого «Петербург»: к вопросу о катарсисе // Максимов Д. Русские поэты начала века. Л., 1986.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
- Мельникова Е., Безродный М., Паперный В. Медный всадник в контексте скульптурной символики романа Андрея Белого «Петербург» //Блоковский сборник. Тарту, 1985.
- Мельникова Григорьева Е. Принцип «пограничности» в «симфониях» Андрея Белого // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1985.
- Минц 3. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов //Блоковский сборник. Тарту, 1979.
- Минц 3., Мельникова Е. Симметрия асимметрия в композиции «Третьей Симфонии» Андрея Белого //Труды по знаковым системам. Т. П. Тарту, 1984.
- Мочульский К. В. Андрей Белый. Томск, 1997.
- Мукаржовский Ян. Структуральная поэтика. М., 1996.
- Мунгалов Д. Символика города-призрака// Спасение, 1993, № 30−31.
- Мясников А. Андрей Белый и его роман «Петербург» // Белый А. Петербург. М., 1978.
- Нижеборский А. Гносеологическое обоснование А. Белым символа //Философские проблемы познания. Челябинск, 1978.
- Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М., 1990.
- Паперный В. Андрей Белый и Гоголь. Ст. 1 // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1982.
- Паперный В. Андрей Белый и Гоголь. Ст. 2 // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1983.
- Паперный В. Андрей Белый и Гоголь. Ст. З // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1986.
- Паперный В. Из наблюдений над поэтикой Андрея Белого: лицемерие как текстопорождающий механизм // Славяноведение, 1992, № 6.
- Песонен П. Пародия в «Петербурге» Андрея Белого // Соло, 1993, № 10.
- Пискунов В. «Второе пространство» романа А. Белого «Петербург» // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1998.
- Пискунов В. Громы упадающей эпохи // Белый Андрей. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. М., 1994.
- Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
- Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1926.
- Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969.
- Пустыгина Н. Об одной символической реализации идеи «синтеза» в творчестве Андрея Белого // Блоковский сборник. Тарту, 1986.
- Пустыгина Н. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург». Ст. 1 // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1977.
- Пустыгина Н. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург». Ст. 2 // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1981.87. Семиотика. М., 1983.
- Сиклари Дж. У истоков русского символизма // Из истории русской эстетической мысли. СПб, 1993.
- Силард Лена. К вопросу об иерархии семантических структур в романе 20 века. «Петербург» Андрея Белого и «Улисс» Джеймса Джойса //Hungaro-Slavica. Budapest, 1983.
- Силард Лена. Поэтика символистского романа конца 19 начала 20 вв. (В.Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) // Проблемы поэтики русского реализма 19 века. Сборник статей. Л., 1984.
- Симачева И. Гоголь и Андрей Белый // Русская речь М., 1989, № 2.
- Смирнова Н. «Рассказ неизвестного человека» А. П. Чехова и «Петербург» А. Белого // Идейно-художественные искания русских писателей 19 века. Л., 1979.
- Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
- Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление // Вопросы языкознания, 1995, № 6.
- Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: (Исследования в области мифопоэтического). М., 1995.
- Успенский Б. Н. Поэтика композиции. М., 1970.
- Фатеева Н. А. «Петербург»: кто автор плана? // Русская речь, 1995, № 6.
- Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Джеймс. Собрание Сочинений в 3-х тт. Т. 3. М., 1994.
- Цветаева М. Пленный дух // Цветаева М. Сочинения. Т. 2. М., 1980.
- Целкова Л. Н. Поэтика сюжета в романе Андрея Белого «Петербург» // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1991, № 2.
- Цивьян Ю. К происхождению некоторых мотивов «Петербурга» Андрея Белого // Труды по знаковым системам. Тарту, 1984.
- Черников И. В. Я. Брюсов и творческая история романа А. Белого «Петербург» // Брюсовские чтения. Ереван, 1985.
- Чистякова Э. К вопросу об эстетико-философских взглядах А. Белого // Вопросы истории и теории эстетики. М., 1977.
- Шкловский В. Б. О теории прозы. М.-Л., 1925.
- Шулова Я. «Петербург» Андрея Белого. Некоторые вопросы поэтики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Горький, 1987.
- Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л, 1969.
- Эллис. Русские символисты. М., 1910.
- Юркина Л. Проблематика романа А. Белого «Петербург» // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1988, № 4.
- Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
- Яковлев С. Элементы метатекста в прозаическом тексте. На материале русской прозы второй половины 19 и начала 20 веков. Авторефе-рет диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1993.
- Ямпольский И. Валерий Брюсов О «Петербурге» А. Белого // Ям-польский И. Поэты и прозаики. Л., 1986.
- Яранцев В. Н. «Эмблематика смысла» романа Андрея Белого «Петербург». Автореферат диссетации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Новосибирск, 1997.
- Alexandrov VI. Andrey Bely. The Major Simbolist. Harvard univ., 1985
- Andrey Beley: Pro et Contra. Milano, 1987.
- Ljunggren Magnus. The dream of rebirth. Stockholm, 1982.
- Nivat Georges. Vers la fin du mythe russe. Lausanne, 1982.
- Steinberg Ada. Word and musik in the novels of Andrey Bely. Cambridge, 1982.
- Todorov Tz. Poetique de la prose. P., 1971.
- Todorov Tz. Theorie du symbole. P., 1977.
- Weber R. Der moderne Roman: Proust, Joyce, Belyj, Woolf und Faulkner. Bonn, 1981.
- Woronzoff Al. Andrey Belyj’s «Peterburg», James Joyce’s «Ulysses» and the Symbolist movement. Born, 1982.