Значение невербальных когнитивных актов для формирования знания
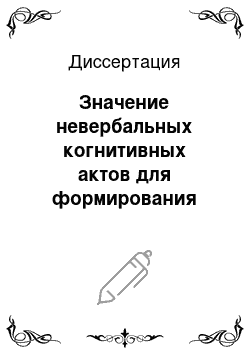
Там же. С 32−33. бой в чем-то существенном и в той или иной мере могут быть применимы ко многим подобным релятивистским антименталистским концепциям, принижающим значимость знакомства с реальностью для формирования знания и преувеличивающим значение лингвистической составляющей. Спектр таких релятивистских ангименталистских эпистемологических концепций колеблется от достаточно умеренных… Читать ещё >
Значение невербальных когнитивных актов для формирования знания (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Глава 1. Язык и нелингвистические когнитивные способности
- 1. 1. Характеристика гносеологических установок присущих бихевиористским концепциям
- 1. 2. Нелингвистические когнитивные способности
- 1. 3. Влияние нелингвистических когнитивных способностей на язык
- Глава 2. Индивидуальный язык как эпистемологическая проблема
- 2. 1. Тезис о невозможности языка индивидуальных ощущений
- 2. 2. Анализ антименталистских аргументов против возможности индивидуального языка
- 2. 3. Аргументы в пользу возможности индивидуального языка
- Глава 3. Роль ментальных репрезентаций в процессе познания
- 3. 1. Анализ антименталистских представлений о референции слов
- 3. 2. Референция невербальных ментальных репрезентаций
Актуальность темы
исследования.
Актуальность темы
исследования обусловлена тем, что в результате произошедшего в аналитической философии «лингвистического поворота», суть которого состоит в переходе от разговора о предметах к разговору о словах, с помощью которых мы говорим об этих предметах, перед философией вновь были поставлены извечные вопросы о сущности мышления и познания. Взгляд на познание действительности, который можно обнаружить в концепциях, относящихся к указанному крылу философии, выражает недоверие к показаниям наших органов чувств, отрицает связь сознания с бытием, утверждает непознаваемость внешнего мира. Следствием этого является крайний релятивизм и антиреализм данных концепций. Исследование подобных взглядов приобретает тем большую актуальность, что они претендуют на лидирующее положение в современной философии, в связи с чем и возникает необходимость выяснить, насколько оправдан такой подход к решению основных философских проблем.
Одно из наиболее законченных выражений подобная тенденция нашла в работах Р. Рорги, который творчески переосмысливает и развивает концепции ряда аналитических философов, таких как JL Витгенштейн, Г. Райл, У. Куайн, У. Селларс, Д. Дэвидсон, Т. Кун, X. Патнем, Д. Деннет. Обобщая концепции названных авторов, Рорги приходит к выводу, что, хотя невербальные ментальные репрезентации и другие ментальные явления и можно назвать «причинными условиями» познания, они все же не имеют значения для эпистемологии в качестве рациональных оснований («резонов») познания1. Как утверждает Рорги, вербальная компонента языка получает имманентное обоснование в пределах самой вербальной системы. Слова имеют значения сами по себе, вне связи с невербальной составляющей мышления, которая является лишь «носителем» языковой программы. Свое обоснование вербальная конструкция, оформленная в виде последовательности суждений, получает не из невербальной подосновы языкового мышления. Суждения соединяются между собой по каким-то своим, социально установленным принципам. Язык, по сути, обосновывает сам себя. Согласно Рорги, признав всеохватный характер языка, мы признаем, что такого феномена, как сравнение лингвистической формулировки с фрагментом нелингвистического знания, не существует. Имеет место только усмотрение сцепления одних лингвистических единиц с другими, а также с целями, для достижения которых язык вообще предназначен2. Мышлению и познанию при таком подходе приписывается исключительно лингвистическая природа. Сознание подменяется знаковой лингвистической практикой. Как говорит Рорти, «у нас нет никакого Л долингвисгического сознания, к которому должен приспосабливаться язык» .
Никакие внешние по отношению к языку факторы не могут определять то, что говорится в языке. Язык определяет себя сам, независимо от того, что мы воспринимаем вовне. Притом именно язык формирует то, что называется знанием. Как утверждает Рорти, мир может, поскольку мы уже запрограммировали себя языком, стать причиной наших верований, но он не может предложить нам язык разговора о себе4. Восприятие мира, согласно таким взглядам, не входит в понятие знания. Восприятие реальности является «причинным условием» познания, но не его эпистемологическим «основанием».
Вот, например, как Рорти понимает, что такое верования, которые, в свою очередь, имеют непосредственное отношение к знанию. Поведение человека столь сложно, что его можно предсказать, лишь приписав ему некие интенциональные состояния — верования. Но верования — это не какие-то доязыковые модусы сознания и не какие-то нематериальные события. Их следует считать тем, что на философском языке называется «фразовыми установками», т. е. склонностями организма (или компьютера) утверждать или отрицать определенные фразы. Кроме того, верование — это привычка действовать определенным образом. Иными словами, приписывать кому-то какое-либо верование — это значит всего лишь утверждать, что данный человек будет склонен вести себя определенным образом, если он принимает истинность соответствующего утверждения. Мы приписываем верования только таким объектам, которые высказывают утверждения5. Следует относиться к верованиям не как к отражениям (репрезентациям), но как к привычкам поведения, а к словам как к инструментам1. Как говорит Рорти, познавательные усилия имеют целью нашу пользу, а не точное описание вещей как они есть сами по себе.
1 См. напр.: Рорти Р. Философия и зеркало природы.-Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997.-С. 135.
2 Циг. по: Юли и Н. С. Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти. — Долгопруд! ый: «Вестком», 1998.-С. 34−35.
3 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. — М.: Русское феноменологическое общество, 1996. — С. 45.
4 Там же. С. 25.
3 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. — М.: «Традиция», 1997.-С. 26−27.
Поскольку любое верование должно быть сформулировано на каком-то языке и поскольку любой язык — это не попытка скопировать внешний мир, а инструмент для взаимодействия с внешним миром, нет никакой возможности отделить вклад в наше знание со стороны самого объекта от вклада в наше знание со стороны нашей субъективности. Нет никакой возможности проникнуть в «зазор» между языком и его объектом2.
Формулируя проблему в несколько ином, семантическом, ключе, можно сказать, что суть ее состоит в том, что, согласно Рорти, слова не осуществляют референции к объектам реальности. Интенционалисгское задание референции невозможно. Говорить о референции вообще не имеет смысла.
Утверждения об исключительно языковом характере мышления и сознания, якобы не содержащих в себе никаких нелингвистических компонентов, и, отсюда, об исключительно языковом характере знания сводят всякое знание лишь к «разговору о.», не имеющему никакой иной связи с реальностью, кроме прагматистского оправдания1. Получается, что знание носит полностью относительный, конвенционалистский, прагма-тистский характер. Признание исключительной социальной детерминированности языкового мышления привносит в теорию познания привкус социального субъективизма и релятивизма, лишает познание объективности. Онтологические проблемы начинают истолковываться как проблемы употребления языка. Отсюда возникает представление о том, что факты реальности не идентифицируются без использования языка. Онтологическое исследование, вместо поиска ответа на вопрос «Что существует на самом деле?», сводится к выявлению правил категоризации реальности, посредством которых носитель языка соотносит себя с миром. Подобная «лингвистическая» стратегия перерастает в перевод философского разговора об объектах в разговор о словах.
Подобный подход сам Рорти называет «эпистемологическим бихевиоризмом». Еще ранее Селларс называл свою концепцию, на которой во многом и основана концепция Рорти, «лингвистическим бихевиоризмом" — Райл говорил о «логическом бихевиоризме" — Дэвидсон употребляет выражение «лингвистический номинализм" — в отношении концепции Деннета используется выражение «семиотический материализм». Все эти понятия, хотя и характеризуясь определенными отличиями, все же близки между со.
1 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное. — С. 30.
2 Там же. С 32−33. бой в чем-то существенном и в той или иной мере могут быть применимы ко многим подобным релятивистским антименталистским концепциям, принижающим значимость знакомства с реальностью для формирования знания и преувеличивающим значение лингвистической составляющей. Спектр таких релятивистских ангименталистских эпистемологических концепций колеблется от достаточно умеренных, утверждающих, что, хотя мы и обладаем сознанием, все наше восприятие мира настолько концептуально нагружено, что нет и смысла говорить об его отражении в сознании и о том, что наши слова и ментальные образы в целом указывают на него (X. Патнемк этому же полюсу тяготеет, видимо, и Р. Рорга), до концепций намного более радикальных, утверждающих нечто вроде того, что человек—это выдрессированное животное, не обладающее человеческим осознаванием, а его словесное мышление — всего лишь условные рефлексы на привычные стимулы (JI. Витгенштейн), и вплоть до концепций, в которых утверждается, что человек — это компьютер, что его сознание — это всего лишь «нарратив» (Д. Деннет). В последнем случае человек оказывается просто «синтаксической машиной» или, по выраI жению некоторых критиков, «зомби, произносящим слова». Во всех этих концепциях общим является одно: наши слова, ментальные образы и сознание в целом не указывают на объекты реальности, не осуществляют к ним референции, не «зацепляют» мир. Знание при этом понимается как «познавательные высказывания», из чего следует, что как бы ни был устроен наш познавательный аппарат, значение имеет только то, как мы формируем такие высказывания, как они обосновывают друг друга и насколько они прагма-тистски оправданы, а швее не то, в какой степени они являются отражением реальности.
Следует также заметить, что, в отличие от Рорти, большинство философов «лингвистического поворота» в той или иной степени все же признает связь языка с нелин-гвисгической реальностью и хоть какую-то референциальность слов. Лингвистическое знание все же как-то связано с нелингвистическим опытом, пусть и «только по краям"3.
С названной выше проблемой тесно переплетается и, по сути, является ее развитием и квинтэссенцией так называемый тезис о невозможности индивидуального языка. В соответствии с этим тезисом, ошибочно полагать, будто термины ощущений и психоло.
1 Рорти Р. Философия и зеркало природы. — С. 214.
2 Ср.: Серп Дж. Открывая сознание заново. — М.: Идея-Пресс, 2002. — С. 157- Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тепа//Вопросы философии, 2001, № 8.-С. 107.
3 Куайн У. Две догмы эмпиризма // Куайн У. Слою и объект. -М.: Логос, Праксис, 2000. — С. 363. гические понятия в целом описывают некий личный опыт человека, известный только ему одному, например восприятие боли. Ментальные термины — это всего лишь отражение понятий, возникающих в социально детерминированном языке. Знание об ощущении может быть только пропозициональным, языковым. В ощущениях мы усваиваем эпистемические правила языковой игры сообщества, к которому принадлежим. Именно сообщество является источником эпистемического авторитета.
Каковы последствия для теории познания тезиса о невозможности индивидуального языка? Согласно традиционной точке зрения, отражение реальности, хотя и являясь деятельностью социально-опосредованной, представляет собой индивидуальный процесс — индивидуальный в том смысле, что он не существует вне познавательной деятельности отдельных людей, совершается инд ивидом, а не обществом в целом. Это связано с тем, что познание зависит от индивидуальных механизмов чувственного восприятия. Соответственно, постулированием тезиса о невозможности индивидуального языка ощущений поддерживаются, по суш, все те же, названные выше, представления, заключающиеся в том, что все наше знание есть не отражение реальности, пусть и теоретически нагруженное и искаженное, а лишь некая социально обусловленная языковая конструкция, связанная с реальностью посредством прагматистской оправдываемости. Это вновь все та же проблема возможности референции, проблема того, совершают ли наши слова указание на что-либо реально существующее. За языком признаются только сигнальные, коммуникативные и отвергаются какие-либо дескриптивные функции. Отрицается, что язык способен описывать, репрезентировать реальность. Тем самым принижается, релятивизируется и даже вовсе отрицается роль восприятия реальности д ля формирования знания. Тезис о невозможности индивидуального языка означает признание недоступности реальности для человеческого познания, что и нашло свое законченное выражение в упомянутой выше концепции эпистемологического бихевиоризма Р. Рорти и концепциях некоторых других представителей аналитической философии.
Можно отметить также, что от решения вопроса о возможности персонального языка зависит и судьба всей философии. Если персональный язык невозможен, то невозможна и философия в традиционном ее понимании, поскольку вся прежняя философия понимается как осмысление результатов познавательной деятельности воспринимающего мир сознания, а согласно вышеизложенному взгляду, ни сознания, ни возникающих в нем при восприятии ментальных феноменов как таковых вообще не существует или, во всяком случае, они не могут приниматься во внимание при анализе познавательной деятельности человека. Своим тезисом Витгенштейн утверждает, что в прежней философии неверны не просто осмысление и понятийное представление данных, полученных в результате традиционных эпистемологических изысканий, неверны сами интуиции, направлявшие такие изыскания и лежащие в основе всех концептуальных построений этой философии. Он стремится показать, что подобные ложные интуиции являются следствием языковых ошибок1.
Таким образом, постановка вопроса, характерная для релятивистских антименталистских концепций, затрагивает ряд значимых философских проблем. Речь идет о том, насколько мы способны описывать как свой внутренний мир, так и мир внешний — мир, который вроде бы должен быть дан нам посредством наших индивидуальных чувственных данных. Речь идет о том, насколько наши знания, выраженные в языке, вообще отражают реальность, на самом ли деле мы находимся в «языковой тюрьме» и не способны из нее вырваться? Описанные выше представления, по сути, отрицают все основные положения прежней теории познания. Именно поэтому их рассмотрение и приобретает большую важность.
Степень разработанности проблемы.
Названные проблемы являются, во многом, ключевыми проблемами аналитической философии. Формулировка их связана с именами таких выдающихся представителей этого крыла философии, как Л. Витгенштейн, У. Куайн, У. Селларс.
Так, одним из первых и в одной из наиболее острых форм эти проблемы были поставлены Л. Витгенштейном. Пожалуй, именно он впервые делает антименталистские заявления о том, что слова не имеют ментальных значений и что значения слов определяются операционально, так что слова не указывают (в интенционалистском смысле слова) на объекты реальности. Уже у Витгенштейна можно отметить сильную тенденцию к прагматистскому понимаю того, как получает свое оправдание употребление языковых.
1 О том, что данное утверждение Витгенштейна подрывает, по существу, всю философию, говорит, например, Приет. См.: Прист С. Теории сознания. — М: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. — С. 85−87. выражений. Им же впервые формулируется и тезис о невозможности языка индивидуальных ощущений и приватного опыта в целом. В русле мысли Витгенштейна развивал свой логический бихевиоризм Г. Райл.
Подобные же идеи, в том числе и под сильнейшим влиянием Витгенштейна, развиваются и другими авторами. Так, Куайн подверг критике две центральные догмы эмпиризма — дихотомию синтетических и аналитических компонентов теории и представление о независимом языке наблюдения. Он формулирует свои постулаты о неопределенности референции и невозможности радикального перевода, приходя к выводу о том, что язык — это своего рода «ткань», связанная с опытом лишь по краям. Прагматист-ские мотивы звучат в его рассуждениях уже вполне отчетливоярко также выражен ан-тиментализм, проявляющийся в отрицании этим автором интенций, ментальных значений у слов и других подобных ментальных феноменов.
Селларс, развивая витгенштейновский тезис о невозможности персонального языка, подвергает резкой критике так называемый «миф данного». Он заявляет, что любое осознавание есть дело социальной практики и любое знание о предмете есть проблема социально обусловленного языка. Ощущения и восприятия становятся «данными», только будучи интерпретированными в некоторой языковой системе. Всё, что человек ощущает или воспринимает, определено языковым «каркасом», которым он пользуется.
Наконец, Д. Дэвидсон, продолжив линию критических рассуждений Куайна и Селларса, выявляет и опровергает «третью догму» позитивизма — догму противопоставления схемы и содержания. Критикуя различение формы и содержания, Дэвидсон стремится доказать, что-то, что не может быть сказано, не может быть мыслью, и все сознание является лингвистическим.
Названные концепции направлены на опровержение фундаментализма, поддержку антиментализма и релятивизма и стремятся разрушить представление о том, что знание можно обосновать путем обращения к каким-либо основаниям вне лингвистического каркаса, в котором оно выражено.
В сходном ключе развивали свои взгляды и другие авторы. Прагматизация опыта Н. Гудменом, теория Т. Куна о несоизмеримости парадигм, «анархическая методология» П. Фейерабенда и ряд других концепций — все это еще больше способствовало укреплению позиций релятивизма и опровержению фундаменталистских взглядов на природу знания. Деннет, утверждая, что сознание — это всего лишь интериоризированный язык, и обращаясь к компьютерным аналогиям, продолжил антименталистскую линию вышеназванных авторов. По его мнению, то, что мы считаем, например, чувством боли (или «Я», или восприятием красной розы), получает смысл только при оформлении в языковые выражения.
Обобщение перечисленных выше концепций и позволило Р. Рорти сформулировать свой «эпистемологический бихевиоризм». Рорти настаивает на непроницаемости стен «языковой тюрьмы». Никакая теория не имеет «привилегированного доступа к реальности», а сознание не является «зеркалом природы». О референции не стоит говорить вовсе, даже и в операционалистском смысле. Поскольку освободиться от влияния языка невозможно, следует отказаться от эссенциалистских претензий. Философам следует относиться к своей деятельности как к метафорической и поэтической.
В чем-то сходной с концепцией Рорти, представляется концепция X. Патнема, в своих рассуждениях также опирающегося на Витгенштейна и Куайна. Хотя формально Патнем осуждает релятивизм, противопоставляет себя Рорти и стремится сам быть критиком релятивизма, в его концепции налицо все основные элементы релятивизма. В отличие от Рорти, Патнем не заявляет о бессмысленности разговоров о референции, од нако референция, по его мнению, возможна лишь в пределах концептуального мира говорящего и невозможна по отношению к объектам реального мира. Подобная концептуальная система, согласно Патнему, также оправдывается прагматистски.
Данные антименталистские релятивистские концепции не могли не вызвать возражений со стороны целого ряда авторов. Критика ведется как с позиций полного неприятия подобных концепций, так и с позиций сходных с установками самих этих концепций, но характеризующихся более умеренными взглядами. Причем сами же создатели теорий такого рода нередко выдвигают критические замечания в адрес друг друга.
Так, ряд авторов выступает против точки зрения Рорти, делая это как с умеренно релятивистских, так и с нерелятивистских позиций. Это такие авторы, как Ж.-К. Вольф, Дж. Серл, С. Хаак, Ф. Фаррелл, Т. Левин, С. Хук, Ч. Хартшорн, Дж. Гуинлок, Р. Берн-штейн. К критикам Рорти можно отнести и некоторых из тех авторов, на которых при построении своей концепции опирается сам Рорти. Среди них прежде всего следует упомянуть X. Патнема и Д. Деннета. Подробный критический анализ концепции Патне-ма и релятивизма в целом можно найти у И. Хакинга. Среди других авторов, критикующих Патнема, можно упомянуть М. Вильсона, Дж. МакИнтайра, Д. Льюиса, Дж. Лакоф-фа, А. Брукнера. Многочисленны работы, посвященные анализу и критике релятивистских тезисов У. Куайна.
Большой интерес вызывает тезис Витгенштейна о невозможности индивидуального языка: он встречает как поддержку, так и неприятие. В том или ином виде он присутствует в концепциях почти всех перечисленных выше авторов. Анализу и критике этого тезиса и близких к нему проблем посвящены работы таких авторов, как С. Крипке, X. Патнем, Н. Малкольм, П. Стросон, А. Айер, М. Макгинн, К. Райт, Э. Энском, У. Голд-фарб, Д. Пэре, С. Шенкер, К. Макгинн, Г. Бейкер, П. Хакер. Развитием этого тезиса является концепция У. Селларса. Да и теория парадигм Т. Куна представляет собой не что иное, как развитие заключенного в тезисе о невозможности персонального языка представления о том, что следование правилу — это не ментальное понимание, а воспроизведение образцов поведения, бихевиористски определяемая практика.
Аргументы против антиментализма, которые прямо или косвенно поддерживают доказываемые нами положения, можно обнаружить в работах такого автора, как М. По-лани. Менталистские тенденции проявляются и у некоторых современных исследователей, в целом работающих в русле аналитической философии (Дж Фодор, Дж. Серл, Т. Нагель, Дж. Марголис и др.). Они не согласны с центральным пунктом этой традиции, с утверждением о том, что мы не имеем интуиции о сознании. Всем трем главным стратегиям философии сознания — бихевиоризму, материализму, функционализму, считают эти авторы, присущ грубый верификационизм, социальный редукционизм и вульгарный материализм. Ряд других представителей философской мысли, такие как К. Поппер, Дж. Экклз, Н. Хомский, М. Грин, также продолжают настаивать на неустранимости категории «сознание» и естественности ментального языка. Так, Поппер указывал на внутреннюю противоречивость радикального бихевиоризма и его несогласие со здравым смыслом. Хомский, критикуя такого автора, как Деннет, за его натурализм и селекционизм и выступая против экстерналистских подходов к языку и познанию, говорит, что ментальные аспекты мира следует исследовать так же, как мы исследуем любые другие его аспекты, стремясь построить доступные для понимания объяснительные теории и храня надежду со временем объединиться с науками, образующими ядро естествознания.
Не лишним будет заметить и то, что нежелание полностью отречься от ментального было присуще и некоторым из тех философов, которых Рорти причисляет к пионерам борьбы против идеи сознания (Дж. Райл, У. Селларс). Кроме того, почти все авторы, на которых ссылается Рорти, в той или иной степени признают существование у знания «эмпирических подпорок», т. е. знание все же связано с опытом, хоть и «по краям».
Среди отечественных исследователей изучением и критическим анализом данных проблем занимались такие философы, как А. Ф. Грязнов, И. Джохадзе, Д. И. Дубровский, М. С. Козлова, МБ. Лебедев, ЛБ. Макеева, А. Л Никифоров, В. Н. Порус, В. Руднев, З. А. Сокулер, В. А. Суровцев, В. В. Целшцев, А. Цидин, А. З. Черняк, Н. С. Юлина.
Проблема исследования.
Проблема исследования обусловлена неудовлетворительностью тех новых, релятивистских и антименталистских, подходов к решению проблем философии сознания и философской семантики, которые выдвигаются некоторыми представителями аналитической философии в опровержение традиционных взглядов. Она может быть сформулирована в виде вопросов о том, что представляет собой человеческое мышление и сознаниеотражается ли в человеческом сознании объективная реальностькак осуществляется познаниекакова природа языка.
Цель исследования.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить различные способы решения вопроса о значении невербальных когнитивных актов для формирования знания, показать неоправданность подходов, отрицающих необходимость учитывания нелингвистических ментальных факторов при анализе познания, неоправданность релятивистских антименталистских эпистемологических концепций.
Задачи исследования.
1. Показать существование и активную роль в человеческом познании менталистски понимаемого сознания или, по крайней мере, показать, что человек обладает способностью к познавательной активности бихевиористского типа, которая направляет и контролирует его рациональную деятельность.
2. Показать, что нелингвистическая подоснова мышления имеет эпистемические следствия и оказывает влияние на языковое мышление, в том числе на значения слов и предложений языка.
3. Рассмотреть функции интерсубъективно не фиксируемых ментальных состояний.
4. Проанализировать тезис о неопределенности референции и показать, что предлагаемые представления позволяют снять концепцию неопределенности.
Методологическая основа диссертационного исследования.
Методология исследования в значительной степени опирается на методологию, f выработанную в рамках самой аналитической философии, а также на диалектический метод, в аналитической философии полностью отсутствующий. Производится диалектическое обобщение данных, полученных в результате использования методов аналитической философии. Большое внимание при этом уделяется тому, чтобы указать на данные таких психологических экспериментов (также заимствованных преимущественно из работ самих аналитических философов), которые могли бы наглядно продемонстрировать неоправданность некоторых выводов критикуемых авторов относительно природы мышления и языка.
Теоретическая основа диссертации.
Теоретическую основу диссертации составили, во-первых, работы ряда авторов, концепциям которых присущи выраженные релятивистские, антименталистские, бихевиористские и тому подобные представления, в соответствии с которыми принижается значимость знакомства с реальностью для формирования знания и преувеличивается значение лингвистических элементов. Подобные концепции рассматриваются сквозь призму «эпистемологического бихевиоризма» Рорти, поскольку именно в нем можно увидеть законченное и доведенное до крайности выражение подобных взглядов. Соответственно, и анализируются концепции, главным образом, тех авторов, на которых при построении своей теории опирается сам Рорти. Во-вторых, теоретической основой исследования послужили работы ряда авторов, относящихся преимущественно к аналитической философии, которые являются убежденными критиками названных концепций.
Научная новизна исследования.
Научная новизна исследования состоит в том, что антименталистские теории рассматриваются не на уровне ставших привычными общих утверждений о «пленении опыта языком», утверждений, которые из-за своей неконкретности и декларативности порой с трудом поддаются критике, а на уровне тех простейших психологических наблюдений, из которых все подобные теории изначально и были выведены. При этом большое внимание уделяется тому, чтобы опровержение указанных концепций, значительную роль в которых играют аргументы, основывающиеся на внешних, поведенческих критериях, осуществлялось с помощью аналогичных аргументов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Нелингвистическая подоснова языкового мышления представляет собой не просто «причинное условие познания» или «различающее поведение», как об этом говорят Рорти и другие авторы, но является одним из оснований познания. Она есть не просто нейтральный носитель языковой программы, но на самом деле влияет на язык, на значения его слов и предложений. Необоснованно говорить о полной независимости вербальных элементов языка от его нелингвистической подосновы и от нелингвистического восприятия. Соответственно, знание, которым обладает индивид, это не просто «сцепление одних лингвистических единиц с другими». Помимо лингвистической составляющей, в индивидуальном знании наличествует и нелингвистический компонент. Неверно утверждать, что знание невозможно обосновать, апеллируя к каким-то основаниям вне лингвистического каркаса, в котором оно выражено.
2. Язык индивидуальных ощущений возможен. Несмотря на социальную определенность языка, его употребление носит все же индивидуальный характер. С диалектческой точки зрения, социальный язык при употреблении индивидом приобретает индивидуальное значение, становится индивидуальным языком данного человека, и посредством такого языка могут быть описаны его личные, известные только самому человеку ощущения, его приватный опыт в целом. Это возможно вследствие того, что, благодаря нелингвистической составляющей мышления, происходит непосредственное индивидуальное восприятие и осознавание реальности, отражающееся в языке и имеющее принципиальное значение для формирования знания. Индивидуальная активность мышления, в каком бы смысле ее ни понимать — в менталистском или даже бихевиористском, наполняет социально обусловленные языковые формы индивидуальным содержанием.
3. Следует признать оправданным традиционный, менталистский, способ объяснения того, как функционирует мышление. Неприемлемыми следует признать бихевиористские и функционалистские подходы к его объяснению. Понимание не является всего лишь нементальной способностью к совершению определенных действий, «натасканно-стью» на образец поведения, умением обращаться с тем или иным объектом.
4. Референция слов к объектам реальности возможна Нет оснований ставить под сомнение интенционалистские представления о механизмах референции.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она позволяет выработать критическое отношение к релятивистским, ангименталистским, прашатистским концепциям в философии. Одно из практических значений исследования можно увидеть в том, что благодаря полученным в ходе него результатам реабилитируются основные принципы традиционной философии.
Апробация работы.
Основные положения диссертации апробировались в научных статьях и в выступлениях на семинаре по философии науки при кафедре философии НГУ. Результаты исследования излагались автором на XLI и XLII Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» (НГУ, Новосибирск, 2003, 2004). Диссертация обсуждалась на заседании кафедры философии НГПУ.
1. ЯЗЫК И НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ.
Для того чтобы дать адекватную оценку релятивистским антименталистским взглядам удобно рассмотреть один из источников представлений подобного рода — концепцию онтологической относительности У. Куайна. Следует заметить, что куайновский бихевиоризм, в целом, давно опровергнут. Однако Рорти находит в этой концепции новые интересные аспекты, утверждая, что хотя нелингвистические ментальные феномены и допустимо признавать для целей эмпирической психологии, они по-прежнему не имеют значения для эпистемологии. Основываясь на бихевиористских концепциях Куайна и Селларса, Рорти утверждает, что, хотя ментальные репрезентации и можно назвать «причинными условиями познания», они все же не имеют значения для эпистемологии в качестве оснований познания1. В данной главе нам хотелось бы, еще раз обратившись к философии Куайна, проанализировать, насколько оправдан антиинтенционализм этого автора. Мы постараемся показать неприемлемость бихевиористского подхода, отрицающего необходимость учитывания нелингвистических факторов при анализе познания, постараемся показать, что нелингвистическая составляющая мышления влечет за собой эпистемические следствия и оказывает влияние на языковое мышление. Мы затронем также и еще один источник философии Рорти — концепцию У. Селларса, атакующую «миф данного» и провозглашающую невозможность «привилегированного доступа» к своим ментальным репрезентациям.
Выводы Патнема вызывают возражения. Если под установлением референции Патнем имеет в виду, что у инопланетянина не возникнет об изображенном предмете, а именно о дереве, тех представлений, тех знаний, которые возникнут у нас, взгляни на эту картинку мыесли он имеет в виду именно это, когда говорит, что чувственный образ инопланетянина не будет «сопровождаться никаким понятием дерева», то в этом случае Патнем, конечно же, прав. Только почему мы должны отождествлять референцию со всеми теми знаниями, которые могут прийти на ум кому-то при взгляде на какой-либо объект. У инопланетянина не возникнем нашего понятия о дереве, но все равно возникнет какое-то понятие.
По-видимому, и в данном вопросе Патнем поступает так же, как он поступал в вопросе о референции слова: в понятие референции он включает знание об объекте референции. Референция ментальных образов, согласно этому автору, не осуществляется именно потому, что носитель этих образов не обладает определенными знаниями об объекте. В данном случае в рассуждениях Патнема также проявляется тенденция этого автора понимать референцию как абстрактное соответствие наших представлений о вещах самим вещам.
В целом, по поводу референции невербальных ментальных репрезентаций можно сказать все то же, что уже было сказано о референции слов. В понятие референции нет смысла включать все возможное знание об объекте, иначе мы придет к тому, что референция вообще невозможна и не осуществляется никогда, поскольку мы не можем обладать абсолютным знанием о вещах. Пусть референция остается простым направлением.
1 Ср.: «Приведенный мной при сравнении чувственных данных с муравьиной „картиной“ аргумент (аргумент от научно-фантастической истерии о „картине“ дерева, возникшей из пролитой краски и породившей чувственные данные, качественно подобные нашим „визуальным образам деревьев“, но не сопровождавшейся никаким понятие и дерева) был бы принят ими как показывающий, что образы не осуществляют референцию с необходимостью. Если ментальные репрезентации осуществляют референцию (к внешним вещам) с необход имостью, то они должны отражать пртрзду понятий, а не природу образов» (Патнем X Разум, истина и история.-С. 32). внимания на объект, на его бытие, проявляющееся в его свойствах, воспринимаемых нами. Ведь способности направлять внимание на какой-то пред мет Патнем не отрицает. И это видно из его примеров: даже не знакомые с деревьями инопланетяне все же замечают картину дерева, а значит, направляют на нее свое внимание и удерживают ее в поле своего зрения, могут с большим или меньшим успехом изучать ее. Они способны фиксироваться на факте ее существования. А в дальнейшем, благодаря такой способности, возникает какое-то представление об объекте, пусть и самое поверхностное.
В действительности, примеры Патнема показывают, что в его рассуждениях вопрос вовсе не в том, возможно ли осуществлять референцию, т. е. обращать внимание на объект, включать этот объект в поле своего сознания и как-то учитывать его в своем мышлении, составлять суждение о нем. Вопрос в том, как разные люди могут обладать одинаковыми понятиями об одном и том же предмете. Из высказываний Патнема становится ясно, что проблема референции для него — это проблема того, как инопланетяне могут обрести нагие представление о дереве. Если они обретут его, только тогда они осуществят референцию. Это проблема индивидуального и социального в отношении интенсионала и экстенсионала — проблема, которую Патнем решает характерным для него способом, прежде всего в отношении референции слов. Это проблема того, как мой индивидуальный интенсионал может указывать на социально задаваемый экстенсионал'. Иными словами, это все тот же «социальный фактор». В данном случае, как и в теории референции слов, в концепции Патнема можно указать на смешение понятий индивидуального и социального. Патнем желает, чтобы индивидуальная ментальная репрезентация дерева у человека, не обладающего понятием дерева, соответствовала социальному понятию дерева, выражаемому этой картиной. А если принять во внимание, что для Патнема социальное значение слова — это всего лишь абстрактно-обобщенное значение данного слова, содержащееся в умах либо всех членов сообщества, либо, как часто настаивает Патнем, в умах специалистов, то неправомерность подхода этого автора становится еще более очевидной. «Антименталистские» аргументы Патнема зиждутся лишь на том обстоятельстве, что один человек, не являющийся специалистом и обладающий.
1 В предыдущем параграфе, в котором речь шла о референции слов, мы не стали рассматривать так называемый социальный фактор, действующий при установлении значения слова Здесь можно вкратце заметить, что Патнем ошибочно утверждает, что индивидуальный интенсионал не устанавливает значения слова только та том основании, что, исходя из своего индивидуального интеисвоим собственным, неполноценным представлением о пред мете, может не иметь того более полного представления об этом предмете, которое присуще другим людям, специалистам или всему сообществу в целом. Иными словами, ментальное состояние не задает значения слова или не обладает понятием о предмете и, соответственно, не осуществляет к нему референции в этом отношении только потому, что ментальное состояние одного человека может не соответствовать ментальному состоянию другого человека.
Итак, проблема референции для Патнема — это зачастую проблема обладания социально обусловленным знанием. (Зачастую, но не всегда, поскольку во многих других случаях это проблема того, как вообще можно иметь понятие о предмете, как можно составить о предмете какое-то представление.) Кроме того, Патнем словно мимоходом показывает, что в проблему референции невербальных ментальных репрезентаций входит и проблема проанализированного нами выше «фактора реального мира». В своей книге он один раз упоминает этот фактор1, хотя в дальнейшем в связи с невербальными ментальными репрезентациями о нем больше не вспоминает. * *.
Патнем совершенно необоснованно уподобляет ментальные репрезентации в сознании человека репрезентациям «физическим». Ментальные репрезентации принципиальным образом отличаются от репрезентаций физических. И отличаются тем, что требуют «понятийного» дополнения. Однако любой образ, который возникает в нашем сознании, неизменно порождает какое-то понятие. Образ всегда одновременно и является понятием. Не бывает образа без понятия.
Даже если мы, вслед за Патнемом, будем рассматривать понятие как диспозицию или способность к действию, то и в этом случае следует признать, что такая диспозиция или способность не могут быть отделены от образа. Они всегда спаяны с образом, нерасторжимы с ним. Возможно, сам по себе образ ни на что не указывает, однако в сознании не бывает образов самих по себе. В конце концов, понятие как диспозиция, как способность — это не способность сама по себе, а способность оперировать «чувственными образами» — ментальными репрезентациями, если речь идет о мышлении, либо реальными сионала, зависящего ог психологического состояния человека, последний не может знать социального значения того или иного слова, которое может быть известно только вешу сообществу в целом или каким-то специалистам. восприятиями вещей, если мы говорим о материальной практике. И эту мысль, по сути, подтверждает и сам Патнем, который говорит, что «понимание конституируется вовсе не феноменами самими по себе, но способностью мыслителя применять эти феномены, производить правильные феномены в правильных обстоятельствах». Так же как понятие как способность к действию неразрывно связано с самим объектом, на который это действие направлено (поскольку действие ведь не может существовать само по себенеобходим объект, на который это действие было бы направлено и на котором бы оно реализовывалось), точно так же понятие неразрывно связано и с ментальной репрезентацией как отражением объекта. Отсюда следует, что неправильно говорить, будто репрезентация может не осуществлять референции к самому объекту. Если мы имеем репрезентацию, мы одновременно имеем и слитое с ней понятие об объекте (в той мере, в какой мы обладаем знанием об этом объекте). В сознании не может быть репрезентаций, которые бы ни на что не указывали.
Однако Патнем представляет все дело так, будто образы в сознании человека (в первую очередь визуальные, но также и звуковые — слова) могут быть словно механически соединены с какими-то «способностями», которые, в целом, в состоянии существовать без всяких образов. Бывают «способности» без ментальных феноменов, и ментальные феномены без «способностей». «Образы» и «способности» — это, по Патнему, совершенно разные сущности, соединенные лишь случайно. В действительности дело обстоит по-другому. «Образы» и «способности» образуют нерасторжимую целостность. Это некое единство: образ-способность, образ-диспозиция. Это способность, реализующаяся на образе.
Отсюда следует, что ментальная репрезентация объекта, например дерева, в сознании человека должна представляться не в виде од ного лишь визуального образа этого дерева, а как «визуальный образ + понятие о дереве как способность производить определенные операции с деревом». В этом случае мы вынуждены будем признать, что ментальные репрезентации одних и тех же объектов у людей, обладающих разными понятиями об этих объектах, в отличие от того, что утверждает Патнем4, будут все равно раз.
1 Патнем X Разум, истина и история. — С. 33 — 34.
2 Там же. С. 35.
3 Ср.: Там же. С. 36.
4 См., напр.: Там же. С. 17−18. личаться. Ментальной репрезентацией дерева у человека, хорошо знающего, что это такое, будет «визуальный образ дерева + способность!», в то время как у инопланетянина, который не имеет никакого представления о земных деревьях, ментальная репрезентация дерева будет выглядеть как «визуальный образ дерева + способность^). Таким образом, ментальные репрезентации все равно следует признать разными. «Количественной идентичности» сознаний двух людей с разным пониманием, о которой говорит Патнем1, быть не может. Нельзя сказать, что два человека, обладающие разными «способностями», имеют од инаковые репрезентации, одна из которых на объект указывает, а другая нет. * *.
Однако возражения Патнема традиционным теориям состоят не в том, что ментальные репрезентации, связанные с понятиями, не могут указывать на внешние объекта. Патнем, пожалуй, согласился бы со многим из вышесказанного. Он, скорее, и сам утверждает нечто подобное, а именно то, что репрезентации должны быть связаны с понятиями для того, чтобы быть способными указывать на объекты. Однако возражения Патнема состоят в том, что мы не можем знать, указывают они на них или нет, поскольку они указывают не сами по себе, а благодаря понятиям. Проблема же, согласно Патне-му, как раз и состоит в том, что «способности» нельзя отрефлекгировать. Понятия скрыта от феноменологического наблюдения. Следовательно, вторую составляющую в комплексе «образ-способность», «образ-диспозиция» все равно зафиксировать феноменологически невозможно, а поэтому невозможно феноменологически определить, какая ментальная репрезентация осуществляет референцию к объекту в силу своей связи с понятием, а какая нет. (Более того, даже сам человек, интроспектируя свое сознание, не может якобы знать, какими понятиями об объекте он обладает, т. е. какие действия относительно него он способен произвести, пока не совершит этих действий — представления, заимствованные у Витгенштейна.).
Как говорит сам Патнем, «даже если есть какое-то доступное интроспекции свойство, присутствующее тогда и только тогда, когда некто действительно понимает нечто.. все же это свойство лишь коррелирует с пониманием, и возможно, что человек,.
1 Патнем X. Разум, истина и история, — С. 18. обманывающий японского телепата, также обладает этим качеством, но в то же время не понимает ни слова по-японски"1. «. .Никакое множество ментальных событий — образов или более „абстрактных“ ментальных происшествий и свойств — не конституирует понимание. никакое множество ментальных событий не является необходимым д ля понимания. В частности, понятия не могут быть идентичны ментальным объектам любого вида. Мы видели, что — в предположении, что под ментальным объектом мы подразумеваем нечто доступное интроспекции — чем бы ни являлся такой объект, его может не быть у человека, который понимает соответствующее слою (и тем самым обладает полноценным понятием), и он может наличествовать у человека, который вообще не обладает этим понятием» .
Следует заметить, что иногда Патнема можно понять и так, будто ментальные образы и другие феномены вообще всегда случайны по отношению к «понятиям-способностям» и пониманию. Соответственно, нет и смысла рассуждать о том, указывают они в принципе на что-то или нет. С другой стороны, даже если они порой и не случайны, а тесно связаны с соответствующими «понятиями-способностями», но при этом такая связь все равно не может быть нами однозначно феноменологически обнаружена, можно говорить, что они все же случайны для понимания и мышления, если не в онтологическом, то хотя бы в познавательном плане, в плане их феноменологического наблюдения.).
Хочется выразить несогласие с тезисом Патнема о невозможности феноменологически зафиксировать «способности». «Понятия-способности» все же могут быть обнаружены путем интроспекции. Понять феноменологически, обладаем ли мы знанием о каком-либо объекте, мы сможем, если будем наблюдать не статичную ментальную репрезентацию, которую получим, «остановив поток мысли во времени"1, как это предлагает делать Патнем, а только если будем наблюдать ее в динамике: наблюдать смену и взаимодействие репрезентаций. Ментальные феномены следует наблюдать не в статичном состоянии, а в динамике, тогда и можно будет выявить «способности». Но ведь и относительно реальной вещи мы также не можем сказать, обладает о ней некто понятием или нет, если не понаблюдаем за действиями этого человека с данной вещью.
1 Патнем X. Разум, истина и история.-С. 36.
2 Там же. С. 36−37.
Поскольку, согласно Патнему, понимание является способностью и никакое внутреннее наблюдение ментальных феноменов не обнаружит его, понимание должно выявляться, по-видимому, только наблюдением внешнего поведения2. Однако при этом непонятно, чем наблюдение внешнего поведения предпочтительнее (помимо интерсубъективной доступности, конечно, но ее мы в данном случае в расчет не берем) наблюдения «поведения внутреннего», то есть наблюдения внутренних ментальных феноменов и их изменений? Очевидно, что наблюдение внутренних феноменов должно было бы лучше выявлять понимание, чем наблюдение феноменов внешних, поскольку в последних оно может и вовсе не обнаруживаться: человек может нечто понять, и это будет видно при рассмотрении его ментальной сферы, но в его внешнем поведении такое понимание может никак не проявляться.
Рассмотрим конкретный пример. Вот патнемовский случай с «человеком, якобы мыслящим по-японски (и обманувшим японского телепата)». Если «телепат» будет просто рассматривать те фразы, что одна за другой станут возникать в голове данного человека, он, конечно же, не будет знать, понимает этот человек то, что проносится в его сознании, или нет. Но и простой наблюдать в случае, если бы этот человек не мыслил, а произносил свои фразы вслух, не знал бы, понимает он их или нет, поскольку и в этом случае это были бы феномены, взятые в их статичном состоянии: не было бы видно, как применяются эти фразыне было бы понятно, может ли данный человек употреблять их соответствующим образом.
Сам же Патнем далее, по сути, говорит, что наблюдение следует совершать в динамике. Когда у этого человека в голове под влиянием «гипнотизера» просто возникают слова, «телепат», естественно, не может знать, понимает ли он их.". .Если он не мог бы использовать слова в правильных контекстах, отвечать на вопросы о том, что он «думает» и т. д., то он не понимал бы их"4. Но если тот попробует оперировать словами, «телепат» очень быстро поймет, есть ли у него понимание. Здесь следует добавить, что не обязательно использовать язык внешним образом, произносить слова вслух — на все эти вопросы можно отвечать и в уме, что и будет зафиксировано «телепатом».
1 Патнем X Разум, истина и история. — С. 32−33.
2 См.: Там же. С. 34−35.
3 Там же. С. 18,36.
4Тамже.С. 18.
Утверждения Патнема следует признать неверными. Он видит проявление понимания только во внешних разумных действиях. Однако мысль — это тоже действие. Феноменолог Патнема наблюдает только статичные феномены в уме человека, и, естественно, из их статичного состояния (или из механического воспроизведения слов какого-то языка) нельзя сделать вывод, обладает ли человек пониманием. Если же феноменолог будет наблюдать то, как человек оперирует своими ментальными феноменами, он сможет сделать вывод о том, обладает ли данный человек пониманием. Например, наблюдая, как человек вычисляет в уме, феноменолог убедится, что этот человек действительно понимает. В этом случае он феноменологически отметит понимание (так же как отметил бы его, наблюдая внешние действия того же человека, например то, как он производит вычисления на бумаге). Конечно, понимание в этом смысле не будет каким-то феноменом — в этом отношении Патнем, видимо, прав. Понимание будет способностью оперировать феноменами (как говорит и сам Патнем). Однако эту способность возможно обнаружить путем интроспекции.
Понятия — это не ментальные репрезентации, образы, «эпизоды» и тому подобные сущности, но они связаны с такими феноменами, реализуются на них, проявляются в них и через них. Хотя, вслед за Патнемом и логическим бихевиоризмом, следует, вид имо, все же признать, что они могут реализовываться и непосредственно на внешних действиях, без посредничества каких-либо ментальных феноменов. Понятия могут скрываться за действиями и проявляться непосредственно в них, безо всяких ментальных образов. Именно этот факт дает возможность для созд ания таких концепций, как бихевиоризм. Но они могут (а чаще всего так и бывает) сопровождаться ментальными феноменами. У нас нет оснований отвергать существование ментальных явлений. И если мы не отрицаем проявления понятий в способности совершать физические действия, то нет оснований отвергать их проявление и в смене ментальных репрезентаций. А это уже приводит нас к ментализму и интенционализму. * *.
Более того, если мы проанализируем, чем бы могли быть «способности к действию», о которых говорит Патнем, то обнаружим, что это, по сути, не что иное, как «чувственные образы», но носящие не визуальный характер, а имеющие отношение к иным органам чувств. Так, способность к какому-то физическому действию проявляется в кинестетическом «образе» такого действия. Сюда же примешиваются тактильные «образы», связанные с этим действием, и многие другие. Ментальное отражение «способности к действию» можно описать как сложный, комбинированный чувственный «образ», заключающий в себе элементы множества ощущений, связанных со всеми органами чувств и другими источниками ощущений человеческого тела Восприятие какого-либо объекта активирует в нас все те «образы», которые призваны показать, какие действия мы можем совершить с данным объектом. Тогда «способность к действию» — это своего рода предвосхищение на уровне «образов» (отнюдь не только визуальных, а зачатую и вовсе не визуальных) всех тех действий, которые мы можем совершить с данным объектом. А с другой стороны, ее можно было бы определить и как возникновение в памяти чувственных образов всех тех действий, которые ранее мы совершали с предметами подобного рода1.
Почему Патнем при интроспекции не замечает во внутреннем пространстве «способностей»? Ответ на вопрос состоит в том, что, когда он говорит, будто «способности» невозможно зафиксировать феноменологически, он неосознанно имеет в виду только визуальное или аудиальное фиксирование, он ожидает, что «способности» окажутся зрительными или звуковыми образами. Из всей массы чувственных образов, которыми может обладать человек, Патнем выделяет репрезентации только такого типа и противопоставляет их всем остальным. И даже когда мы сами в данной работе говорим о наблюдении феноменов в динамике, речь, по сути, идет только о визуальном или аудиальном наблюдении. Отсюда понятно, что если феноменолог Патнема будет обращать внимание.
1 В связи с вышесказанным следует упомянуть об утверждениях Райла (которые он делает под влиянием все того же Витгенштейна), касающихся того, что разумное действие не состоит из д вух разных процессов: ментального планирования и физического действия. (Ср.: Райл Г. Понятие сознания. — М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. — С. 34,37−41,56−58.) То, как представили дело мы, напоминает как раз те взгляды, против которых выступает Райл. Однако следует заметить, что концепция Райла, в целом, давно отвергнута (Ср., напр.: Серл Дж. Открывая сознание заново. — С. 51−52). Кроме того, его выводы кажутся не вполне убедительными и с феноменологической точки зрения. Если мы попытаемся отрефлекгировагь процесс совершения действия, то обнаружим, что нечто напоминающее «ментальное планирование» все же присутствует. В любом случае, пусть мы не найдем ясных следов такого «планирования», все же не так легко будет отказаться от иней, что ничего подобного нет. Однозначно утверждать, что никакого «продумывания» не имеет места, мы сможем, только если поддадимся нарочитым редукционистским настроениям. Если же мы отнесемся к наблюдению непредвзято, то вынуждены будем признать, что, если уж и не существует некоего сознательного предварительного продумывания действий, которые мы собираемся совершить, то, во всяком случае, почти всегда наличествует нечто, что можно было бы охарактеризовать как бессознательное чувственное предвосхищение действия, некий внутренний рывок, побуждающий к его совершению. Сказанное относится также и к схожим замечаниям Витгенштейна только на такие образы, да еще и взятые в статичном состоянии, он, естественно, никогда не узнает, обладает ли человек пониманием. Но такая избирательность не может быть оправдана. В действительности, проблем с выявлением «способностей» не возникнет, если учитывать всю целостность ментальной репрезентации, а не только ее зрительные и звуковые аспекты.
Следует признать, что рефлектировать визуальные и звуковые образы намного проще, чем, например, кинестетические или тактильные. У большинства людей эти органы чувств развиты в большей степени, являются ведущими в процессе познания. Именно этим объясняется то ошибочное противопоставление репрезентаций «способностям», которое мы находим у Патнема: это, по сути, противопоставление репрезентаций одних видов репрезентациям других видов. Именно поэтому все иные репрезентации, помимо визуальных и звуковых, и представляются некими таинственными «способностями», узнать о существовании которых мы можем, только приступив к действительному осуществлению какого-то дела, в ходе которого они реализуются. (Хотя все же следует признать, что зачастую мы и в самом деле можем не замечать в себе подобных «способностей» и убеждаемся в их существовании только на практике.).
Когда Пашем говорит, что образ еще не является понятием, не задает понятия, что понятие — это способность к действию, он совершает какую-то странную редукцию, сводя вопрос о понимании только к действиям и к якобы несвязанным с ними визуальным и звуковым образам. На самом деле, понятие, понимание — вещь гораздо более сложная. Это сложный комплекс, в который входит множество составляющих, начиная от легко рефлекгируемых образов сознания и заканчивая способностями к внешним действиям, в которых оно проявляется. Но между двумя этими крайними точками находится множество каких-то почти нерефлекгируемых ощущений, переживаний, восприятий. И если мы будем внимательны при осуществлении феноменологического наблюдения, то отметим, что образы все же должны быть связаны с пониманием. (Конечно, они могут быть и не связаны с ним, но это скорее исключение, чем правило.) А кроме того, следует учесть, что мы все же не знаем в полной мере, что такое понимание и сознание, что мы описываем только феноменологию этого явления.
Мы уже сказали, что у людей, обладающих якобы одинаковыми ментальными репрезентациями, но разными понятиями, репрезентации все равно не могут считаться одинаковыми, поскольку у них в любом случае различаются «способности», неразрывно связанные с этими репрезентациями, что мы и можем отметить путем наблюдения репрезентаций в динамике. Теперь же, после проведенного выше анализа, мы можем сказать, что при понимании «способностей» как сложных чувственных репрезентаций эта истина становится еще более явной.
Таким образом, мы должны прийти к заключению, что у людей с разным пониманием не может быть одинаковых образов, связанных с этим пониманием. «Качественная идентичность» ментальных репрезентаций при различных понятиях, в отличие от того что утверждает Патнем, невозможна О подобии или даже идентичности репрезентаций можно говорить лишь в том случае, если мы выделяем не всю совокупность репрезентаций, относящихся к данному понятию, а только их часть. Например, если мы берем только визуальные репрезентации, характеризующие внешний статичный вид объекта, и отсекаем все остальные, отражающие возможные операции с этим объектом, тогда, действительно, можно ожидать сходства ментальных образов у человека, хорошо знакомого с этим объектом, и человека, видящего этот объект впервые.
Но такой под ход, естественно, не может считаться правомерным. * *.
Теперь можно затронуть и принципиальный для аналитической философии вопрос о значении слова Даже предварительные рассуждения, которые можно было бы провести еще до того, как были сделаны изложенные выше выводы о природе «способностей», должны были бы показать, что между словами и несловесными ментальными репрезентациями все же существует какая-то связь. А в некоторых случаях можно даже говорить, что несловесные ментальные репрезентации в каком-то смысле являются значениями слов.
Действительно, допустим, мы останемся на трад иционных для аналитической философии операционалистских позициях, согласно которым значение слова задается способом его употребления и связано со способностью действовать соответствующим образом при его использовании. При этом такая невидимая для феноменологического наблюдения способность использования слова никак не связана с тем несловесным образом, который может возникнуть при употреблении этого слова, даже если этот образ в данном случае уместен. Однако нам все равно придется признать, что точно такая же способность употреблять слою или действовать соответствующим образом, если уж мы не можем ее не постулировать, может бьггь связана не только со словом, но и с тем невербальным образом, что возникает в связи с этим словом. В самом деле, вербальные образы, слова, в принципе ничем не отличаются от образов невербальных, например визуальных. И если какая-то «способность к действию» активируется в связи с употреблением слов, то почему та же способность не может включаться и при возникновении невербальных образов, тем более что принципиальной способности таких «способностей» бьпъ связанными с невербальными ментальными репрезентациями никто не отрицает? Более того, можно говорить даже, что мышление — это вовсе не одно лишь использование слов, но что вместе со словами используется множество других, невербальных, образов, каждый из которых связан с феноменологически не фиксируемой способностью к адекватному действию. В этом смысле можно было бы даже говорить, что несловесные ментальные образы являются значениями слов. Они являются ими, по крайней мере, иногда, когда мы, произнося какое-то слово, не можем не представлять себе тот объект, который это слово обозначает.
Патнем, очевидно, не стал бы возражать относительно того, что «способности» могут бьггь связаны не только со словами, но и с несловесными ментальными репрезентациями. Однако неизвестно, как бы он отреагировал на заявление о том, что одна и та же «способность» может объединять слова с несловесными репрезентациями. Впрочем, иногда он и сам указывает на то, что слова ассоциируются с невербальными ментальными репрезентациями: «. .Когда ребенок учится использовать слово «стол», происходит сложное связывание (ассоциация) этого слова с некоторыми ментальными явлениями."1.
С другой стороны, можно постулировать самостоятельное существование несловесного образного мышления и утверждать, что словесное мышление и несловесное образное мышление являются взаимодополнительными процессами. В целом, можно до.
1 Патнем X.
Введение
к книге «Реализм и разум» // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запала: Учебная хрестоматия. — M.: Издательская корпорация «Логос», 1996. — С. 210. пустить, что при языковом мышлении несловесные ментальные репрезентации не играют большой роли. Однако несловесное образное мышление может быть хорошим дополнением мышления языкового. И, по-видимому, чаще всего так и бывает.
Все это были предварительные замечания. Однако сказанное выше по поводу природы «способностей» позволяет более определенно ответить на вопрос, являются ли ментальные образы значениями слов. Конечно, одни только визуальные и другие интроспективно наиболее заметные ментальные образы значениями слов являться не могут, хотя и входят в состав такого значения. И в этом смысле Витгенштейн и Патнем правы, когда утверждают, что образы, всплывающие в сознании при употреблении слова, не являются значением этого слова. Значением слова уместно было бы признать такой вот сложный, динамичный, с трудом рефлектируемый комплекс чувственных образов, связанных со словом, которое, в свою очередь, входя в этот комплекс, само является одним из чувственных образов, а именно звуковым. В отличие от того, что утверждает Витгенштейн, а вслед за ним и Патнем, мы бы сказали, что значение только проявляется в способе употребления слова, является же оно таким вот прообразом этого употребления, заключающимся в сложном чувственном образе возможных действий, в ходе которых это слою может быть употреблено, и чаще всего доступным сознанию собирающегося употреблять его человека. Именно на такой схеме значения слова мы настаиваем потому, что, учитывая, что ментальные явления (в отличие от того, что утверждают Витгенштейн и Патнем) все же параллельны физическим действиям (хотя, конечно, в ряде случаев физические действия могут совершаться и без ментального сопровождения), ментальные феномены, тем не менее (опять же в отличие от того, что утверждают Витгенштейн и Патнем), несколько пред шествуют физическим действиям и определяют их. * *.
Говоря о проблеме значения слова, нельзя не заметить, что в пагнемовской концепции «понятий как способностей» можно обнаружить серьезное противоречие. Согласно этой концепции, понятия — это «способности», и они же являются и значениями слов. Это близко к Витгенштейну: значение слова есть способ его употребления. Однако как следует понимать, что такое «способности»? Выражаются ли эти «способности» только во внешних действиях, как у Витгенштейна, и, соответственно, ментальные репрезентации, в том числе и слова, обретают свое значение только через внешние действия? Или это также и способности оперировать ментальными феноменами, как иногда говорит сам Патнем? Изучая работы Патнема, порой трудно составить себе однозначное мнение относительно точки зрения этого автора. Более правильной выглядит вторая точка зрения. Но сомнения все же остаются.
Как мы уже отмечали, иногда Патнема можно понять и так, будто ментальные образы и другие феномены вообще всегда случайны по отношению к «понятиям-способностям» и пониманию. Соответственно, нет и смысла рассуждать о том, указывают ли они, в принципе, на что-то. С другой стороны, даже если они и не случайны, а тесно связаны с соответствующими «понятиями-способностями», но при этом такая связь все равно не может бьпь однозначно выявлена путем интроспекции, можно говорить, что в познавательном отношении, в плане их феноменологического наблюдения, они все же случайны для понимания и мышления.
Патнем говорит, что ментальные репрезентации сами по себе не осуществляют референции. Однако если такие репрезентации связаны с «понятиями-способностями», то референция осуществляется. Однако, с другой стороны, он же говорит, что никакие ментальные репрезентации не осуществляют ее с необходимостью и что «понятия-способности» при этом скрыты. Если понятия выражаются в способностях только к внешним действиям, то они, по логике вещей, не должны были бы иметь какого-либо отношения к ментальным репрезентациям и на этом основании ментальные репрезентации не должны были бы обладать свойством референции и не указывали бы на внешние объекты. Отсюда следует вывод, что ментальные репрезентации, по сути, вообще не осуществляют референции к внешним объектам.
Вполне возможно, Патнем хочет сказать нечто в духе логического бихевиоризма Витгенштейна и Райла: что мышление осуществляется на уровне способностей к внешним действиям и проявляется именно в них, а ментальные образы в принципе случайны и не являются необходимыми. Они могут присутствовать в сознании, но их может и не быть. Как бы то ни было, их наличие или отсутствие не играет большой роли в нашем разумном поведении.
Если это так, то непонятна роль в мышлении вербальных ментальных феноменов. Ведь в этом случае не нужны и они. Никакие слова, которые мы можем обнаружить у себя «в голове», не конституируют мышления. (Впрочем, именно это, как кажется, иногда и утверждает Патнем.) Отсюда должно было бы следовать, что и вербальные образы как вид ментальных репрезентаций также не обладают референцией. Патнем и сам говорит порой, что любые образы, любые репрезентации и даже слова и целые языковые системы, которые можно обнаружить в сознании человека, не конституируют понимания. На их основании нельзя увидеть, обладает ли человек пониманием. Однако это противоречит всему последующему рассуждению этого автора, где он показывает, что слова, из понятия которых нельзя, видимо, исключать и вербальные репрезентации, все же обладают референцией и при том определенной (пусть и в пределах концептуальной схемы). Более того, как мы стремились показать выше, такую референцию можно даже назвать менталистской и интенционалистской.
Если мы примем подобное толкование, то это, по сути, будет равносильно утверждению, что все мышление человека является неязыковым и представляет собой нечто вроде «нелингвистической рациональной активности», о которой мы говорили ранее, в ходе которой слова используются только в качестве «структурированных звуков». А если вербальные репрезентации для мышления все же нужны, нужны хотя бы иногда, то следует признать, что нужны и несловесные ментальные репрезентации.
Наиболее явно противоречия в концепции Патнема проявляются в том, что касается произнесенных, интерсубъективно фиксируемых слов, которые, сами являясь родом внешней деятельности, в отличие от вербальных ментальных репрезентаций, не могут не быть связанными с другими видами рациональной деятельности. Если «понятия как способности» все же следует понимать в витгенштейновском смысле, как совершение только внешних рациональных действий, тогда этой концепции должны быть присущи все те следствия, касающиеся неопределенности референции, о которых говорит Куайн. Однако Патнем отвергает неопределенность референции. В концептуальном мире субъекта неопределенности нет. У интерсубъективно фиксируемых слов есть референция и даже нечто вроде интенсионала, который, как говорит Патнем, задается ментальным состоянием. Слова указывают на определенные объекты, по крайней мере в пределах концептуальной схемы употребляющего их человека. И при этом данный человек знает, на что указывают его слова, из чего вытекает, что слова имеют ментальные значения.
Такого не должно было бы быть, будь Патнем последователен. У него должен был бы получиться операционализм и бихевиоризм в духе Витгенштейна или Куайна, а вовсе не «интернализм», согласно которому слова указывают на элементы «внутреннего», понятийного мира субъекта, на ментальные образы-представления об объектах. Значения слов определялись бы только операционально, как у Витгенштейна и Куайна. Возникало бы явление неопределенности референции. Но Патнем как раз совершенно однозначно отвергает неопределенность референции, подтверждая тем самым, что у слов есть ментальные значения. Само признание возможности осуществлять референцию опровергает операционализм. И это противоречит его же собственным утверждениям о том, что понятия — это способности, а не ментальные сущности. (У Витгенштейна, который последовательно проводит линию на антименталистский операционализм, никаких ментальных значений у слов как раз нет.) Отсюда получается, что концепция Патнема — это все же концепция менталистская.
С другой стороны, если концепцию Патнема истолковать в том плане, что «способности» проявляются не только во внешних действиях, но и в оперировании ментальными феноменами (как иногда утверждает и сам Патнем), то тогда эта концепция опять-таки превращается в обычный ментализм. Даже непонятно, почему Патнем считает свою концепцию антименталистской. Ведь если ментальные репрезентации участвую в мышлении, будучи связаны со способностями, это традиционный ментализм. А того, что не все образы, имеющиеся у нас в голове, участвуют в мышлении, не отрицает и ментализм.
В то же время при таком подходе возникает противоречие, состоящее в том, что невозможно будет признать, что формально уместные для данного действия ментальные феномены могут быть совершенно случайными и не иметь внутренней, имманентной связи с соответствующими «способностями» или что их даже и вовсе может не быть, как утверждает Патнем, при том что человек будет действовать рационально. Такое возможно только при допущении витгенштейновской точки зрения, относительно чего мы уже высказали свое мнение. Если же «способности» — это способности оперировать не только внешними действиями, но и метальными феноменами, то последние должны быть тесно связанными с мышлением. А на утверждение о том, что ментальные образы в нашем сознании порой могут и на самом деле быть никак не связанными с нашими рациональными действиями, а также с нашим словесным мышлением, что они могут быть действительно случайными, можно возразить, что и слова могут совершенно случайно возникать в нашем сознании, но это ведь не означает, что в идеальном случае они не имеют референции.
Итак, Патнем не дает четкого объяснения того, в каком смысле понятия являются способностями. Налицо некоторая двусмысленность, допускающая двойное толкование. А это, в свою очередь, ведет к концептуальному противоречию.
Кроме того, следует заметить, что и сам Патнем оказывается не в состоянии удержаться на позициях декларируемого им антиментализма и скатывается к традиционным менталистским представлениям. На самом деле, подобные операционалистские утверждения (например, утверждение о том, что значение слова — это его употребление) легче сделать на словах, чем наполнить их реальным содержанием. Концепция Патнема внутренне противоречива и не соответствует названию антименталистской. * *.
Выше мы стремились показать, что тезис Патнема, согласно которому «способности» нельзя зафиксировать феноменологически, не вполне верен. Теперь же хотелось бы высказать дополнительные замечания по этому поводу.
Мы сказали, что даже если, несмотря ни на что, мы не принимаем истолкования «способностей» как с трудом рефлекгаруемых сложных ментальных репрезентаций, отличных от исключительно визуальных и звуковых образов, и предпочитаем сохранить интерпретацию Патнема, то и в этом случае «способности» могут быть зафиксированы путем внутреннего наблюдения. Ментальные феномены должны наблюдаться в динамике, в развитии, тогда и будут видны «способности». Однако может показаться, что призывы рефлектировать тактильные или кинестетические репрезентации и тому подобные вещи или, тем более, «способности к выполнению определенных действий» звучат несколько надуманно. Действительно, как это делать? Что для этого нужно?
Однако следует признать, что нарочитые наблюдения за «изменениями феноменов» или за «комбинированными репрезентациями», в общем-то, и не нужны. Человек, как правило, и так интуитивно чувствует, может он что-то сделать или нет. И эти интуиции гораздо сильнее подобных надуманных объяснений. Путем самонаблюдения человек обычно легко понимает, какими способностями он обладает. Поэтому, например, любой визуальный образ сразу же вызывает в его сознании представление о том, обладает он в отношении данного предмета нужной «способностью» или нет. Иными словами, «способности», в любом случае, находят свое отражение в ментальной сфере, иначе об их существовании у себя человек бы просто не знал.
Мы словно утрачиваем знание о своих «способностях» именно тогда, когда, вслед за антименталистами, пытаемся осуществлять надуманные интроспекции, стремясь выяснить, не скрываются ли «понимания-способности» среди зрительных и звуковых образов, и, естественно, не находя их там. Когда Витгенштейн или Райл говорят об опасности поддаться иллюзии ментализма — иллюзии того, что существуют какие-то четкие и определенные образы нашего ума, которые предваряют и словно дублируют наши физические действия, образуя «царство ментального», сами они становятся жертвами иллюзии редукционизма. Осуждая «напряженное всматривание», которым, по словам Витгенштейна, грешат создатели подобных менталистских программ, сами они, благодаря все тому же «напряженному всматриванию», упускают из вида некие важные феномены ментальной жизни.
Чтобы убедиться, что на самом деле все не так сложно, и подтвердить правильность наших выводов, проведем следующий незамысловатый мысленный эксперимент. Подумайте, умеете ли вы плавать? Знаете ли вы, как завязать узел на веревке? Можете ли вы сосчитать, сколько будет 12 + 34? Умеете ли вы играть в шахматы? Если подобные вопросы не затрагивают каких-то слишком сложных действий, по поводу возможности исполнения которых возникают определенные сомнения, то найти ответ на них достаточно легко. Ответ этот будет результатом не только воспоминаний о том, как ранее эти действия нами уже выполнялись, но и некоторого внутреннего «движения», интуитивного развертывания в сознании образа требуемого действия. Даже если речь идет о каком-то очень сложном действии, относительно которого мы не можем с уверенностью сказать, будем ли мы способны исполнить его (например, если мы говорим о сложной математической задаче), то и в этом случае мы можем по крайне мере сказать, способны ли мы исполнить его хотя бы в общих чертах, знаем ли хотя бы, как приступить к нему.
Говорить, что «чувство понимания» является случайным сопровождением подлинного понимания как способности нечто исполнить, как умения совершить данный акт, кажется неоправданным. То обстоятельство, что, имея «чувство понимания», мы можем ошибаться относительно наших способностей, вовсе не свидетельствует о том, что это чувство совершенно случайно. Из одного малозначительного факта ошибки Витгенштейн и Патнем делают слишком далеко идущие вводы. В конце концов, человека, утверждающего, что он нечто понимает, можно и проверить. Если он утверждает, что понимает, например, как играть в шахматы или употреблять какое-то слово, его можно попросить продемонстрировать свое умение. Можно подсчитать, в каком проценте случаев человек делает ошибки, заявляя, что он знает нечто, не будучи в состоянии этого исполнить. Представляется, что вряд ли кш-то станет реально сомневаться, что процент совпадений будет достаточно высок. А это и доказывает связь ментального понимания со способностью к действию. В «Философских исследованиях» Витгенштейн говорит: нас не интересует, что человек ощущает «внутри» себя, а интересует только, может ли он на самом деле сделать то, о чем говорит, — в данном случае играть в шахматы1. Однако, как мы видим, эти два процесса тесно связаны между собой. * *.
Подведем итоги сказанному в этой главе. Во-первых, все, что верно относительно слов, верно и относительно ментальных репрезентаций в целом. Действительно, слова в рассматриваемом нами аспекте ничем не отличаются от невербальных ментальных репрезентаций. Разница между словами и несловесными репрезентациями состоит в данном случае лишь в том, что слова — это звуковые ментальные образы, которые могут быть выведены в интерсубъективное пространство и которым присуща социальная природа, в то время как несловесные ментальные репрезентации, как правило, индивидуальны и интерсубъективно недоступны. И все, что до этого было сказано о том, как осуществляется референция слов, может быть отнесено и к невербальным ментальным репре.
1 Витгенштейн Л Философские исследования. — С. 306. зентациям. Точно так же как интенциональным, менталистским образом мы можем осуществлять референцию слов, что было показано в предыдущих разделах, мы можем осуществлять референцию и невербальных репрезентаций. Никакой принципиальной разницы при этом быть не должно.
Ментальные образы объектов связаны с теми объектами, которые они изображают. Они устанавливают с ними интенциональную референциальную связь в широком смысле этого слова, являясь при этом отражением этих объектов. В своей концепции ин-тернализма Патнем утверждает относительно слов, что они указывают на элементы нашего концептуального мира. При этом мы сказали, что не следует отделять мир концептуальный от мира реального, что они слиты между собой, представляют собой единый мир. То же самое верно и относительно ментальных репрезентаций в целом. Они также указывают, по крайне мере, на элементы концептуального мира, а на самом деле — на единственно существующий мир.
Во-вторых, если мы допускаем, что мыслим посредством слов, то непонятно, почему мы должны возражать на утверждение о том, что мы способны мыслить и посредством несловесных образов? Чем другие образы хуже образов звуковых? Если же с помощью несловесных образов мы мыслить неспособны, то следует признать, что неспособны мы мыслить и с помощью слов.
Когда Рорги говорит, что наши восприятия реальности, возникающие при этом ментальные репрезентации и тому подобные вещи — что все это только причинные условия познания, но не его основания, он не принимает во внимание тот факт, что слова, вербальные репрезентации, в рассматриваемом нами отношении ничем принципиально не отличаются от репрезентаций, скажем, визуальных. И та же самая интеллектуальная способность, которая оперирует словами, оперирует и визуальными ментальными репрезентациями1.
1 Конечно, можно настаивать на том, что слова имеют знаковую природу, в отличие, например, от визуальных репрезентаций, возникающих при простом восприяши реальное&trade-. Но, кажется, какого-то принципиального значения для нашего рассуждения это не имеет. Во-первых, и визуальные репрезентации могут исполнял" простейшие знаковые функции. И система таких визуальных образов может быть системой знаков, на которых реализуется мышление. А с другой стороны, даже если визуальные репрезентации и не имеют знаковой природы, с их помощью все равно может осуществляться примитивное мышление. (Вспомним об образном мышлении, мышлении ребенка, мышлении животного.) Нет оснований отрицать, что такое образное мышление является составной частью комплексного человеческого мышления. Не говоря уже о том что существует знание нелингвистическое (что неплохо показывает, например, Полани), даже лингвистическое знание — это не только знание слов (как это получается из концепции Рор-та), но знание также и того, как действовать в соответствии с этими словами. И сомнительно, чтобы такое было возможно без уча.
В-третьих, изучая работы Патнема, создается впечатление, что этот автор полагает, будто репрезентации существуют в сознании человека независимо от способности действовать тем или иным образом. Патнем (вслед за Витгенштейном) полагает, что репрезентации, в целом, не важны для «способности" — что «способность» может напрямую проявляться в действиичто, несмотря на то что может реализовываться какая-то одна определенная «способность», репрезентации, сопровождающие такую реализацию, могут быть совершенно случайными и неподходящими. Независимо от того, какие репрезентации могут присутствовать в сознании человека, мы не можем быть уверены, обладает ли данный человек способностью к совершению определенных действий. Как мы стремились показать, это неверно. Репрезентации прочно слиты со способностями к совершению определенных действий, соответствующих им, так что обладание определенной системой репрезентаций уже с высокой степенью вероятности свидетельствует об обладании соответствующим пониманием и знанием. Кроме того, и сами подобные «способности» также должны носить ментальный характер. Так что ментальные репрезентации представляют собой отражение воспринимаемого нами мира и являются проявлениями нашей способности действовать в нем. Оперируя этими репрезентациями, мы осуществляем процесс мышления и соответствующим образом действуем согласно по-мысленному нами. стия невербальных репрезетаций, потому что даже использование слов в ходе той или иной деятельности по необходимости должно регулироваться какой-то способностью, которая по определению должна быть нелингвистической.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
В данной работе мы попытались опровергнул, мнение, согласно которому мышление и познание человека носят исключительно языковой и поэтому однозначно социальный характер. Неверно отрицать существование нелингвистической подосновы языкового мышления, которая должна рассматриваться не просто в качестве «причинного условия познания» или «различающего поведения», но в качестве такой сущности, которую в определенном смысле вполне можно назвать нелингвистическим мышлением, нелингвистическим осознаванием, представляющим собой базис возникающего на его основе языкового мышления и осознавания. Мы старались показать неприемлемость «лингвистического» подхода, при котором отрицается необходимость учитывания нелин-гвисгических факторов при анализе познания. Нелингвистическая ментальность имеет эпистемические следствия и оказывает влияние на языковое мышление.
Посредством критического анализа теорий ряда аналитических философов мы показали, что ошибочно полностью отождествлять мышление и сознание с языком, видеть в языке ту сущность, которая полностью и однозначно детерминирует познание человека. Ошибочно полагать, будто мышление не может вырваться за пределы языка. Неверными следует признать утверждения, будто осознается только то, что получает свое выражение в языке, и, соответственно, будто знанием является только последовательность языковых высказываний. Мы показали, что, наряду с лингвистическими, существуют и нелингвистические когнитивные способности. Более того, такие нелингвисгиче-ские способности первичны по отношению к языковому мышлению. По существу, именно нелингвистический компонент играет в функционировании языкового мышления ведущую и определяющую роль по отношению к компоненту лингвистическому, что и дает возможность создавать и изменять язык (Хотя верно и то, что язык накладывает на такие нелингвистические способности неизгладимый отпечаток и что именно язык делает мышление человека человеческим мышлением, дает ему возможность развиться и реализоваться.).
Когда названные выше авторы утверждают, что человеческое мышление и осознавание могут быть только языковыми, они явно или неявно принимают ту предпосылку, что мы всякий раз, когда воспринимаем нечто сознательно, уже успеваем каким-то образом описать это в языке, успеваем пропустить через призму языковых образцов. (Эта установка отчетливо прослеживается уже у основателя подобных теорий, Витгенштейна) Од нако эти авторы забывают, что, хотя, в целом, нелингвистическое мышление у человека не является каким-то самостоятельным видом мышления и в чистом виде бывает только у животных и грудных детей, иногда все же осознавание может быть совершено нелингвистическим, что мы и стремились показать, используя психологические примеры Полани, Куна и самого Витгенштейна Опираясь на эти примеры, мы показывали, что в отдельные моменты своей жизни человек способен «отодвигать» в сторону язык и действовать, опираясь только на нелингвистическое мышление. Это явление когнитивной деятельности посредством только нелингвистического мышления можно зафиксировать, что достигается как с помощью интроспекции, так и с помощью наблюдения таких ин-терсубьекгивных, отмечаемых бихевиористскими методами ситуаций, которые ясно показывают, что мы имеем дело именно с нелингвистическим мышлением. Более того, можно показать, что при любом проявлении лингвистического мышления одновременно и параллельно с ним задействуется и нелингвистическое мышление. Нелингвистическое мышление является не просто базисом лингвистического, поглощенным и «снятым» этим последним, — оно существует как самостоятельная составляющая человеческого мышления в целом, наряду с мышлением лингвистическим. Кроме того, названные авторы не учитывают того обстоятельства, что, даже если мы осознаем нечто изначально лингвистическим образом (что чаще всего и происходит), наш язык, участвующий в таком осознавании, не оказывает однозначно и всецело детерминирующего воздействия на осознаваемое. Наоборот, мы способны манипулировать языком, подгонять его под свое нелингвистическое восприятие, нелингвистическое осознавание ситуации, изменять его в соответствии с возникающими потребностями. Способность манипулировать словами показывает, что за словами, за языком стоит нечто, что, собственно говоря, и является осознаванием, и что не сам по себе язык конституирует феномен осознавания. Это и свидетельствует об относительной вторичности языка по отношению к некой более фундаментальной, первичной в когнитивном отношении способности, лежащей в его основе и позволяющей им пользоваться. Тот факт, что язык способствует развитию сознания, не означает, что он подменяет собой сознание или что он и есть сознание.
Такая нелингвистическая подоснова языкового мышления, используя терминологию Рорти, является не только «причинным условием познания», но и его «основанием». Это подтверждается тем, что она представляет собой не просто нейтральный носитель некой языковой программы, как утверждает ряд аналитических философов, но на самом деле влияет на язык, назначения его слов и предложений. Соответственно, знание не есть лишь «сцепление одних лингвистических единиц с другими». Помимо лингвистической составляющей, в знании наличествует и нелингвистический компонент.
Даже если мы занимаем однозначно антименталистскую позицию, то существование той сущности, которую мы назвали нелингвистическим мышлением (нелингвистической подосновой языкового мышления), можно продемонстрировать, опираясь исключительно на бихевиористские критерии. Собственно говоря, большая часть наших доводов в пользу существования нелингвистической составляющей в мышлении всегда и опиралась на такие интерсубъективные бихевиористские свидетельства. В общих чертах, эти свидетельства состоят в том, что человек способен совершать разумные действия, не используя языкового мышления, или, по крайней мере, в его деятельности, связанной с употреблением языка, можно зафиксировать проявления неязыкового рационального поведения. Так что можно говорить если уж не о нелингвистической менталь-ности, управляющей языком, то, во всяком случае, о неких нелингвистических способностях индивида, регулирующих использование языка, которые при определенных условиях возможно зафиксировать бихевиористскими методами.
Используя язык диалектики, можно констатировать, что в рассуждениях упоминаемых нами авторов нарушается диалектика лингвистического и нелингвистического в процессе мышления и осознавания. Даже если осознаваемое нами содержание тотчас же приобретает языковую оформленность и даже если оно изначально возникает в качестве языкового феномена, сама способность к мышлению и осознаванию остается относительно неязыковой. Или можно сказать, что в утверждениях названных аналитических философов не учитывается диалектика формы и материи языкового мышления и осознавания. Даже если мы признаем, что мышление и осознавание всегда лингвистичны, то, в любом случае, языковое выражение осознавания — это его форма, а материей осознавания является некая ментальная нелингвистическая сущность, обладающая способностью использовать вербальные образцы, — то, что мы назвали нелингвистической подосновой лингвистического мышления. И хотя следует признать, что материя не существует без формы: нельзя в чистом виде представить себе нелингвистическое мышление, так как если отделить его от языка, оно просто перестанет бьпъ человеческим, разумным, мышлением и превратится в примитивное мышление животного, тем не менее, не следует абсолютизировать форму, обращая внимание только на нее одну и забывая о выполняющей ее материи.
Данное утверждение верно даже в том случае, если мы разделяем бихевиористские и функционалисгские представления о мышлении и сознании, поскольку и в этом случае материей мышления и сознания следует признать скорее способность употреблять языковые выражения в той или иной ситуации, чем сами эти выражения или их последовательность. (Или, если мы придерживаемся витгенштейновского варианта, при котором мышление — это некое пустое понятие, которое мы применяем в отношении рациональной деятельности определенного вида, не носящей ментального характера, материей мышления следует назвать способность совершать рациональные действия, а не сами эти действия.) Такая способность, являясь изначально нелингвистической, будет характеризоваться свободой, относительной произвольностью в употреблении языковых выражений и способностью к созданию новых языковых форм, что и будет свидетельствовать о ее первичности по отношению к языку. Следовательно, в существе своем мышление и осознавание все равно имеют нечто относительно независимое от язьжа.
Тог факт, что язык все же определяется относительно независимыми от него неязыковыми факторами (как бы мы их ни понимали — в бихевиористском или менталисг-ском плане), говорит о том, что сама внешняя языковая форма высказывания относительно неважна Неправильно утверждать, что мы полностью находимся в узах языка и совсем не способны из них вырваться. До определенной степени язык все же является выражением некоего относительно независимого от него и в этом смысле неязыкового понимания (которое, конечно, неразрывно связано с языком, вплетено в него, является его подосновой). Поэтому внешняя языковая форма выражения теряет для нас свою абсолютную значимость. Стремясь понять другого человека, мы должны понять, что он имеет в виду под своими словами, а не только сами слова. В конце концов, из всего сказанного вытекает, что под одними и теми же словами разные люди могут иметь в виду разное, и нам как раз важно понять, кто и что имеет в виду.
Доказательство существования неязыковой подосновы мышления позволяет признать, что мы можем быть относительно независимыми от языка. Это означает, что мы до определенной степени можем осмысливать мир независимо от имеющихся в нашем распоряжении языковых форм. Это означает, что факты мира могут быть даны нам относительно непосредственно, помимо их отражения в языке. Это означает также, что не только язык будет влиять на наше восприятие объективных неязыковых фактов, но что сами факты будут воздействовать на наш язык и заставлять нас изменять его. * *.
Как мы видели, Рорти представляет дело так, будто существуют какие-то самодостаточные, самостоятельные, имманентные языку «резоны», по которым связываются его слова и высказывания. Возникающие на этом основании языковые конструкции совершенно независимы от восприятия реальности, поскольку и сами языковые «резоны» независимы от нее, определяясь только социальными факторами. Но чем реально могли бы быть такие «резоны»? Прежде всего, сам Рорти часто говорит, что слова — это просто звуки, издаваемые животным, которым по природе своей и является человек. В этом случае его концепция должна была бы иметь сходство с концепцией Витгенштейна. Тогда «резоны» — это всего лишь случайно возникшая и носящая произвольный характер сочетаемость слов, их способность соединяться друг с другом тем или иным образом, не содержащая в себе ничего рационального, разумного, осмысленного — «голый синтаксис». Так до определенной степени и представляет дело Витгенштейн. Говорить в этом случае, что слова сочетаются по каким-то «резонам» не слишком уместно. Они сочетаются просто в силу произвольно выработавшейся, но прагматистски оправдываемой привычки сочетать их таким, а не иным образом. Это уже не сознательные, осмысленные, рациональные «резоны», а нечто неосмысленное, не относящееся к области разума, несемантическое. И сам Рорти, видимо под влиянием Деннета, склонен рассматривать человека в качестве «синтаксической машины» или, по крайней мере, употреблять подобную терминологию.
Однако при чтении сочинений Рорги становится очевидно, что этот автор подсознательно воспринимает свои «резоны» все же как нечто вполне осмысленное. На деле ему вовсе не присущи те эпистемологические установки, нередко характеризуемые как бихевиоризм, которые движут Витгенштейном и о приверженности которым Рорти столь часто заявляет. Его «резоны» вполне ментальны. Они, по сути, и представляют собой ментальные значения слов, с которыми борется Витгенштейн. Человек отдает себе в них отчет. Он вполне сознательно соединяет на их основании слова. Рорти лишь неоправданно противопоставляет так понимаемые «резоны» другим сферам психической деятельности, вследствие чего выходит, что человеку присущи словно две независимые друг от друга психические функции: одна — это область таких вот языковых «резонов», а другая — не имеющая к ней отношения сфера нелингвистических восприятий, ощущений, репрезентаций, нелингвистической подосновы мышления и других нелингвисгиче-ских психических процессов — всего того, что относится к «различающему поведению». Рациональные основания знания, «резоны», создают, по Рорти, языковые высказывания, утверждения о реальности и, в конечном итоге, знание, а потом это знание оправдывается прагматистски путем взаимодействия с реальностью. Вследствие такого понимания сущности языка Рорти и кажутся ненужными любые разговоры о референции.
И все же значения слов языка не зависят только от каких-то имманентных внутриязыковых факторов, заключающихся в самой вербальной системе, как утверждает Рорти. Слова не имеют значений сами по себе, вне связи с невербальной составляющей языка. Нет никаких «резонов», о которых говорит Рорти, согласно которым соединяются между собой высказывания и которые не зависели бы от внелингвистических факторов. Значимость, действенность этим внутриязыковым «резонам», а следовательно смысл словам и предложениям, придается как раз невербальными компонентами языка.
Конечно, у представления о языковых «резонах», вводимого Рорти, есть определенные основания. В «резонах» можно увидеть отражение той внешней языковой формы, выработавшейся под влиянием социальных факторов, которая заставляет описывать данный кусок реальности таким, а не иным образом. Но, в целом, следует отказаться от мистификации подобных «резонов», совершить рефлексивную редукцию таких сущностей, подобную той, что совершает Витгенштейн, чтобы увидеть, что все эти «резоны» не обладают самостоятельной сущностью, что все они сводятся к каким-то более фундаментальным основаниям. И такими основаниями во многом являются именно те самые «причинные условия познания», о которых говорит Рорти. Но при этом, конечно, важно не забывать и о внешних, поверхностных языковых аспектах знания: структуре языка, социально заданных способах его употребления, сложившихся в культуре способах описания той или иной ситуации, способах сочетания высказываний при формулировании аргументации и т. п. Однако не следует изображать их в виде самодостаточных, имею-гцих самостоятельный смысл «резонов», как это выходит у Рорти. С ними следует поступить так, как это делает Витгенштейн, который представляет их, скорее, в виде каких-то достаточно условных социальных практик В противоположность Витгенштейну, не нужно только полностью редуцировать все ментальное — нужно увидеть, что ментальное является материей той сущности, формой для которой является социально определяемая лингвистическая практика. Тогда будет видно, что социальные «резоны» и «причинные условия познания» представляют собой некую неделимую целостность и что их не следует противопоставлять друг другу.
Рорти прав в том, что в нашем описании реальности есть элемент полной произвольности, независимый от ее нелингвистического восприятия. Но он не прав в том, что не замечает, что даже и этот, совершенно произвольный, элемент все же контролируется способностью, связанной с восприятием нелингвистической реальности, и трансформируется ею так, чтобы добиться лучшего согласования с реальностью, и происходит это не только на прашатистских основаниях. * *.
Намечая пути дальнейшего развития данного исследования, можно высказать следующие предварительные идеи. Познавательную деятельность человека можно попытаться представить в виде поочередно сменяющих друг друга фаз: 1) деятельности по заранее заданным образцам и 2) новых форм деятельности, которые основываются на новом «видении», представляющем собой новую перцептивно-ноэтическую картину определенного куска реальности. В развитие этой мысли можно предложить использовать куновскую схему «нормальная наука / научная революция», описывающую развитие знания в сфере науки1, расширив ее до общегносеологического принципа развития познания: «бихевиористский этап, или этап деятельности по образцам / акт индивидуальной познавательной активности мышления». Тогда «нормальная наука» Куна будет аналогична тому этапу развития познания, когда человек, «механически» воспроизводя предыдущие образцы, совершает «экстенсивное» приращение знания. А этап «научной революции» будет соответствовать той фазе познания, когда благодаря коренному перелому в индивидуальном мышлении познающего субъекта на свет появляются новые формы и образцы знания.
Основываясь на вышесказанном, можно попытаться переосмыслить и расширить такое понятие, введенное X. Патнемом, как некритериальная, или непарадигмальная, рациональность2. Под некритериальной рациональностью в этом случае мы будем пони мать совокупность невербализованных и невербализуемых принципов функционирова • ния мышления, существо которых определяется тем, что мы назвали нелингвистическим базисом лингвистического мышления. Природа этой рациональности должна бьпъ универсальной и не может носить социального характера Критериальная рациональностьэто, соответственно, рациональность, основывающаяся на выработанных в ходе коллективной практики социально обусловленных образцах, или парадигмах. В ходе развития познания одна парадигма может сменяться другой. Именно в отношении этого типа рациональности можно говорить о релятивизме знания. Устранить негативные последствия релятивизма можно, только исследуя рациональность первого, непарадигмального, типа Следует показать, каким образом любая парадишальная рациональность основывается на рациональности непарадигмальной и как в основе парадигмальной рациональности любого типа сохраняются некоторые общие фундаментальные принципы мышления. Благодаря этому мы избежим релятивизма и иррационализма в теории познания.
1 Кун напрямую увязывает этап нормальной науки с действиями бихевиористских механизмов в духе Витгенштейна (см.: Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1975. — С. 66−74). А далее Кун говорит, что на каком-то этапе такого механизма становится недостаточно, и на сиену выходят механизмы «метальные» (ср.: Там же. С. 72). И в этом Кун, по-видимому, также опирается на идеи Витгенштейна, хотя у самого Витгенштейна нет противопоставления двух механизмов познания: у него все выдержано в духе логического бихевиоризма Кун же видит в изменениях «видения» проявление психических процессов менталистско-готипа.
2 См. натр.: Патнем X Разум, истина и история. — С. 147,152.
Список литературы
- Абрамова Н. Т. Невербальные мыслительные акты в «зеркале» рационального сознания // Вопросы философии, 1997, № 7.
- Абрамова Н. Т. Являются ли несловесные акты мышлением? // Вопросы философии, 2001, № 6. С. 68−82.
- Аналитическая философия: Избранные тексты. М.: Изд-во МГУ, 1993.
- Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М: «Дом интеллектуальной книги», «Прогресс-Традиция», 1998.
- Бернстайн Р. Дж. Возрождение прагматизма // Вопросы философии, 2000, № 5. С. 107−120.
- Боррадори Дж. Американский философ: Беседы с Куайном, Дэвидсоном, Пашэмом, Нозиком, Дан-то, Рорти, Кейвлом, МакИнтайром, Куном. М: Дом интеллектуальной книги, Гнозис, 1998.
- Блур Д. Витгенштейн как консервативный мыслитель // Логос. Журнал по философии и прагматике культуры, 2002, № 5−6 (35). М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры». — С. 47−64.
- Витгенштейн JI. Философские работы. Часть I. -М.: Гнозис, 1994.
- Витгенштейн JL Голубая книга. М: Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Витгенштейн JL Заметки к лекциям об «индивидуальном переживании» и «чувственных данных» // Язык, истина, существование. -Томск: Издательство Томского ун-та, 2002. С. 63−107.
- Витгенштейн JL Коричневая книга. М: Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Витгенштейн JL Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии. М: Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Вольф Ж.-К. Прагматизм с методом или без такового? Рорти versus Дьюи // «Логос», 1996, N 8. С. 192−193.
- Вригг Г. X. фон. Витгенштейн и двадцатый век // Вопросы философии, 2001, № 7. С. 33−46.
- Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. 2. М, 1982.
- Грязнов АФ. Как возможна правилосообразная деятельность? // Философские идеи Людвига Витгенштейна -М: ИФРАН, 1996. -С. 25−36.
- Грязнов, А Ф. «Скептический парадокс» и пут его преодоления // Вопросы философии, 1989, № 12. -С. 140−150.
- Грязнов А.Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М., 1985.
- Гудмен Н. Способы создания миров. М.: Идея-Пресс- Праксис, 2001.
- Деннет Д. Онтологическая проблема сознания //Аналитическая философия: Становление и развитие (антология).-М.: «Дом интеллектуальной книги», «Прогресс-Традиция», 1998.-С. 360−375.
- Деннет Д Постмодернизм и истина. Почему нам важно понимать это правильно // Вопросы философии, 2001, № 8. С. 93−100.
- Деннет Д. С. Почему каждый из нас является новеллистом // Вопросы философии, 2003, № 2. С. 121−130.
- Дубровский Д. И. Новое открытие сознания? (По поводу книги Джона Серла «Открывая сознание заною») // Вопросы философии, 2003, № 7. С. 92−112.
- Дубровский Д. И. О книге Дж. Марголиса и его концепции «эмерджентистского материализма» (Вступительная статья) // Маргшис Дж. Личность и сознание. М.: Прогресс, 1986. — С. 5−30.
- Дубровский Д И. Существует ли внесловеспая мысль // Вопросы философии, 1977, № 7.26.