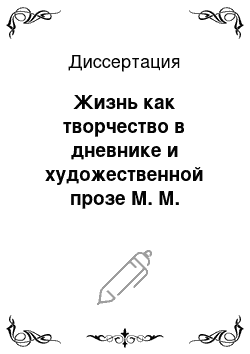Несмотря на то, что изучение творческого наследия М. М. Пришвина имеет свою длительную и достаточно сложную и противоречивую историю. долгое время (по крайней мере до конца восьмидесятых — начала девяностых годов XX века) в читательском сознании существовала некая легенда о Пришвине как о тайновидце, волхве и знатоке природы, отстраненном от проблем человека и общества. Суть подобного отношения к писателю образнее всего выразил его младший современник К. Г. Паустовский: «Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю писателя Михаила Михайловича Пришвина» (208, 5).*.
В этих словах и таком понимании Пришвина — не вся правда. но лишь часть ее, и не случайно сам Пришвин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. «Меня тоже всегда стыдил пейзаж в романах» , — сообщал он Горькому в письме от 1926 года (121, 337). А место свое в литературе определил так: «Розанов — послесловие русской' литературы, я — бесплатное приложение. И все.» (19, 196).
В силу ряда причин (прежде всего идеологических, но не только) очень важные темы в исследованиях, посвященных творчеству Пришвина, прозвучали слабо или неверно. Многое из того, что было им написано, осталось в Дневнике**, и по сей день известном далеко не в полном Ьсе ссылки даны в конце работы. При цитировании первая цифра в круглых скобках — номер позиции в библиографии, вторая — страница. Если следует цитата из собрания сочинений, том указан римской цифрой. Именно такого обозначения (с прописной буквы, в единственном числе) мы будем придерживаться вслед за Н. П. Дворцовой, которая писала: «Сам Пришвин по разному называл свое главное произведение: дневник, дневники, «мои тетрадки» и т. д. Это, в частности, отразилось в практике его опубликования. В этой работе в соответствии с Пришвинеким представлением об имени принято обозначение главной объеме. В равной степени это касается и целого ряда, обстоятельств его жизни. непосредственно связанных с творчеством. Опубликованные на рубеже восьмидесятых-девяностых годов выдержки из Дневника Пришвина советского периода и публикация первых томов Полного собрания его Дневника (к настоящему времени вышли четыре тома, охватывающие fi период с 1914 по 1925 годы,* и подготовлен к изданию пятый) совершенно по-новому высветили личность писателя. Наиболее радикальное суждение, принадлежащее A.M.Эткинду, вообще объявляет все написанное о Пришвине в советское время (за исключением книг его второй жены В.Д.Пришвиной) утратившим силу: «Поток материалов из архива Пришвина обесценивает довольно объемную литературу о нем советского периода» (275, 174).
Это решение о несостоятельности советского пришвиноведения в целом не вполне справедливо. В написанных о Пришвине статьях и книгах советского времени содержится много ценного, и прежде всего это относится к работам Н. И. Замошкина, Н. П. Смирнова, Т. Ю. Хмельницкой, Г. П.ТреФиловой. П. С. Выходцева. В. В. Кожинова. В. В. Агеносова, В. Я. Курбатова и других литературоведов. Более того, несмотря на очевидное негативное отношение к Пришвину. рациональное зерно присутствует и в статьях критиков, близких к РАППу, А. В. Ефремина, М. С. Григорьева, М. ГельФанда (конкретнее речь об этом пойдет в первой главе работы), а также в статье Андрея Платонова «Неодетая весна». в высказываниях о творчестве Пришвина И-С.Соколова-Микитова. Ю. П. Казакова, А. Т. Твардовского.
Однако то. что в свете появившихся новых Фактов и материалов жизнь и творчество писателя требуют нового осмысления и нового подкниги писателя как Дневника, что подчеркивает включенность ее в культуру со своим именем-заглавием" (131, 164). Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. 1914;1917 гг. М.: Моск. рабочий, 1991: Т. 2. 1918;1919 гг. М.: Моск. рабочий. 1994; Т. 3. 1920;1922 гг. М.: Моск. рабочий, 1995. Т. 4. 1923;1925 гг. М.: Русская книга, 1999. хода, несомненноНа сегодняшний день Пришвин без преувеличения является самым непрочитанным и. как следствие. неизученным из числа крупных русских писателей минувшего векаДругого автора, чье литературное наследие не опубликовано и наполовину (имеется в виду Дневник Пришвина), у нас просто нет. и во многом этим определяется актуальность настоящего исследования.
Основная цель данной работы — показать, насколько это возможно, неизвестное лицо Пришвина, затронуть ранее замалчивавшиеся, вынужденно обойденные вниманием страницы его биографии и творчества. с тем, чтобы попытаться представить во всей сложности и противоречивости личность писателя. чей облик в истории русской советской литературы, с одной стороны, был в полной мере не оценен, а с другой, часто необоснованно лакировался.
11ри написании работы были выбраны три крупные, связанные между собою узловые темы. Условно их можно обозначить как литература, эрос и общество. Они не исчерпывают всего многообразия спектра пришвинского творчества, но выбор именно этого круга вопросов определяется тем, что, по-нашему мнению, они находятся в сердцевине писательского мировоззрения, в той его интимной области, которая была пропущена автором через душу, им лично пережита, но в отличие от более известных и изученных сюжетов, связанных с природой, этнографией или более популярных в последнее время философией жизни и русским космизмом, долгое время оставалась сокрыта и сознательно защищена от взгляда извне, и, в том числе взгляда исследовательского. в расчете на будущее. свободное от цензуры и идеологической предвзятости прочтение.
Пришвин принадлежал к писателям. биография которых не просто связана с творчеством, но стала его частью, включена и даже подчинена литературе. Вот почему слова «жизнь» и «творчество» в их диалектической связи, часто объединяемые самим Пришвиным в Дневнике в «творчество жизни» или «жизнетворчество». были использованы в названии работы и стали предметом данного исследования. Серьезный разговор о произведениях писателя и о его Дневнике. который он считал главным делом своей жизни. — это разговор о личности. характере, поступках. взглядах, литературном и семейном окружении Пришвина, его личных и творческих отношениях с писателями-со временниками.
Включая события реальной жизни и реальные лииа в свое автобиографическое и творческое пространство, писатель. с одной стороны, следовал традициям «серебряного века» и прежде всего традициям русского символизма. где подобный modus vivendi был своего рода нормой*, а, с другой, явил собой тип совершенно нового художника, особенно в советских условиях. По сути дела вся его жизнь оказалась уникальным экспериментом, который он изо дня в день ставил над самим собой, находясь во враждебном окружении едва ли не с первых шагов в литературе и тщательно Фиксировал результаты этого эксперимента в Дневнике. Именно в его судьбе последовательно и в наиболее чистом виде нашла отражение принципиально важная для начала века идея жизнетворчества как способа постижения и утверждения бытия.
Последнее стало едва ли общепризнанным постулатом в современном пришвиноведении (Н.П.Дворцова, Я. З. Гришина, С. Г. Семенова, Т.Я.Грин-Фельд, З. Я. Холодова и др.). Менее изучено иное. Идея жизнетворчества влекла за собой определенную мистификацию и мифологизацию творческого и жизненного пути писателя, к чему сознательно и бессознательно. вынужденно и свободно прибегал сам Пришвин и до и после революции. Это делает особенно интересной, привлекательной и загадочной его Фигуру, и одну из задач нашей работы мы видим в том. чтобы. См. у А. J1.Гришунина (который. кстати, ссылается в своей статье, в том числе и на Пришвина): «Поэты-символисты придавали этому особенное значение. исповедуя «жизнетворчество», строя свою жизнь в соответствии со своими теориями и характером творчества. Писателя не хотели отделять от человека. литературную биографию от личной, искали сплав жизни и творчества. Сам метод становился жиэ— нетворческим Г. 1 Символизм изменил и осложнил процесс восприятия литературы читателем, потребовал гораздо большей, чем прежде, определенности «образа автора» (125. 14). опираясь на объективные свидетельства, на анализ Дневника и художественной прозы. прежде всего автобиографической. а также писем, архивных документов, мемуаров о Пришвине, что и стало материалом данного исследования, — попытаться демифологизировать созданный писателем художественный мир и центральный образ автора — демиурга v#> этого мира, провести там, где возможно, границу между реальностью и вымыслом, мифом и Фактом. Цель подобной демифологизации состоит не в том, чтобы «разоблачить» или снизить образ Пришвина (который, надо признать, традиционно очень высоко оценивался и даже несколько идеализировался в советском литературоведении, и эта традиция сохраняется поныне), но в том, чтобы обнаружить, обнажить некоторые приемы его письма и раскрыть особенности его стиля.
Своеобразное соотношение существует между жизнетворчеством и документальной литературой, — писала Л. Я. Гинзбург. — Документальная литература, переводя жизнь на свой язык, в то же время как бы берет на себя обязательство сохранить природу жизненных Фактов. Если, таким образом, жизнетворчество строит жизнь по законам искусства, то здесь принцип обратный: документальная литература стремится пока— ilfc зать связи жизни, не опосредованные Фабульным вымыслом художника" .
113, 29).
Пришвин и в жизни, и в творчестве попытался соединить оба этих подхода, и анализ подобного соединения представляется в высшей степени интересным и перспективным пунктом исследования.
Другая задача — проследить интертекстуальные, творческие и личные связи Пришвина с крупнейшими писателями и литературными критиками двадцатого века: В. В. Розановым, Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, А. М. Ремизовым, А. А. Блоком. И. А. Буниным, Р.В.Ивановым-Разумником, А. Платоновым, М. Горьким, Б. А. Пильняком, Б. Л. Пастернаком и др. Особенно важной видится в этом ряду роль двух писателей — Розанова и Бунина, которые, как и Пришвин, практически в одно и то же время ^ имели отношение к елецкой мужской гимназии, и очевидное влияние первого, так же как и неявное, но глубинное и самим Пришвиным признаваемое родство со вторым («Вчитывался в Бунина и вдруг понял его. как самого близкого мне из всех русских писателейДля сравнения меня с Буниным надо взять его „Сон Обломова-внука“ и мое „Гусек“. „Сон“ тоньше. нежнее, но „Гусек“ звучнее и сильнее. Бунин культурнее. но Пришвин самостоятельнее и сильнееОба они русские, но Бунин от дворян. а Пришвин от купцов» (102. 64)) образуют важнейший и неслучайный мотив его судьбы, опять-таки сводя жизнь и литературу в одно целое.
Наконец еше одним очень важным и очень непростым является вопрос или, вернее, целый ряд вопросов, касающихся эволюции общественной позиции. исторических и политических взглядов, религиозного и философского мировоззрения писателя. Особенно актуальна эта тема для советского периода в судьбе Пришвина. который в значительной мере замалчивался в советские годы и вызывает споры теперь, порождая самые разные оценки его художественных произведений, а также того, что сам Пришвин называл «творческим поведением», подчеркивая прямую и безусловную связь между жизнью и произведением писателя. Насколько Пришвину, декларировавшему в своем Дневнике личную и творческую независимость, действительно удавалось ее сохранить, был ли с его стороны и если был, то каким, компромисс с властью, к чему пришел писатель в итоге своих исканий. что стало результатом его творчества жизни в советские годы — об этом в пришвиноведении говорилось. по-видимому. меньше всего.
Важнейшим материалом данного исследования стал Дневник Пришвина. который он вел с самых первых шагов в литературе и до последних дней жизни. Ведение дневника никогда не было исключительным или специфическим занятием для писателей, а тем более для литературной ситуации «начала века». По справедливому замечанию одного из исследователей этого периода Н. А. Богомолова. поставившего целью в своем докладе «Дневники в русской культуре начала XX века» на Тыняновских чтениях проследить, «как эволюционирует отношение к дневникам у людей, входивших в орбиту русского символизма и постсимволистских течений. пытаясь при этом наметить не только особенности бытования этих Форм Фиксации действительности, но и изменение отношения к ним у авторов, принадлежащих к различным типам писательского сознания», «первое, что видно невооруженным глазом. — само стремление вести дневники или же не обращаться к ним» (67. 203).
Безусловно, обращение к жанру дневника сближает Пришвина с писателями начала XX века. и все-таки пришвинский Дневник стоит в ряду знаменитых дневников той поры особняком. Взгляд писателя на исторические события, которые ему довелось увидеть и пережить, уникален, и пришвинский Дневник при всем его субъективизме, углубленном самоанализе. некоторой перегруженности бытовыми. Фенологическими или кинологическими. подробностями имеет не только литературную, но и значительную историческую ценность.
Именно сплав личного, интимного и общественного содержания и представленный в них исторический и автобиографический контекст, охватывающий почти пятьдесят лет, глубокое осмысление происходящего и безжалостность анализа и самоанализа, борьба объективного с субъективным, полемичность, внутренний драматизм и противоречивость превращают пришвинские «тетрадки» из частного документа в уникальную книгу русской жизни, жанр которой очень трудно поддается определению и которая не имеет в нашей литературе аналогов. Дневники В. Я. Брюсова, М. А. Кузмина, Г. И. Чулкова, А. А. Блока, З. Н. Гиппиус, Б. А. Садовского. Андрея Белого. А. М. Ремизова. К. И. Чуковского при всей их громадной ценности не знают такого масштаба и охвата. Для Пришвина в отличие от большинства его современников Дневник никогда не был второстепенным, только интимным, бытовым, сугубо личным или, напротив. литературным документом — это была книга с самым широким содержанием, рассчитанная на будущее прочтение. Последнее особенно важно, ибо дневники начала века тяготели либо к крайней закрытости, как у Брюсова, либо, напротив, предполагали публикацию при жизни автора, как у Гиппиус, или же прочтение в узком интимном кругу, как у Вяч. Иванова или М. Кузмина*. Ср. у Георгия Иванова в «Петербургских зимах»: «Однажды, в минуту откровенности. Сологуб признался (в разговоре) с Блоком:
Пришвин шел по незаемному пути. Его Дневник представлял собой некую параллельную его собственно художественным текстам литературу и находился с последней в постоянном диалоге. Особенно интересно в этой связи птхэанализировать, как соотносятся его дневниковые записи с автобиографической прозой. а те и другие — с реальными событиями и историческим контекстом.
Значение дневника явно выходит не только за рамки собственно дневника, но даже в какой-то степени становится явлением более значительным. чем литература: — свидетельством соответствия духовного пути человека некоему предначертанному идеалу Г.] Дневник становится средством ежедневного самопознания и самостановленияпротекающая жизнь не просто Фиксируется, а осознается как взаимодействие человека и всего, что его окружает, причем уловленное в самый момент этого взаимодействия, а не ретроспективно. Такова, по всей видимости доминанта дневника символистской эпохи Г. 1 Здесь дневники приобретают характер не только литературной школы (психологизм, становление стиля). но и школы жизненной. заставляющей писателя открывать все самые потайные сферы своей души, делать их достоянием пусть небольшого, но все же круга слушателей, с надеждой, видимо, перейти от отъединенное&tradeчеловека к его невиданному единству с другими и к постепенному созданию иной, прежде небывалой, общности" (67, 207−208), — писал Н. А. Богомолов, и хотя М. М. Пришвин по не.
— Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу" (150. 139).
Ср. также у Б. В. Томашевского: «В XX веке появился особый тип писателей с биографией — демонстративно выкрикивающих: смотрите, какой я нехороший и бесстыжий. Смотрите и не отворачивайтесь, потому что все вы такие же нехорошие, но только малодушны и скрываетесь. А я смел, раздеваюсь нагишом и хожу на публике не стесняясь» (252. 8). вполне понятным причинам нигде не упоминается в его работах, само это определение относится к нему как ни к какому другому писателю той поры.
Именно связь Дневника Пришвина с жизнью, с одной стороны, и художественными текстами, с другой, обусловливает его центральное положение в данной работе и требует искать определенного научного подхода, при котором история жизни отдельной личности сопрягалась бы с литературным и историческим контекстом своего времени и находила отражение в текстах писателя. Это имеет определенное отношение к идеям нового историзма, о которых говорится в работах А.М.Эткин-да: «Новый историзм — история не событий, но людей и текстов в их отношении друг к другу. Его методология включает три компонента: интертекстуальный анализ. который размыкает границы т е к с т а. связывая его с многообразием других текстов, его предшественников и преследователей: дискурсивный анализ, который размывает границы ж, а н р а, реконструируя прошлое как единый, многоструйный поток текстов: и наконец, биографический анализ, который размывает границы жизни, связывая ее дискурсами и текстами, среди которых она проходит и которые она продуцирует» (277, 7−8). И далее — «задача анализа не в том, чтобы слить реальность с фантазией: этим занимаются сами пациенты, авторы и тексты. Задача анализа в том, чтобы разграничить текст и реальность и на этой основе увязать их друг с другом. восстановить их контекст» (207. 15). Последнее представляется в случае с Пришвиным особенно актуальным и имеет прямое отношение к вопросу о демифологизации.
Эти идеи, впрочем, разрабатываются в современном литературоведении очень многими и не только зарубежными исследователями. на которых А. М. Эткинд в своей статье ссылается. Очевидно, что в обращении к ним проявилось осознание кризиса, исчерпанности господствовавших до недавнего времени идей, когда предметом научного рассмот— рения был оторванный от личности автора текст.
I W.
Период «бури и натиска» эпохи постмодерна уже позади, началась инерционная Фаза. и осознается главная потеря — отказ от историзма,.
— пишет А. Р. Казаркин. — Внятнее об этой неновой потребности. о возврате к историзму сказал А.Эткинд. и дело не в определениях, новый это или старый историзм, он на каждом этапе специфический. стадиальный. В конечном счете. историзм — это самоопределение эпохи в ценностно-религиозной перспективе, воля ее человека к самосознанию" (161, 62).
Уже упоминавшийся А. Л. Гришунин еще раньше писал: «История литературы рассматривает место произведения в литературном процессе. Необходимо поэтому не только соотнести между собой произведения данного автора, но и поставить их в контекст всего того, что мы знаем о нем. о его жизни, мировоззрении, прошлых работах, о других его сочинениях, круге чтения, общественных отношениях и идеях, которые оказали на него влияние Г. Л Таким образом. биография писателя — один из компонентов контекста, средоточие контекста, необходимого исследователю, да и всякому читателю для правильного понимания творчества Г-.3 И, наоборот, текст писателей, не только мемуарная. эпистолярная, автобиографическая, но и просто беллетристика.
— характерныони — важнейшие источники сведений о личности их создателей" (125. 15).
Жизнь Пришвина и его литературное наследие, их сложная взаимосвязь и взаимовлияние, зафиксированные с мельчайшими подробностями в Дневнике и художественной прозе, жизнь, осмысляемая и творимая как предмет искусства и искусство понимаемое как жизнь* - едва ли не самый удачный и благодатный для подобного исследования материал в русской литературе XX века.
Ср. у К. Г. Исупова: «Творчество „серебряного века“ было подлинно эстетичным: оно соединило художественный образ жизни с авторским самосознанием, что, в свою очередь, вызвало к жизни философскую практику, которую интересует не текст (как у Формалистов), а позиция автора. Проза Л. Толстого и М. Пришвина столь же органично вырастает из личных дневников самонаблюдения, как многие ранние веши А. Белого и А. Блока из их философической переписки» (160, 120). гталкиваясь от известной мысли Б. В. Томашевского о том. что бывают поэты без биографии и поэты с биографией. можно с высокой степенью уверенности сказать, что Пришвин принадлежал к числу вторых*, то есть тех. о ком сам Томашевский. желая ограничить «болезненное обострение интереса» к личности писателя. его быту и взаимоотноше— Л! ниями в литературной и окололитературной среде и ввести этот процесс в научные рамки, выразился в статье «Литература и биография» (1923) следующим образом: «Для писателя с биографией учет Фактов его жизни необходим. поскольку в его произведениях конструктивную роль играло сопоставление текстов с биографией автора и игра на потенциальной реальности его субъективных изменений и признанийНо эта нужная историку литературы биография — не послужной список и не следственное дело, о та творимая автором легенда его жизни, которая единственная является литературным Фактом» (252, 9).
Таким образом. за рамками исследования. с точки зрения Тома— шевского, должны остаться так называемые «документальные» биографии. которые входят в «область истории культуры, наравне с биографиями генералов и изобретателей, а для литературы и ее истории яв-^ ляются лишь внешним. хотя бы и необходимым. справочным, подсобным материалом» (252, 9).
Проблема, следовательно, заключается в отборе чрезвычайно насы— К поэтам без биографии Томашевский относил Шекспира. Мольера, Некрасова, Островского, Фета" Ф. Сологуба и утверждал, что сочинять для них биографию значит «писать пасквиль или донос». К поэтам с биографией — Вольтера, Руссо, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Парни. Розанова. Блока. Маяковского. Во многом это определялось, по мнению Томашевского, намерением и стратегией творчества самого писателя и частично было спровоцировано. особенно начиная с девятнадцатого века, читательским спросом: «Автор становится свидетелем и живым участником своих романов, живым героем. Происходит двойное превращение: герои принимаются эа живых лиц, поэты становятся живыми героями. их биографии превращаются в поэмы» (252. 7). щенного и богатого биографического материала, а в случае с. Пришвиным он особенно велик, ив этой связи мохно вспомнить другого известного ученого первой половины XX века и по—своему оппонента Б.В.Томатевекого* в вопросе об использовании писательских биографий в литературоведении Г. О. Винокура, который, размышляя о «критериях самого отбора биографического материала из общей наличности Фактов, доставляемых нам исторической действительностью в целом», утверждал в своей книге «Биография и культура» (1927) — явно полемичнойпо отношению к статье Томашевского, что подобный «критерий состоит в том, что исторический факт (событие и т. п.) для того, чтобы стать фактом биографическим, должен в той или иной форме быть п е р е Признавая раскол на биографический и формальный метод в литературоведении, Томашевский писал: «Многих биографов нельзя заставит ь осмыслить художественное произведение иначе чем, как фактбиографии писателя. Для других же — всякий биографический анализ произведения есть вненаучная контрабанда, забегание с заднего крыльца» (252, 6).
Мысли Томашевского по-своему перекликаются с концепцией Д. Е. Максимова, выдвинутой им в статье «Идея пути в сознанииАлександра Блока» и имеющей и отношение к Пришвину. Так, рассуждая о том, что путь может пониматься как позиция и как развитие, исследователь пишет: «Блок, большинство символистов или, скажем, такой писатель, как Михаил Пришвин, если подходить к ним в свете поставленной здесь проблемы, при всем разительном различии в содержаниисвоих путей, структурно смыкались с этой литературной линией (то есть путь как как развитие — А.В.), в частности с линией Л. Толстого» (186, 15−16). И далее автор напрямую сводит тему «пути» с темой автобиографизма в литературе: «Существенным фактором, который способствовал возникновению этой темы являлись ориентация на личность автора, атмосфера лиризма и в какой-то мере совпадающая с нею тенденция к автобиографизму, формировавшая произведения писателя (186, 17). хит данной личностью. П е р е ж и в, а н и е и есть та новая Форма. в которую отливается анализируемое нами отношение между историей и личностью: становясь предметом переживаний, исторический Факт получает биографический смысл — так может быть сформулирован этот новый шаг в глубь биографической структуры С. 1.
Мы вправе смотреть на сферу переживания как на сферу д у х о в— н о г о опыта в широком смысле слова. Здесь бьет ключом и творится та жизнь, постичь которую хочет биограф.
Это и в самом деле есть та сфера личной жизни. где мы получаем право говорить о личной жизни как творчестве. Личность здесь — словно художник, который лепит и чеканит в Форме переживаний свою жизнь из материала окружающей действительности" (89, 37−39).
Именно на этих, наиболее пережитых сторонах биографии Пришвина, которые одновременно стали «творимой легендой» его жизни, запечатленной в его художественных текстах, мы и остановим свой взгляд.
Говоря о предшествующей традиции подобных исследований, можно сослаться на книги В. Вересаева «Пушкин в жизни» (1926—1927) и «Гоголь в жизни» (1933), Б. Зайцева «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951). «Чехов» (1954). в которых личность писателя рассматривается через призму его творчества, а творчество — через призму личности.
Структура работы определяется ее задачами. Диссертация состоит из Введения, четырех глав. Заключения, списка использованной литературы и приложения. где указаны основные даты жизни и творчества Пришвина, уточненные по сравнению с публиковавшимися ранее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Любая культура развивается в диалоге, и Пришвин не исключение, а скорее подтверждение этого правила. Писатель, которого упрекали болезненном самолюбии, самолюбовании и эгоизме («Пришвин [.] на своем эгоизме, со своей эгоистической философией отдавал сердце лишь себе самому и „своим книгам“, питаясь, впрочем, „соками“ [.3 Был криклив, но вряд ли храбр. Как городской барин и интеллигент» , — писал И.С.Соколов-Микитов (243, 177)), при всей своей индивидуальности был насквозь диалогичен, и именно через диалоги и полемику может быть точнее оценен и глубже понят.
Его жизнь и литературное творчество представляют собой не столько заявленное им единое целое («пишу как живу»), сколько определенную драму, начавшуюся в раннем отрочестве и продолжавшуюся до конца дней. Это был драматический диалог и со временем, и с окружающими его литераторами и общественными деятелями, с женщинами, которых он любил, и с правителями, с будущими и настоящими читателями и, наконец, а вернее, в первую очередь, диалог с самим собой.
Подобная диалогичность отражала в целом двойственность сознания Пришвина и той картины мира, которая ему представлялась и была запечатлена в его творчестве с самых первых его шагов. Литературное и жизненное, физическое и духовное, земное и небесное, общественное и индивидуальное, великое и малое, необходимое и желанное — вот те смысловые оппозиции и грани, которые он пытался стереть как в жизни, так и в творчестве, ибо его высшим идеалом было Целое. Именно в этом волевом преображении действительности в Целое, в воплощении мечты состоял пафос писательского жиэнетворчества с его утопическим содержанием.
Пришвин был утопистом в том смысле, что верил в преображение и устройство будущей жизни на справедливых началах, но только после того, как изменится сам человек. Это была не слепая и послушная вера рядового адепта коммунистической идеи, но вера глубоко личная, индивидуальная, наполненная творческим содержанием и претерпевшая существенную эволюцию. Неудовлетворенный окружающей его жизнью,.
Пришвин hq всех отрезках своего пути стремился к ее изменению и изменению человеческой природы. В детстве зто был бунт против семейных традиций, гимназии и церковных служб, в молодости — преобразование революционное, затем религиозное, и отсюда проистекал его интерес к сектантству как наиболее радикальной попытке изменить человека, на новом жизненном витке это стремление перешло в иное измерение и оказалось связанным с художественным творчеством. в конечном итоге так же призванным что-то открыть, улучшить, усовершенствовать в несовершенной природе человека, и этому призванию Пришвин оставался верен до конца дней.
Литературой он занялся, разочаровавшись в марксизме, и с самого начала занял в литературном процессе начала века особое место, став и его участником и наблюдателем, репутация которого не соответствовала ни его истинному положению, ни амбициям. Во многом промежуточное положение Пришвина предопределило и полуочерковый характер его ранних вещей, с одной стороны, и страсть к самопознанию и рефлексии. с другой. Между его жизнью и творчеством образовался своего рода зазор, несоответствие, которое он и пытался восполнить в Дневнике. Образно говоря. сама судьба загоняла Пришвина его «я» и в Дневник, как художественное выражение этого «я». Очевидно, что первоначально замышлявшийся писателем как второстепенное вспомогательное сочинение Дневник с течением времени оказался наиболее адекватной для автора формой повествования, и жанр дневниковых записей сделался для него излюбленным. В какой-то мере эта приверженность к ведению дневника отразила обшую литературную тенденцию времени, но все же такого значения, как в творчестве Пришвина, дневник не играл ни у кого из русских писателей. То. что Пришвину не удавалось или было невозможно осуществить в художественной прозе, как, например, роман о декадентах «Начало века», воплощалось в его подробных дневниковых записях. Дневник стал летописью не просто исторических или частных событий, участником или свидетелем которых был Пришвин, но летописью души, эти события глубоко переживающей, и тем самым наиболее полно раскрывал творческие возможности своего создателя.
Здесь он чувствовал себя свободным, в Дневнике был неподвластен досаждавшей ему литературной критике и литературному влиянию современников. которое острю на себе чувствовал и от которого стремился освободиться.
Наиболее сильным из влиявших на него писателей «начала века» был Розанов, который очень рано вошел в его судьбу и нанес poiry на всю жизнь. И в литературе и в своем творчестве жизни Пришвин шел буквально по рюзановским стопам, одновременно и сближаясь и противопоставляя себя Розанову. Богоискательство. пол. декадентство — вот круг его дореволюционных интересов и тем. А еще — земля, быт, переселенцы. степняки. мужики. Но в целом именно народ во всей сложности этого явления стал главным героем его художественных произведений. подобно тому как его писательское и человеческое «я» сделалось героем Дневника.
О годами значение Дневника возрастало. Пришвинские «тетрадки» стали творческой нишей, лабораторией, укр>ытием для самолюбивого и амбициозного автор>а. и именно Дневник оказался наиболее приемлемой Формой литературного самовыражения в советские времена, когда революция перевернула жизнь Пришвина и поставила перед ним прюблему выбора и самосохранения при очень сильном чувстве исторической ответственности .
Пришвин наблюдал за революцией с разных сторон — в столице и в черноземной деревеньке, и поначалу ее не принял, что отразилось и в его публицистике 1917;1918 гг. а затем в художественной прюзе («Мирская чаша») и, конечно же, в Дневнике и сблизило его с Буниным (при том. что в отличие от диалога с Розановым этот диалог носил характер безотчетный). Впоследствии писатель увидел в ней явление великое и неслучайное. Историю советской России он рассматривал как борьбу мужиков и большевиков и не становился ни на чью сторону. Он отвергал жестокость одних и был в ужасе от анархизма и уклонения от своих обязанностей других. Обе силы казались ему врагами драгоценного творческого начала в человеке, он считал своим призванием спасти «сказку во времена разгрома» и спасал ее в «Родниках Верендея», «Кащеевой цепи». «Жень-Шене», «Фацелии». «Повести нашего времени» и «Кладовой солнца» — произведениях, которые при всей их разноплановости — несли в себе главное — мощную творческую созидательную идею, противопоставленную революционной энергии отрицании и энтропии. Источником этой энергии он считал и жизнь отдельного человека, и всего народа, и жизнь природы, в его отношении к бытию всегда присутствовал некий позитивистский момент: он пытался увидеть во всем творческое начало и призывал к тому же своих читателей даже тогда, когда это выглядело непонятно чем — безумием, утопией или особым писательским мужеством, как в очерках «Отцы и дети» и «Соловки», а впоследствии в романе «Осударева дорога» .
Пришвин был более человеком движения, чем приверженцем каких бы то ни было принципов или философских систем. К людям убежденным, твердо стоящим на своем, будь то коммунистические идеи, догматы церкви или либеральные принципы, ко всему, что застыло и не движется, он относился недоверчиво и, когда подобного рода «убеждения» обнаруживал в себе, то пугался и уходил от них. Законченное, определившееся, неподвижное казалось ему мертвым, и те ценности, к которым были привязаны и за которые были готовы отдать жизнь многие из окружавших его людей, представлялись ему меньшей ценностью, чем сама жизнь.*.
Как человек, как личность и в жизни, и в своих произведениях он оказался гораздо глубже и сложнее высказываемых им в разные периоды жизни идей, и в этом сказалось влияние той культуры, с которой Пришвин был связан. Ср. у Ф. Апановича: «Это и есть, пожалуй, неизменная черта творческой мысли Пришвина: она никогда не останавливается на высказанном и непрерывно движется вперед в поисках новых и новых ответов на вопросы о бесконечном многообразии мира и скрывающемся где—то внутри этого многообразия едином принципе, в который верила почти вся русская философская мысль» (35, 171).
История людей «серебряного века» важнее истории идей. — пишет К. Исупов: — само присутствие первых в эмпирической повседневности убедительнее всех текстов, вместе вэятнх. доказывало возможность развоплошения «эйдосов» и «мифов» в онтический план. С. 1 В центре оказалась личность, аксиология и психология интровертного характера" (160, 80), и эти слова имеют не менее прямое отношение к Пришвину. чем к любому из его великих современников и собеседниковРозанову, Белому, Блоку, Бунину, Мережковскому, Гиппиус, Ремизову.
Однако в случае с Пришвиным все усложнилось еще и тем, что его развоплощение пришлось на эпоху, которая плохо совмещалась с личным началом и требовала постоянного противостояния и самозашиты. Сама долгая и несмотря ни на что благополучная и в целом состоявшаяся судьба человека «серебряного века» Михаила Пришвина, которого советским властям так и не удалось загнать в подполье и сломить, вынудить уничтожить свой крамольный Дневник и который сделал все, чтобы сохранить его для потомства, достойна поражения и в известной мер>е восхищения, пусть даже эта судьба оказалась не менее противоречивой, чем его литературное наследие во всем объеме. Когда Пришвин проьивался окольными путями и тропками, создавал шедевры, когда пытался выйти на магистральную дорогу и брался за решение больных вопросов современности. впадал в умопомрачение.
Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит оттого, что посредством художества нельзя сказать «всего» (23, VIII, 184), — писал он о Гоголе и Толстом.
В свой черед и он тоже вышел. Но в отличие от классиков, на которых ссылался, ему выпало жить в куда более тягостное время. В его советском кружении не было конформизма или прельщения, скорее тут проявилось нечто эасмысленное. И в литературе, и в жизни Пришвин пытался идти не одним путем, а несколькими — и вся его подсоветская жизнь была определена драматургией борьбы этих дорог, каждая из которых взятая по отдельности виделась ему неполной и неистинной.
Он прожил свою жизнь не столько охотником за счастьем. сколько волшебным колобком. который катился от одной системы ценностей к другой. Был государственником и личником, рыцарем Невидимого града и Прекрасной Дамы, патриотом и великим русским утопистом, человеком противоречивым и удивительно раздробленным, хотя именно цельность считал своим идеалом. Недооцененный за редким исключением своими современниками. он верил и рассчитывал на понимание и любовь потомков, которые будут жить в ином, просветленном и преображенном мире, и не столь велика его личная вина. что история России пошла путем, не совпавшим с его предвидением.
Историк русской литературы, исследователь русского XX века, философ, социолог, любой человек, желающий понять русский путь во всей его глубине и противоречивости, будет обречен на внимательное прочтение и перечтение, цитирование, истолкование пришвинского Дневника и его художественных произведений. К сожалению, поскольку значительная часть из дневниковых записей по-прежнему остается неопубликованной, то очень многого мы о Пришвине еще не знаем. Особенно это касается периода Великой Отечественной войны, одного из самых плодотворных в его творчестве. Дневник писателя как уникальный документ человеческой личности, проблема «дневникового и мемуарного сознания», соотношение правды и вымысла. отношение Пришвина к советской действительности и литературе в свете появления новых материалов потребуют нового исследования. Для составления более полной биографии писателя значительную помощь могут оказать и воспоминания членов семьи М. М. Пришвина, которые до сих пор не опубликованы.
Изучение самого неизученного русского писателя XX века — впереди. Но несомненно одно. Пришвин всегда оставался, как и его любимые герои, правдоискателем, хотя очень часто идея поиска правды шла в его жизни в ущерб самой правде. На этом пути он пытался примирить вещи непримиримые и, пожалуй, самое уязвимое и неприятное в его мировоззрении — итоговая попытка соединить православие с коммунизмом. И все же невозможно сказать, что история Пришвина есть история превращения русского писателя в писателя советского. Пришвин так и остался на полпути. Страдая от своей разъединенности с миром и стремясь к слиянию с ним. он имел о себе право сказать:
В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык мой материнский. чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к Петрову дню цвету.
Ничего с этим не сделаешь. и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а может быть, только что начинается" (22, V. 335).