Глупость и Безумие в культуре европейского средневековья и Северного Возрождения
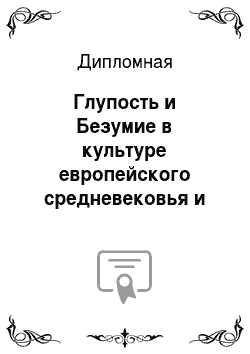
Как уже было сказано выше, карта «Дурака» в старшей колоде Тарот может стоять как нулевой, так и последней в общем порядке. Она может также объединять собой все карты младшей колоды, смысл которых трактуется по-разному: «Четыре масти меньшей колоды рассматриваются как аналоги четырех элементов, четырех углов света. Четыре масти представляют четыре слоя общества: кубки — духовенство, мечи… Читать ещё >
Глупость и Безумие в культуре европейского средневековья и Северного Возрождения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
глупость ренессанс утопия безумец
Глава I. Роль Глупости в выстраивании оппозиций «Храм — Площадь» и «Храм — Кабак»
Глава II. Карточный Дурак и русский Юродивый: хождение по мукам
Глава III. Образы Глупости и Безумия у Бранта
Глава IV. Образы Глупости и Безумия в творчестве художников Северного Ренессанса
4.1 Поэтика дюреровской гравюры
4.2 Образ брантовского Дурака у Дюрера
4.3 Смерть как «смешное страшилище»
4.4 Безумная «Пляска смерти» в графике Ганса Гольбейна Младшего
4.5 Живые маски Мории
Глава V. Образ абсолютной Глупости в творчестве Эразма
5.1 О композиции «Похвалы Глупости»
5.2 Живая классичность Глупости
5.3 Гротескная дидактика Глупости
5.4 Мория и Анойя: Глупость и Безумие
5.5 Система абсолютной Глупости Глава VI. Маски Мории и Утопия Мора
6.1 Гротеск Утопии Мора
6.2 Маски Мории и Утопия Заключение
Приложение. О способе подачи материала на уроках культурологии и МХК, посвященных культуре средневековья и Северного Ренессанса Литература к приложению
Введение
Ушедший век поставил новые задачи перед исследователями культуры. Когда понятие «структура» перестало удовлетворять успешному их решению, сами методы изучения культуры сильно изменились. Акцент смещается непосредственно с объекта на отношение субъекта к нему — и так частично преодолевается пропасть между ними. При всем этом исследователь открывает новые термины, которые описывают это субъект-объектное отношение.
Сам термин «концепт», который будет использоваться далее, нуждается в уточнении, так как подходы к трактовке его можно наблюдать различные. В отечественную лингвистику термин пришел из англоязычной литературы в семидесятых годах XX века и переводился изначально как «понятие». Однако впоследствии такой перевод перестал представляться исследователям исчерпывающим. Например, Ю. С. Степанов разводит термины «понятие» и «концепт», связывая первый с логикой и философией, второй же — с культурологией и с логикой математической. А. Вежбицка говорит о концепте как об объекте мира «Идеальное», что прочно отражает определенные культурно-обусловленные представления из мира «Действительность». Степанов трактует концепт как основную ячейку культуры в ментальном мире человека, в котором, с одной стороны, заложено содержание понятия, а с другой — все то, что делает его фактом культуры — этимология, краткая история данного концепта, современные ассоциации, оценки, переживания. В дальнейшем, автор этой работы будет придерживаться взглядов на значение термина «концепт» Ю. С. Степанова, поскольку, они, кажется, наиболее полно удовлетворяют предмету настоящего исследования.
Глядя сквозь призму этих концептов на определенную культурную систему, можно обнаружить новые связи, новые элементы культуры, ранее скрывавшиеся от аналитического ока ученого.
Почему, говоря о культуре средневековья и Ренессанса, необходимо пользоваться таким концептом, как Глупость? Дело в том, что эпоха Возрождения становится новым витком истории далеко не для всех. Народная культура продолжает находится в рамках средневековых традиций. Эпоха возрождения наступила для своих титанов — своеобразного культурного авангарда, родившегося в результате некоего взрывного процесса. Ю. М. Лотман утверждает, что, когда процесс культурного взрыва идет на спад, внутри самой культуры возникает потребность в метарефлексии, то есть в осознании предыдущего витка ее развития как отдельного периода в истории. И именно в это время появляется труд Эразма Роттердамского «Похвала Глупости», который своеобразно структурирует мир средневекового человека. А коли так, то непременно необходимо посмотреть на культуру средневековья и Северного Возрождения сквозь призму Глупости. Тогда, возможно, обнаружатся новые связи различных феноменов, да и сами они предстанут, возможно, в ином свете.
Проблема определения понятия «Глупость» была поставлена сравнительно недавно. Почему оно игнорировалось исследователями народной культуры — сказать сложно. Видимо, «отпугивала безграничность области исследования» [33, c. 5]. Однако, в первой половине XX века возникает необходимость в создании науки о Глупости: Уолтер Питкин пишет «Краткое введение в науку о человеческой глупости» (1932 г.).
Введение
получилось обширным, но удовлетворительной систематизации не вышло. Чуть раньше немецкий доктор Лоувенфельд предпринимает попытку рассмотреть Глупость как некий социальный недуг (1909 г.). Шарль Рише («Человек глупый») создает странный пример систематизации. О ней можно судить по названиям глав: «Алкоголь»; «Опиум»; «Табак»; «Мода и драгоценности»; «Мучительство животных: бой быков, стрельба по голубям»; «Варварское разрушение памятников»; «Мученическая гибель пионеров-первопроходцев» и т. д. Книга Макса Кеммериха («История человеческой глупости») направлена больше на борьбу с религиозностью и под Глупостью подразумевает как раз истую веру. Кстати, критические биографии религиозных фанатиков и мистиков-алхимиков можно встретить в работе с таким же названием немецкого филолога Иоганна Христофа Аделунга 1785 года, где Глупость понимается в том же ключе. Наконец, венгерский писатель Иштван Рат-Вег, скурпулезно собрав эти сведения, издает книгу (и его труд, как ни странно, называется точно так же — «История человеческой глупости»), уже осознанно отказываясь заниматься какой-либо систематизацией и возлагающий эту ответственность на других исследователей, ограничиваясь внушительным колличеством курьезных фактов из истории мировой культуры без каких-либо научных комментариев.
Несмотря на скудность теоретической информации по вопросу, рассмотрение такого фундаментального концепта, как Глупость помогло бы несколько по-иному взглянуть на народную культуру различных эпох, в частности, на народную культуру средневековья и Северного Возрождения. Мир Мории (древнегреческое «Моria» — «Глупость») открывает нам возможность по-новому раскрыть, чем были Пространство и Время, Мудрость и Безумие, Жизнь и Смерть, Материя и Дух в понимании средневекового человека.
Объектом исследования, таким образом, является культура европейского средневековья и Северного Возрождения, а предметом — Глупость и Безумие как фундаментальные концепты, объясняющие существование и взаимодействие различных элементов в пространстве данной культуры.
Мир Глупости не существует отдельно от остального мира, он включает его в себя особым образом, создавая своего рода целую систему, возвышаясь над рассудком, но, как это ни удивительно, давая ему тем самым новую жизнь. Мории, если говорить словами М. М. Бахтина, «чужда всякая односторонняя серьезность и догматизм» [4, с. 147]. Потому, именно, что это — действительно живая система, что, собственно, и требуется доказать.
В первую очередь, в исследовании автор опирается собственно на те литературные источники, где можно встретиться либо с образом самой Глупости, либо с ее репрезентацией — Дураком. Это произведения Себастиана Бранта, Эразма Роттердамского и другие, однако, образ Глупости выходит далеко за рамки литературы, потому автор вынужден использовать в качестве источников произведения искусства мастеров средневековья и Северного Ренессанса, а также обращаться к различным элементам пространства народного быта этих эпох. Основными критическими источниками, в которых автор усмотрел наиболее полное отражение сущности народной культуры Ренессанса, являются, несомненно, труды М. М. Бахтина. Но исследование, разумеется, основывается не только на них.
Цель исследования: раскрыть взаимосвязь различных элементов народной культуры эпохи средневековья и Северного Возрождения через концепты Глупости и Безумия.
Вот, какие задачи автор ставит себе в связи с этим:
1) условно обозначить две оси культурных элементов в сознании средневекового человека: горизонтальную и вертикальную;
2) установить связи пространственных элементов народной культуры с помощью концепта Глупости;
3) разграничить различные формы явления Глупости в народной культуре;
4) обозначить некоторые моменты эволюции Глупости как культурного концепта от средневековья к Ренессансу в произведениях крупнейших гуманистов эпохи Возрождения;
5) очертить образ Глупости, проявляющийся в литературном и художественном изображении фигур Дурака, Безумца, Смерти и т. д.;
6) вывести основные элементы эразмовской системы Божественной Глупости;
7) показать применимость вышеназванной системы в организации подхода к изучению феномена Утопии на примере одноименного произведения Томаса Мора.
Итак, путь будет нелегким, и автор, естественно, не в состоянии объять горизонты этой поистине сложной проблемы. Но каким-то образом обозначить их необходимо. Автор выражает надежду, что в итоге работы он подойдет к пониманию «нового истока» — «какого-то великого мирового неразумения, в котором, строго говоря, никто не повинен, но которое втайне влечет к себе всех и всех увлекает за собой» [38, с. 35].
Глава I. Роль Глупости в выстраивании оппозиций " Храм — Площадь" и " Храм — Кабак"
" Марк Блок нашел поразительную форму, которая, казалось бы, резюмировала отношение средневековых людей ко времени: полное безразличие. Смешение времен было в первую очередь свойственно массовому сознанию, которое путало прошлое, настоящее и будущее" [19, c. 164]. Народная культура отвергает четкость представлений о времени, чтобы структурировать отношение к пространству. А пространство народной культуры строго разграничено. Так, можно различить представления средневекового человека о храме, площади, таверне (или, попросту, о кабаке) как об определенных локусах разворачивания жизни. Причем, изнутри каждого мир видится по-разному. То есть правила поведения человека в каждом из них формируют особый фильтр в аппарате его культурного зрения.
Автора здесь, в первую очередь, интересует Глупость — вернее, то, как ее образ преломляется в зависимости от того, внутри какого из перечисленных локусов она понимается человеком. Рассматриваемыми локусами будут в этой главе Храм, Площадь и Кабак. Причем, первый будет представлен в сравнении с обоими последними поочередно.
Средневековая площадь многолика, она целиком проникнута пестрой карнавальной атмосферой. Интересно, что у Максимилиана Волошина можно найти такую любопытную этимологическую версию: «В древнееврейском языке есть слово, странно созвучное со словом „карнавал“. Это слово „Kern-Abal“, что означает лик безумия — искажение человеческого лица. Было ли это грозное речение действительно прообразом имени Карнавала, было ли это просто окаменевшим ругательством, которое подобрало пляшущее безумие и стало размахивать им, как побрякушкой, но в этом созвучии таится жуткий и таинственный смысл» [9, с. 89]. Есть и иные воззрения на этот счет, менее поэтичные, однако, тоже проникнутые глубоким смыслом: «Этимологи нередко выводят слово „карнавал“ напрямую из латыни, от „char“ — празднично украшенной повозки кораблеобразной формы, непременного признака любой процессии древности. Гораздо более точным и обоснованным считается толкование карнавала как последних дней накануне поста, дней неограниченной свободы, когда еще можно есть мясо: carne vale. Таким образом, карнавал — праздник изобилия, ублажения плоти, но также и борьбы с грядущим постом» [18, с. 91].
Здесь уже можно увидеть связь храма и площади. Также необходимо отметить, что происхождение самого площадного карнавального действа мозерская школа фольклористики связывает с феноменом литургии [там же].
Известно великое множество различных площадных действ. «Жемчужина карнавального творчества» — нюрнбергский шембартлауф («ход ряженых») [18, с. 119] - раскрывает сложный противоречивый мир площадного дурака. «Шембартлауф — произведение многих искусств одновременно, синтез прикладного искусства и архитектуры, изобразительного искусства и театра, эмблематики и пластики, религиозных живых картин и массового зрелища» [18, с. 120]. Шембартлауф — законодатель шутовской «моды», эталон дурачества. Именно здесь шут приобретает большинство своих атрибутов — колпаки с ослиными ушами и с бубенцами, зеркала, лисьи хвосты, длинные канаты, игральные кости, кольца колбас, всяческие инструменты, чайники, кружки, бутылки и отрезы цветной материи. Площадь, в отличие от кабака, как будет видно позднее, не является чистым травестированием пространства храма. Она сливает воедино светскую и духовную традицию. Здесь символы всегда имеют двойное толкование, придавая системе завидное равновесие — так сглаживаются противоречия. Например, «канат — традиционный реквизит шута (в одном из фастнахтшпилей „королева“ вела на веревке шута, который ее развлекал). В церковных изображениях черт ведет души грешников в ад на канате. Не случайно проповедники советовали бежать прочь от карнавальной процессии, участники которой идут на канате. Светская же традиция связывает канат с ритуалом перехода, считая его дорогой в небо; канат определяет границы, с другой стороны, дает возможность бесконечного расширения свободы» [18, с. 148]. Итак, в этом примере ясно видно двойное толкование одного символа, и это двойное толкование примиряет две традиции. Именно поэтому прямо перед храмом можно видеть двусмысленные постановки на библейские темы. Возможность двойного толкования всегда уводит от конфликта внутри народного сознания.
Центральной системой шембартлауфа выступает система так называемой «адовой повозки». Аллегорически образы, действующие в рамках повозки (будь то великан, пожирающий маленьких человечков, или те же ряженые черти), связаны с представлениями об аде, антимире. Однако они имеют не только дидактическую направленность («Адова повозка» 1513 года на тему «извлечение шутов» впервые в истории шамбартлауфа иллюстрировала мысль об исцелении от жизни в глупости и от проклятия") [18, с. 149]. «В системе карнавала возможно и допустимо травестирование религиозных аллегорий на основе привносимых зрителем инотолкований» [там же]. То есть здесь включается механизм того самого двойного толкования. Ад приобретает на площади гротескную форму смешного. Наконец, чтобы впоследствии увязать системы народной «адовой повозки» и сложного литературного понимания Глупости, организованного Себастианом Брантом в координатах «Narrenschuff», следует заметить, что иногда (как, например, в 1506 году в Нюрнберге) повозка принимала форму корабля.
С одной стороны, кабак противоположен храму. Что в церкви — грех, то здесь — благо. Если говорить только о таком отношении храма к кабаку, то они попросту отрицали бы друг друга. Однако, отношение это нельзя описать как простое отрицание. Это — травестирование порядка, привычное выворачивание наизнанку, создающее положительную антисистему. «Кабацкие „антимолитвы“ воспевают наготу, нагота изображается как освобождение от забот, от грехов, от суеты мира сего» [21, с. 351]. Это значит, что в кабаке можно наблюдать очищение через грех (как Христос взял на Себя грехи человеческие). Недаром пьют в кабаке за здоровье. Само понятие «тост», по одной из версий, действительно, происходит от слова toast, именующего у англичан их любимое пуританское лакомство: «на дно винного бокала было принято бросать ломоть поджаренного хлеба, а уже на него наливать питье. Бокал во время произношения здравниц ходил по кругу, из него все пили по очереди один глоток, и когда бокал возвращался к хозяину, он выпивал остаток питья и съедал жареный хлеб — тост» [33, с. 333]. Этот ритуал кругового пития очень напоминает таинство евхаристии. Поскольку же пьют обычно за здоровье, то здесь имеется в виду очищение тела от всякой скверны и греха.
Средневековое европейское студенчество даже изобретает особый свод правил, пародирующий юридические кодексы — «Jus potandi» (или «Церемониал пития»). Этот свод, объединяя различные Komment-Buch, родившиеся в той же студенческой среде (иные посетители кабака просто не нуждались в письменном источнике, опираясь всецело на традицию изустную, — студенты же травестировали заодно и понятия своей академичной университетской жизни, связанные с установками богословской, юридической, философской и прочей специальной литературы), вел подробный учет приемов и традиций пития, а также штрафных санкций в случае нарушения оных. Можно сказать, что «Jus potandi» — это некий кабачный Часослов.
Глупость здесь выступает переводчиком Истины с языка храма на язык кабака, при этом она действует, как переводчик эпохи Романтизма: изменяя форму, она оставляет содержание.
Неспроста в первой части гетевского «Фауста» Мефистофель поит завсегдатаев не настоящим вином, но лишь чистилищным пламенем, ведь и в храме и в кабаке вино понимается как Кровь Христова, очистительное начало («- Огонь! Из ада пламя! Караул!/ - Стихия милая, смири разгул!/ Нет, это лишь чистилищное пламя» [10, с. 213]). Церковь накладывает запрет на злоупотребление, но в кабаке вина не может быть много: когда Глупость травестирует смысл, качественное и количественное взаимоподменяются.
Внешне церковь и таверна являлись соперничающими структурами. Со стороны первой кабак трактовался как место, противное Божественной Мудрости: «приходской священник порицал этот центр порока, где процветали пьянство и азартные игры, видя в нем соперника приходу с его проповедями и церковными службами» [19, с. 291]. Восприятие этих двух центров народной жизни как конкурентных только подтверждает еще раз травестийную природу кабака по отношению к храму.
Пьяница — дурак, поскольку разум его затуманен. Он, однако, не теряет возможность транслировать Глупость. Таверны наполняются громом застольных песен. Пьяница Башмачник Кальбен из французского средневекового фарса постоянно поет песни, совсем не соответствующие по смыслу окружающей действительности: «Я вся в заботах. Голова / Идет, поверите ли, кругом: / Едва заговорю с супругом / О платье, он поет в ответ. / Сей мерзопакостный пьянчуга / Жалеет платье мне купить, / Хотя весь дом готов пропить». Хмельная песня является своего рода выражением экстазиса, священного выхождения из себя; в этом смысле, она — свидетельство откровения и может быть истолкована как аналог песнопений церковных. Лихачев, цитируя Бахтина, говорит о соответствии стереотипов русской низовой культуры стереотипам народной культуры европейского средневековья: «» Parodia sacra", то есть «священная пародия», одно из своеобразнейших и до сих пор недостаточно понятных явлений средневековой литературы", включала в себя «довольно многочисленные пародийные литургии („Литургия пьяниц“, „Литургия игроков“ и т. д.)»; «аналогичную картину представляет и русская демократическая сатира XVII в.: «Служба кабаку», и «Праздник кабацких ярыжек» «[21, с. 345]. Причем, сравнение явлений, имевших место в разные культурные эпохи, здесь нисколько не должно смутить исследователя.
Ваганты, будучи прослойкой образованного студенчества, чуждого, однако, бытового академизма, восславили в своей лирике пространство кабака, представляя его неким храмом Вакха — языческого бога, счастливо прижившегося в условиях христианской парадигмы. Выступает он здесь как воплощение вина как такового, причем вина чистого (кабацкие песни вагантов славят вино как чистый напиток, в отличие от воды и пива: «Я же, песню завершая, Ныне миру возглашаю Весть мою конечную: Кто вино с водою свяжет, Тех господь Христос накажет Мукой вековечною!»; «Кто не вина пьет, а воду, / Тем не даст прозреть природа / Истины сокрытые; / А при мне — гласят немые, / Зрят слепые, мчат хромые, / Веселятся битые» [44, с. 65, 67]). Следует сделать следующее заключение: из приведенных фрагментов можно также заключить следующее: через вино лежит дорога к «сокрытым истинам», как через кровь и плоть Христа лежит путь в Царствие Небесное. Собственно, это есть в понимании средневекового человека одна дорога. Что же касается всевозможных винных чудес, то в лирике вагантов они вполне соответствуют чудесам Христовым.
Вино в кабаке не только затуманивает разум человеческий. В средневековом представлении, в вине заключена не только Глупость, но и Истина — и, таким образом, эти понятия в пространстве кабака должны видеться, по крайней мере, эквивалентными.
Итак, в качестве вывода, можно сказать, что, если площадь многопланово, живо выступает как бы мирским храмовым продолжением, то кабак явно в острой форме травестирует мудрость церкви, переворачивает установки храма.
Глава II. Карточный Дурак и русский Юродивый: хождение по мукам С наступлением эпохи Возрождения для простого народа средневековье не закончилась. Можно сказать, что новая эра пришла лишь для представителей творческой элиты. Поэтому в данном исследовании важно выявить взгляд на Глупость, дурачество этой образованной социальной прослойки. Карты Таро (или Тарот) были для посвященных хранилищем мудрости мироздания, ключом к пониманию замысла Творца. Не странно ли, что важнейшее место в старшей колоде занимает при этом карта le Fou — «Дурак» ?
Игральные карты всегда поражают наше воображение, как бы мы ни относились к самой карточной игре. Карты притягивают нас своей «двойственной природой» [45, c. 137]: с одной стороны, мы принимаем их в качестве некоего объекта игры, и здесь они выступают все разом, одной колодой. Значение каждой отдельно взятой карты пропадает, не имей мы под рукой полного набора, иначе говоря, в игре карта означает что-то только на своем месте в строгой иерархии. В этом смысле, карта приобретает значение в некоторой конкретной ситуации. Однако, «с другой стороны, карты используются и при гадании. Здесь активизируются другие функции карт: программирующая („что будет, чем сердце успокоится“) и прогнозирующая. Одновременно при гадании выступают на первый план значения отдельных карт» [там же]. Теперь необходимо выяснить, что первично в картах: их гадательная функция или, все-таки, игровая. Так, в частности, можно прийти к истинному образу карточного дурака.
Некоторые исследователи предполагают, что игральные карты являются прямыми потомками карт Таро: «в „Исследованиях по истории игральных карт“ Самуэль Уиллер Синглер выдвигает тезис о том, что карты проникли в Южную Европу из Индии через Аравию. Вполне вероятно, что карты Тарот были частью магической и философской мудрости, перенятой Тамплиерами от сарацин или же от одной из мистических сект, процветавших в то время в Сирии. По возвращении в Европу Тамплиеры во избежание преследования скрыли тайное значение символов, используя страницы своих священных книг как средство развлечения и игры» [39, с. 467]. Иначе говоря, игра сама по себе явилась в этом случае непроницаемым щитом для непосвященных на «королевской дороге» к мудрости (от «тар» — «дорога» и «ро» — «мудрость» [там же]).
Что же до фигуры Дурака, то эта карта (иногда ее называют «Шут» — и в этом сближении двух терминов сквозит тема намеренного обращения, инверсии знания, ибо здесь Глупость соседствует с шутовским остроумием) является «нулевой», то есть одновременно и примыкает к старшей колоде, и исчезает из нее, появляясь в обычной, игральной или «младшей» колоде. Интересно, что «если Дурака положить на первое место в колоде, а другие карты выложить в ряд слева направо, то можно обнаружить, что Дурак идет к другим персонажам, как бы проходя через карты. Подобно духовно не видящему из-за повязки на глазах неофиту, Дурак готов отправиться в наисложнейшее приключение, ведущее через ворота Божественной Мудрости» [39, с. 471]. Таким образом, уже касаясь карты Дурака, исследователь имеет дело с некоторым путешествием, плаванием по волнам мудрости (следует отметить, что на нулевой карте Висконти Сфорца XV века обрыв, на котором стоит путник, омывает море — этот сюжет встречается и на более поздних картах). Ситуация путешествия может соответствовать и сюжету инициации: «в своей „Истории магии“ П. Христиан, говоривший от лица одного французского секретного общества, рассматривает фантастическое предположение о том, что инициация в Египетские Мистерии проводилась на фоне 22 карт Тарот гигантского размера, поставленных на козлы. Останавливаясь перед каждой картой, инициатор описывал ее символизм посвящаемому кандидату» .
Место Дурака относительно остальных карт основной колоды вызывает большое сомнение. Некоторые ставят его в карточной иерархии в самый конец колоды. Так, становясь двадцать второй картой, Дурак распадается на элементы — т. е. младшую колоду, — становясь картой «гипотетической» [39, с. 471]. Так и «джокер» игральной колоды может принимать функции любой другой карты (интересно, что во многих играх, джокер, не участвуя в комбинации, обращается в тот самый ноль Дурака Таро).
Дурак сопровождаем собакой, кусающей его за ноги. Собака — атрибут антимира, она представляет собой архетип, являющийся нам, пускай и несколько измененно (порой даже трехглаво) в различных культурных пространствах, оглашая окрестности Тартара жутким своим рычанием. В русской средневековой культуре, например, образ собаки-повелителя царства мертвых достаточно актуален: «Весьма возможно, что загадочное «инишное животное» в былине «Вавило и Скоморохи» — это тоже вывернутый наизнанку, перевернутый мир — мир зла и ирреальности. Намеки на это есть в том, что во главе «инишного царства» стоит царь Собака, его сын Перегуд, его зять Пересвет, его дочь Перекраса. «Инищое царство» сгорает от игры скоморохов «с краю и до краю» «[21, с. 355]. Здесь же следует отметить, что слова «бесовское злоxитрие», «собацкое умышление» в ругательном лексиконе Ивана IV стоят рядом по значению и сливаются в категоричном «пес злобесный», прочно соотнося собаку с дьяволом.
Итак, отчего же преследуем несчастный le Fou дворнягой, зачем подталкивает она его к бушующей стихии? Ответ не представляется настолько очевидным, чтобы вопрос остался риторическим.
Теперь, чтобы ответить на него, придется на время оставить карты и, коли уже протянулась нить связи европейского и русского средневековья, обратиться к проблеме диалога дурачества и юродства как двух взаимодополняющих систем и характеризующих самое понятие Глупости в культурах европейского и русского средневековья.
Если в Европе центральным воплощением Мории является фигура Дурака, то русская смеховая культура воплощает Глупость в образе Юродивого. На первый взгляд, подобное утверждение может показаться спорным, ведь всем известен, например, Иван-дурак, оказывающийся на троне, то есть «во главе угла» — «помазанником Божьим». Однако, здесь «дурак», скорее, — простое нарицание, синонимичное понятию «бедняк». Кроме того, следует отметить обычное сверхнизкое социальное положение такого Ивана в собственной семье. Он либо является третьим и младшим сыном увядающего родителя, либо — единственный, но безнадежный до некоторой поры ребенок. Кроме того, такой «сказочный Дурак» имеет в качестве фольклорного образа совсем иной смысл, нежели Дурак европейский. Иван вписывается в традицию русской волшебной сказки и приобретает достаточно однобокую функциональность (европейский Дурак, в этом смысле, далеко не так узкопрофилен). Пропповская трактовка (на взгляд автора этой работы, вполне справедливая) сводит смысл волшебной сказки к иносказательной передаче обряда инициации, что делает Дурака примером человека действия для неинициированного (христианская патриархальная традиция не теряет кода к этим языческим смыслам). Итак, Иван-Дурак — пропедевтический образ, достаточно сухой в силу своей функциональности и достаточно живой, однако, в силу того, что также принадлежит народной культуре. Пропедевтика, правда, накладывает на образ некие оковы (по крайней мере, в этом случае). Поэтому (и не только!) центральным воплощением Глупости должен стать Юродивый.
Если вспомнить образ Дурака в средневековой и ренессансной Европе, то он предстанет перед нами гротескным персонажем, который непременно балансирует между наивной мудростью и дурацким положением неудачника (Симплициссимус обучаем жизнью за счет того, что жизнь его «носит»). Житейская мудрость тесно связана с глупостью тупиковых провалов — в этом смысле, Дурак — чистый эмпирик, сродни современному естествоиспытателю. Образ Юродивого также заключает в себе некую бинарность. Важно подойти к пониманию сути этой бинарности постепенно, не беря мотылька за крылья, чтобы не осыпалась пыльца.
Начать следует с ключевого понятия «наготы». «Обнажать, обнаруживать правду, раздевать реальность от покровов этикета, церемониальности, искусственного неравенства» — «функция смеха»; «при этом дурость — это та же нагота по своей функции. Дурость — это обнажение ума от всех условностей, от всех форм, привычек. Поэтому-то говорят и видят правду дураки. Они честны, правдивы, смелы. Они веселы, как веселы люди, ничего не имеющие. Они — правдолюбцы, почти святые, но только тоже «наизнанку» «. Юродивый наг, как червь, и наг, как Христос распятый, плащаницу которого разрывают солдаты, деля спасенный мир (следует отметить, что Le Fou Висконти Сфорца одет в лохмотья, сквозь которые видна набедренная повязка). Его ущербная нагота отторгает соблазн, она указывает на умерщвление тела, которое отходит на второй план, чтобы утвердилась грешная душа. Если обычный смертный может «списать» грех на счет тела, то Юродивый намеренно демонстрирует грех души. Юродивый, совершающий грех намеренно, попадает в некую касту русских «дервишей», он становится отверженным шутом, неприкасаемым. Культура будто бы выбрасывает его из своего чрева как переношенный плод. Однако именно Юродивый и дает возможность существовать русской смеховой культуре.
Грешник не может смеяться. Грешник вынужден каяться, и каяться постоянно. Выходки Юродивого оголяют правду, имея оттенок назидательный — «не делай так, как делаю я» , — но не только. Юродивый берет грех на себя, но берет, вывернув благо наизнанку. Теперь человек может смеяться, ведь Убогий взял на себя его грех, он как бы совершил такой же, но намного более масштабный. Юрод показывает, демонстрирует грех.
Одновременно, он вдвойне усердно грех замаливает, и ночью Юродивый действительно неприкасаем, свят. Он — обладатель «святой наивности» .
Юродивый живет в миру, но постоянно общается с небом, то есть занимает промежуточную позицию между «тем» миром и миром «этим». Теперь, чтобы представить себе место воплощения Глупости в западноевропейской и русской культурах эпохи средневековья, хорошо соотнести фигуры Юродивого и обычного, некарточного Дурака с образами православного и католического храма, таким образом, поместив их в сетку пространственных ориентиров. Это нужно сделать для того, чтобы увидеть потом, отчего Дурак карточный по кличке le Fou принимает на себя некоторые функции Юродивого.
Дурак маргинален в выборе места репрезентации Глупости. Он — в пространстве, где можно играть понятиями, или там, где понятия начинают играть им. Дурак растворяется в массовом действии, в частности, в разных ипостасях он то тут, то там проявляется во время площадного действа недалеко от храма.
Юродивый у храма пребывает постоянно. Он изгоняет беса, изгнанного вон из церкви. Юродивый далек от дурацкой театрализованности. Сам по себе представляя зрелище, он с собою наедине не юродствует. Дурак пребывает дураком даже в монодиалогах. И тот и другой, однако, органично вписываются в пространство жизни, заданное соответствующим храмом. Как это происходит?
Католический храм имеет открытый для глаз алтарь, который может изображать одновременно " как пространство нашего мира, так и пространство мира сакрального. Одно пространство соотносится с тем пространством, в котором находится зритель картины, т. е. принадлежит этому миру; ему противопоставлено другое пространство, принадлежащее миру иному, потустороннему. Мир горний и мир дольний показаны вместе — они объединены в одном изображении" (Гентский Алтарь Ван Эйка) [36, с. 304]. Нередко алтарь у католиков имеет барельефные изображения, а иногда фигуры святых на створках алтаря предстают и в форме круглой скульптуры. Прихожанин, таким образом, попадает в пространство, готовое для его восхождения к Господу. Он, как по ступенькам, может подниматься от круглой скульптуры, каменея в молитвенном экстазе, к барельефу, а с новым переходом он вообще избавляется от тактильного объема, обретая объем прямой перспективы (начиная с Джотто, конечно). Суровая романская покорность сменяется воздушно-экстатичной готикой, которая полностью соединяется с несущим по ступеням хоралом. Пребывая некоторое время в Господе и выйдя после из храма, Дурак с радостью примет участие во всеобщем гулянии с комическими сценками на подмостках у церкви, где добрыми католиками будет обыгрываться в который раз щепетильный в остальное время вопрос о непорочности Богородицы.
Если обратить умственный взгляд к храму православному, то здесь за иконостасом мы не увидим алтаря, и только иконы будут строго-спокойно взирать на нас. Именно икона является здесь, в церковном пространстве, активным началом. Не я восхожу к Богу через икону (это было бы невозможно — на иконе только лик наиболее " семантически важен" [36, с. 279]), и лик развернут на меня в фас, и я, как всякий грешник, не могу выдержать взгляда с плоскости), а Благодать сходит на меня. Материально плоскостная структура иконы создает четкое разграничение пространства " здешнего" мира и царства Святого Духа. В храме ли, или вне храма, прихожанин остается в мире дольнем. Неся постоянную ответственность перед Христом за свои грехи, человек православно-патриархального уклада не может смеяться — не приведи Господь удариться в язычество! Но находится спаситель, снимающий это культурное напряжение, препятствующее органичному существованию общинного духа. Это — Юродивый. Если невозможно взобраться к Господу, то возможно очиститься через его юродство. Юродивый — маленький, исключительно человеческий, прообраз Христа, но, в отличие от Него, убогий человек намеренно ударяется во грех, чтобы не сравняться с Иисусом. Итак, он не столько " обличитель" , сколько " спаситель" людей.
Таким образом, Дурак и Юродивый в силу культурных обстоятельств по-разному реализуют в мир потенцию Мории. И Дурак и Юродивый средневековья вдохновлены Богом. Однако, Дурак намеренно не идет на контакт с Небом, он — гротескный центр земной жизни. В этом смысле, Дурак безумнее " умалишенного" убогого человека, который вынужден осуществлять внецерковную, общинную связь с Господом. Тем не менее, Юродивый — далеко не брат Жан, который никогда не подверг бы себя намеренному самоуничижению. Юродство где-то жертвует гротеском ради дурачества — и поэтому часто в проявлениях своих ярче, остроумнее неосознанных выходок Дурака.
Теперь следует вернуться к образу собаки. Хорошо здесь напомнить, что необходимо ответить на вопрос: почему карта Таро Le Fou изображает Дурака в сопровождении Дворняги?
Как беспризорные псы ходят там, где можно найти еду, так дьявол ходит там, где можно найти заблудшую душу. Если Дурак " нищ духом" — и поэтому всегда находится под крылом ангела, то с Юродивым дело обстоит совершенно по-другому. Последний, с необходимостью привлекая к себе греховность, как бы отвлекает сатану от людей мирских. Вот, почему образы собаки и Юродивого неразделимы. " Убогий человек" постоянно находится в схватке с дьяволом.
Как уже было сказано выше, карта " Дурака" в старшей колоде Тарот может стоять как нулевой, так и последней в общем порядке. Она может также объединять собой все карты младшей колоды, смысл которых трактуется по-разному: " Четыре масти меньшей колоды рассматриваются как аналоги четырех элементов, четырех углов света. Четыре масти представляют четыре слоя общества: кубки — духовенство, мечи — военных, монеты — торговцев, а палки — крестьян. С точки зрения, как ее называет Курт де Гебелин, " политической географии" , кубки представляют северные страны, мечи — восточные, монеты — западные и палки — южные. Десять очковых карт каждой масти символизируют народы, населяющие эти страны. Короли — это их правители, рыцари — их истории, национальные характеры, а пажи — искусства и науки" [39, с. 480]. Как видно из этого вполне исчерпывающего символического описания, младшая колода представляет собой материальный мир со своими законами жизни и развития. Кто же, получается, Le Fou, если не тот, кто печется о мире, кто взял на себя духовную ответственность за этот мир, исполненный кубков, мечей, монет и палок, которые можно трактовать также как человеческие грехи, как зло, поглотившее все континенты? В данном случае вряд ли исследователю пришлось столкнуться с очередным образом Христа, каким бы интригующим ни представлялся подобный расклад. В конце концов, некоторые считают, что карты Таро имели в средневековой Европе и чисто игровую функцию, на что указывает тот факт, что во Франции до наших дней дошла детская игра с использованием старшей колоды. С этой позиции, невозможно играть картой с планом содержания " Абсолют" , даже с чисто логической точки зрения. Другое дело, что здесь имеется образ Юродивого, святого заступника человечества, Юродивого, названного " Дураком" , и извечного его терзающего противника. А то, что сатана присутствует в колоде в качестве отдельной карты, никак дела не меняет, поскольку в карте Le Fou он предстает лишь как атрибут.
Карточный заступник не может называться Юродивым, однако путник с тростью, кусаемый собакой, намеренно предпринимает хождение по мукам, чтобы избыть грехи человека, хотя бы на толику приблизившись к образу нагого распятого Христа, что, по сути, является юродством. Иначе говоря, в карточном le Fou можно увидеть дурака, очень напоминающего своими функциями русского юродивого.
Глава III. Образы Глупости и Безумия у Бранта Феномен «Корабля дураков» есть некая модель. Мишель Фуко представляет нам эту модель замкнутой. Дурак, Безумец становится изгоем, но тем самым обретает право на собственную систему. Конечно же, эта система не рассудочна. Она, с одной стороны, прямо антирассудочна, с другой — включает в себя самый рассудок, рассудок потешный, вывернутый наизнанку.
Что можно увидеть в рассматриваемой, далекой еще, правда, от эразмовской, абсолютной, Глупости?
На рубеже XV—XVI вв.еков появляется много литературных кораблей, но «Narrenscuff» Бранта — «единственное из всех этих судов, которое существовало не только в романах и сатирах, но и в самой действительности; такие корабли, заполненные сумасшедшими и перевозившие свой необычный груз из города в город, существовали на самом деле» [38, с. 30]. Далее Фуко приводит различные факты, пускай сами по себе и красочные, но в данный момент не столь важные для настоящего исследования. Интересен здесь момент действительного отелеснивания, веществования. Да, это — самый настоящий быт, который Себастиан Брант подчеркивает перечнем ординарных случаев. И, если рассматривать «Корабль дураков» с позиции официальной средневековой культуры, изнутри ее, то необходимо напрашивается вывод, что последняя исключает из себя культуру народную смеховую, выталкивает ее из сферы своего бытия.
" Мир смеховых форм и проявлений противостоял официальной и серьезной (по своему тону) культуре церковного и феодального средневековья" [4, с. 8]. Это так. С другой стороны, официальная культура исторгает из себя карнавальную. С такой позиции интересно посмотреть, откуда же рождается сам феномен «Корабля дураков» .
Данная модель не предполагает еще гротеска в той полной мере, в какой он льется из всех дыр материального незавершенного тела в тексте Рабле, так как именно в генезисе «Корабля дураков» видны явные ограничения, насаждаемые официальной средневековой культурой, культурой рассудка. Любопытно в этом месте обратиться к Мишелю Фуко, задавшись вопросом, как соотносятся между собой Глупость и Безумие. Дурак и Безумец — «хранитель истины, его место в самом центре театральной сцены, а роль обратна роли безумия в сказках и сатирах, но дополняет ее. Если Глупость ввергает каждого в какое-то ослепление, когда человек теряет себя, то Дурак, напротив, возвращает его к правде о себе самом; в комедии, где все обманывают друг друга и водят за нос сами себя, он являет собой комедию в квадрате, обманутый обман» [38, с. 35].
Получается следующая картина: Глупость и Безумие суть одно неразделимое целое, вытекающее из изгоняющей ее серьезности официальной культуры. «Мир готики с его завязанными в тугой узел духовными значениями начинает словно бы затуманиваться, и из этого тумана возникают фигуры, чей смысл нельзя воплотить иначе, нежели в различных видах помешательства» [38, с. 38].
" Серьезный" Ренессанс мог лишь внешне изолировать от себя Глупость, повесив амбарный замок на погреб Безумия. Карнавальное начало все равно проникает внутрь официальной культуры с вином из того амбара. Именно поэтому вскоре выходят на сцену ученые мужи с тем, чтобы валять Дурака. Нельзя забывать, что Глупость и Безумие как понятия пока слиты между собой. На этом этапе они не вступают в отношения друг с другом в каком-либо ином качестве.
Теперь следует перейти к рассмотрению непосредственно структуры брантовского корабля. Итак, перед нами — суда или же одно судно. Важно, что количественный фактор здесь большой роли не играет. Если Брант и говорит о «дурацком флоте» как о совокупности «галер, шхун, галиотов, баркасов, шлюпок, яхт и ботов» [8, с. 27], то лишь затем, чтобы подчеркнуть гротескную сущность своей модели, бесконечно расширяющейся в пространстве и времени. Пресловутая Глупландия не имеет своего особого топоса (поэтому и путь туда лежит «вокруг земли»), она — на капитанском мостике, с которого гордо смотрит вдаль, перед собой, главный Дурак — Себастиан Брант. «Я обличаю в этой книжке / Всех дураков и их делишки» [8, с. 79]…
Прямое обличение может подразумевать также некоторого рода поучение, иначе говоря, книга Бранта под таким углом рассмотрения может видеться очередным памятником дидактической литературы. Но почему-то вдруг автор помещает на палубу самого себя: «Рожать глупцов довольно трудно — / Особый нужен здесь талант! / А я — дурак Себастиан Брант» [8, с. 26], а вослед ему на борт попадает и читатель: «потерпи, будь малый скромный, — / Колпак получишь преогромный» [8, с. 29]. Таким образом, все участники культурного процесса околпачивания оказываются в одной системе. Поучать некого, потому как «в море разъяренном / Равно погибнуть суждено нам» [8, с. 107]. Тем не менее, автор настаивает на том, что его произведение дидактично и по содержанию, и по форме: «Ради пользы и благого поучения, для увещевания и поощрения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого» [8, с. 27].
Таким образом, Глупость предстает, умерщвляющей саму себя ради нового рождения. Она — изгой официальной культуры, но изгой только лишь для последней, ибо «гротескное тело не ограничено от остального мира, не замкнуто, не завершено, не готово, перерастает себя самого, выходит за свои пределы» [4, с. 32]. «Корабль дураков» — гротескная дидактика.
Глупость, однако, беснуется и эманирует, умирает и возрождается бесконечно, оставаясь кораблем с Дураком в центре, который и является причиной этих эманаций и перерождений. Окруженный морем корабль ограничен сушей. Одностороннее неприятие исторгающей сушей корабля очевидна (здесь происходит игра метафор): «фургоны, дроги, сани даже» [8, с. 28], набитые безумцами, спешат на суда, чтобы превратиться в вечных изгнанников. Но, с точки зрения Глупости, этой суши нет (карнавал стирает границы привычного, устоявшегося, стирает саму структуру элементов официальной культуры, смешивая эти элементы), корабль полностью превращается в водную систему. «Безумие становится проявлением в человеке некоего темного „водного“ начала, того сумрачного беспорядка, зыбкого хаоса, где все рождается и все умирает, — хаоса, противоречащего светозарному, зрелому, устойчивому разуму» [38, c. 34]. Фуко раскрывает «союз воды и безумия», показывая, как глубоко находятся эти образы в воображении европейца; автор данной работы, в свою очередь, обрисует взаимоотношения официальной и народной культур на примере такой аналогии: вода, захлестывая, затопляет сушу, делая ее частью себя, своим дном. Но и сама водная стихия, и это дно в океане совершенно равноправны, так, что можно плыть и стоять, находясь в одной системе.
Вернемся, все же, к кораблю. «В известном смысле, это плавание — всего лишь распространившееся вширь, на все полуреальное, полувоображаемое географическое пространство, пограничное положение безумца» [38, c. 33]. Дурак — узник перехода (passage), стоящий на пороге — с одной стороны, — а с другой — центр своей системы (именно по причине его существования свободной, способной постоянно развиваться). «Всякое движение в пространстве, всякое перемещение, кроме своего реального, сюжетного и бытового осмысления, имеет всегда определенное топографическое (иерархически окрашенное) осмысление, это — перемещение из одной топографической точки в другую, определяемое топографической структурой сцены и литературного пространства» [5, c. 265−266]. Далее Бахтин относит феномен порога к «засознательной области», в которой «происходит полная универсализация образа, отнесение его к целому миру, преодоление его внехудожественной единичности и абстрактной общности (понятийности, экземплярности, типичности и т. п.). Индивидуализирующая универсализация; она-то и нуждается в топографической схеме мира» [5, c. 267]. А коли так, Брант, взобравшийся на палубу к своим дуракам, собственноручно околпачивший себя, как автор создает действительно свободную систему. «Гротескный образ характеризует явление в состоянии его изменения, незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста и становления» [4, c. 31]. Однако, как было видно в самом начале данного повествования о Себастиане Бранте, рождение образа «Корабля дураков» генетически укореняется в бытовом изгнании безумцев, и эта самая первородящая форма создала ложные рамки для гротеска, который именно поэтому не может полностью органично взаимодействовать с «серьезным» Ренессансом: последний не понимает и не принимает гротескного языка (к примеру, Глупость как таковая не говорит еще на латыни: она вообще пока молчит, а Дурак — центральный активный образ брантовской системы — смеется на базарном немецком).
Кроме того, Глупость (или Безумие) в лице Дурака на палубе не остается абстрактной моделью. Дурак у Бранта — всегда частный, конкретный дурак, ведь сам автор и его читатель — безумцы индивидуального, неповторимого склада. В этом смысле, Безумие не испытывает недостатка в формах и проявлениях. С другой стороны, каждый конкретный Дурак универсален как центр системы. У Эразма, к которому рано или поздно это повествование подойдет вплотную, автора будет интересовать не столько фигура Глупца, сколько фигура Глупости. Дурак — это, все же, частность. Он может быть в качестве центра системы частностью даже универсальной, но оставаться при этом все равно причастным Глупости.
Глава IV. Образы Глупости и Безумия в творчестве художников Северного Ренессанса
4.1 Поэтика дюреровской гравюры
" Карнавал не знает разделения на исполнителя и зрителей" [4, c. 12]. Но он захватывает также все сферы бытия искусства, ведь формы карнавальной культуры бесконечно многообразны. «Брант написал „Корабль Дураков“ на немецком языке, да притом еще на языке, далеком от книжного педантизма, очень ярком и непосредственном, подслушанном на улицах и площадях, в харчевнях и ремесленных мастерских» , — говорит Б. Пуришев в статье «Немецкий и нидерландский Гуманизм» [8, c. 12]. Звуки площади и многогранные гротескные образы, пляшущие между строк книги Бранта, находят свое отражение не только в литературе, но и в изобразительном искусстве. Карнавальная культура разрешается и гибнет здесь, чтобы вновь и вновь возрождаться. Слово отелеснивается, принимает видимые очертания, поэтому можно говорить о своеобразной карнавальной поэтике картины или гравюры.
Гротескные образы в литературе и изобразительном искусстве одинаково живы и театральны. О театральности еще зайдет речь, пока же следует заметить, что, по Бахтину, ядро карнавальной культуры есть, «в сущности, сама жизнь, но оформленная игровым образом» [4, c. 12]. Кстати, именно театральное действо является центром композиции брейгелевской «Ярмарки» .
Итак, о поэтике изображения. Здесь необходимо сделать некоторое отступление. Одни и те же гротескные образы могут быть поданы по-разному. Первый способ — это передача их во всем лоскутном многоцветии на картине; другой — отпечатывание этих образов на гравюре.
Первый способ имеет свой ярко выраженный центр — это и есть сама картина. В гравюре матрица играет совершенно другую роль, роль обратной стороны. «В тенденции тело представляет и воплощает в себе весь материально-телесный мир как абсолютный низ, как телесную могилу и лоно, как ниву, в которую сеют и в которой вызревают новые всходы. Таковы линии этой своеобразной концепции тела. В романе Рабле она нашла свое наиболее полное применение» [4, c. 34]. Гротескная картина и есть это само себя порождающее и уничтожающее себя для нового возрождения тело. В этом смысле, Питер Брейгель с уже упомянутой «Ярмаркой» выражает, на взгляд автора этих строк, суть именно раблезианской модели. Гравюра имеет своим центром доску-матрицу, листы же с оттисками как бы дублируют ее, но изображение получается зеркально противоположным. Тогда как картину пишет создатель ее, и эту же самую картину воспринимает глаз постороннего зрителя, матрица в принципе доступна лишь художнику. Но, в то же время, гравюра бесконечно множится, поглощая новое пространство, не имея, однако, своего конкретного топоса (матрица отнюдь не является топосом гравюры, она — ее обратная сторона). Доска-оригинал уже есть модель, кроме того, она — начало порождающее, но, будучи предметом пограничным, оборачивает это понятие рождения собственной смертью (листы гравюр начинают существовать совершенно отдельно от нее). Не подобные ли черты можно видеть у дурацкой флотилии Себастиана Бранта?