Очерк восьмой КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛЮБОВНОГО ДИСКУРСА
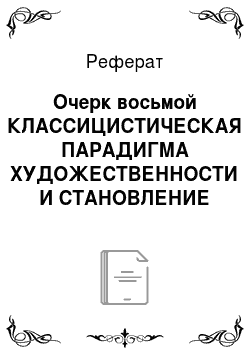
Определяющей креативной установкой для классициста является сугубо конвенциональное отношение писателя к языку как орудию текстопроизводства. Даже поэтические «вольности, в сложении стиха употребляемые» (формулировка Тредиаковского из трактата 1735 г.), подлежали строгой систематизации и составляли некий репертуар допустимых отступлений от правил грамматики. Характерна в этом отношении строгая… Читать ещё >
Очерк восьмой КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛЮБОВНОГО ДИСКУРСА (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Любовь — княгиня главна.
В. К. Тредиаковский Парадигмы художественности являют собой исторически конкретные системные единства аксиоматических (для своего времени) общекультурных представлений о месте искусства в жизни человека и общества, о его целях, задачах, возможностях и средствах, о критериях и образцах художественности. Появление и укрепление в общественном сознании каждой новой такой парадигмы совершается в стадиальной последовательности, именуемой художественно-историческим (в частности, литературным) процессом.
Понятие о парадигмах художественности пришло в современное искусствознание из науковедения: утвердилось по аналогии с категорией «парадигм научности», разработанной Томасом Куном в прославившей его книге «Структура научных революций» (см.: Очерк первый). Художественные парадигмы литературного процесса — в отличие от направлений и школ — объединяют не только писателей, но и читателей. Это духовные единения многих участников культурной жизни, исторические общности коммуникантов в сфере эстетических отношений, связанных единством ценностных предпочтений, образцов и критериев художественности. В конечном счете, они являются специфическими проявления соответствующей дискурсной формации.
Смена ведущей парадигмы художественности предполагает существенное изменение статусов субъекта (автора), предмета (произведения) и адресата эстетической деятельности, вытекающее из нового понимания ее природы. Эти перемены, естественно, приводят к смещению ценностных ориентиров художественного сознания. За такого рода изменениями всегда стоит некий качественный скачок творческой рефлексии: художественное сознание глубже проникает в природу самой художественности. Происходит открытие законов искусства, действовавших и ранее, но не актуальных (скрытых от сознания) для более ранних парадигм. Благодаря исторической силе преемственности никакая очередная парадигма художественности не в состоянии отменить освоенного ранее: гипертрофируя вновь открытое, она лишь оттесняет на второй план (дезактуализирует) то, что доминировало на предыдущей стадии и будет аккумулировано последующими.
Парадигмы художественности далеко не сводятся к творческим программам деятелей искусства. Это базовые коммуникативные стратегии организации креативно-рецептивного взаимодействия сознаний — при ведущей роли рецептивных установок художественного мышления. Ведь писатель, прежде всего, является первочитателем собственного текста — наиболее пристрастным читателем, облеченным властными редакторскими полномочиями.
Первоначальная парадигма художественности была выявлена и охарактеризована С. С. Аверинцевым под именем рефлективного традиционализма — такого состояния искусства слова, которому предшествует «дорефлективный традиционализм» фольклора и мифа с их не осознаваемой протохудожественностью. На стадии рефлективного традиционализма «литература осознает себя самое и тем самым впервые полагает себя самое именно как литературу, т. е. реальность особого рода, отличную от реальности быта или культа»[1]. В данном рефлективном акте искусство открывает свою семиотическую природу. Это является одним из существеннейших аспектов перехода от первой (дориторической) дискурсной формации — ко второй (нормативно-риторической), в основе которой обнаруживается «неоспоренность идеала передаваемого из поколения в поколение и кодифицируемого в нормативистской теории ремесленного умения»[2].
Содержание первой парадигмы художественности состоит в осознании семиотического закона конвенционалъности художественной деятельности, которая состоит в построении текстов и действительно является сугубо условной деятельностью оперирования знаками. Конечно, природа искусства к этой условности не сводится. Истинно художественное письмо в основе своей предстает деятельностью эстетической: индивидуально-творческой реализацией закона целостности, составляющего основу специфики данной культурной сферы. Однако от классицистической рефлексии эта внеремесленная сторона «изящных искусств» пока еще оставалась скрытой.
Утверждение классицизма в национальных культурах Европы, явившееся преодолением барочного ментального кризиса (см. предыдущий очерк), — это завершающий этап многовекового господства нормативно-риторической дискурсной формации. Названная формация доминировала в европейской художественной культуре вплоть до «эстетической революции» последних десятилетий XVIII века, положившей конец монополии ролевого менталитета в сфере художественного письма. Классицистическая субпарадигма этой великой транскультурной общности являет собой исторически наиболее позднюю фазу рефлективного традиционализма. Она основывается, как формулирует Ю. М. Лотман, «на стремлении представить всю сферу поэзии как единое, управляемое одними и теми же законами государство. Этот эстетический абсолютизм рассматривал и каждый отдельный текст, и всю империю поэзии в целом в свете единства художественных норм»[3].
Для всех модификаций рефлективного традиционализма в различные периоды его бытования статус поэтического дискурса оставался единым, сложившимся еще в греческой классической античности. «Примеры, — писал С. С. Аверинцев, — можно с равным успехом брать из литератур эллинизма, Рима, средневековья (вспомним „состязание“ латинских ученых поэтов XII в. с Овидием), как и Ренессанса, барокко и классицизма: коренного различия не обнаружится»[4]. Проза при этом не рассматривалась в ряду собственно художественных высказываний и не относилась к ведению поэтики.
Со стороны субъекта художественной деятельности искусство слова мыслилось ремесленнической деятельностью по правилам («техне» на языке Платона и Аристотеля), подлежащей оценке согласно императиву мастерства (уровня практического владения правилами и приемами следования им). Регламентарная форма художественного авторства воплощалась в фигуре Мастера, исполнителя некоторого жанрового задания, которое служило неоспоримым пределом его креативного самоограничения. Определяющим отношением художественности оказывается «ремесленное» отношение автор — материал; критерием художественности — каноническая «правильность» текста, отождествляемая с мастерством его создателя. Исполнение жанрового задания субъективно может совершенствоваться (до канонического предела образцовости), но само оно исторической динамикой якобы не обладает: «Испытав много перемен, — полагал Аристотель, — трагедия остановилась, приобретя достодолжную и вполне присущую ей форму»[5].
Сказанное вовсе не означает безразличия к индивидуальному вкладу автора в бытование поэтического ремесла. Всякая новая авторская индивидуальность заявляет о себе тем, что вступает с иными сочинителями в агональные отношения профессиональной соревновательности. Со-ревнование авторов (чем была, в частности, полисная культура античной трагедии) — это совместное ревностное отношение к регламенту художественного письма. В рамках нормативно-риторической формации, согласно формулировке Аверинцева, «автору для того и дана его индивидуальность, чтобы вечно участвовать в „состязании“ со своими предшественниками в рамках жанрового канона. Понятие „состязание“ […] — одна из важнейших универсалий литературной жизни под знаком рефлективного традиционализма»[6].
Автор классицистического литературного произведения являлся изготовителем текста как произведения (различение этих понятий произойдет лишь с воцарением постриторической дискурсной формации). «Ремесло» писателя состояло в обработке «сырого» (прозаического) речевого материала и преобразовании его в явление особого языка — язык поэзии. Резко повышенная конвенциональность этого языка с присущей ему эвиденциональной сообщаемостью готовых смыслов придавала классицистической дискурсии эмблематическую модальность.
Энкратическая референция этой дискурсии к императивной картине мира предполагала регулятивностъ художественного восприятия. Адресату художественной деятельности отводилась при этом роль своеобразного эксперта, потенциально не уступающего, а то и превосходящего автора в знании тех правил, по которым строится авторский текст. Основа не подвергаемого сомнению взаимопонимания между писателем и читателем — комплекс конвенций жанра, мотивированных авторитетностью его классических образцов.
В целом классицистическое литературное произведение являло собой образец дискурса с риторической интенцией долженствования (этос легитимности), функционирующего в нормативной метастратегии монологического согласия.
* * *.
После пребывания в Германии и Голландии, после двух лет, проведенных в Париже (1727—1729)[7], жадно впитывавший впечатления западноевропейской культурной жизни В. К. Тредиаковский возвращается в Россию, завершив обычный для молодых людей петровского призыва просветительский «круиз» по Европе. В качестве итога своего несистематического изучения западной словесности «студент В. Тредиаковский», как было указано на обложке, издает в 1730 году перевод любовно-аллегорического (т.е. эмблематического по своей семиотической модальности) романа Поля Тальмана «Езда в остров любви», присовокупив к тексту перевода 32 стихотворения собственного сочинения (на трех языках: русском, французском и на латыни). Под непритязательным названием «Стихи на разные случаи» они вошли в историю русской литературы как первая авторская книга лирики с далеко не случайной компоновкой текстов[8].
Поэзия «на случай», по замечанию Л. И. Сазоновой, — «самый распространенный тип стихотворений в Европе XVII в.»[9]. Сверхзадача приложения к переводному роману собственных стихотворений «окказионального жанра» состояла, прежде всего, в приобщении к этой традиции, в обретении авторского статуса, в притязании переводчика на право и самому называться поэтом. Однако, в то же время, опусы молодого стихотворца внедряли в русскую книжную поэзию не освоенную доселе тематику любовных отношений.
По поводу студенческих «Стихов на разные случаи» речь, разумеется, не может идти об индивидуально-личностном самоутверждении позднейшего (романтического) типа. Отказываясь от архаичного «славенского языка», пытаясь изъясняться в стихах «почти самым простым русским словом», прикладывая к своему переводу с французского «несколько стихов моей работы русских, французских и латинскую эпиграмму»[10], Тредиаковский ищет линию литературного поведения, адекватную задачам культурного строительства в «сотворенной» России (Петр для начинающего поэта — «своего государства новый сотворитель»). Под поэтическим пером бродячего студента нарождающаяся нововременная русская литература ищет себя, свое лицо, свой язык[11], двигаясь от средневековой церковнославянской книжности в сторону образцов французской классицистической и прециозной поэзии. При этом различий между первой и второй Тредиаковский не делает, воспринимая всю современную ему европейскую практику поэтического письма как нормативно-авторитетную.
Средневековая система словесности к концу первой трети XVIII века в России отнюдь не отмерла. В том же самом 1730 году публикуется книга переводов С. X. Любомирского под названием «Притчи». Данное хронологическое соседство весьма знаменательно. В сопоставлении переводческих стратегий этих книг обнаруживается далеко еще не угасшее противостояние старого и нового российского слова[12].
Созданная по большей части заграницей триязычная книга стихов собственной «работы» — это своего рода лаборатория, где студент Сорбонны Тредиаковский испытывает поэтические возможности родного языка в своеобразном соревновании языков. Как, впрочем, со свойственной ему отвагой неопытного бойца проверяет и свои личные профессиональные возможности поэта, экспериментирующего со сложившимися формами стихосложения. Стихотворство Тредиаковского неоднократно подвергалось осуждению, а порой и осмеянию. Однако ранние опыты этого новатора ставят под сомнение справедливость приговора, подкрепленного авторитетом М. Л. Гаспарова, утверждавшего, будто судьба русского стихосложения сложилась именно так, а не иначе потому, что у Ломоносова «был талант, какого не было у Тредиаковского»[13].
Тексты, составившие первую в истории русской литературы авторскую книгу лирики, по большей части представляют собой образчики «галантной» поэзии — еще не сложившейся в России салонной поэтической культуры. Они, как и перевод «Езды в остров Любви» (охарактеризованный самим переводчиком как «книга мирская»), осуществляли легитимацию тематики частных человеческих отношений в рамках постепенно формирующегося культурного пространства светского художественного письма.
Стихи эти несут на себе явственный отпечаток влияния французской поэтической школы вольнодумцев «либертенов» (Г. Шолье, Ш.-О. Лафар и др.), которые в своем противостоянии официально культивировавшемуся стоицизму классицистов «настойчиво разрабатывали учение Эпикура применительно к темам жизни и смерти, к проблеме бессмертия и земной любви», вследствие чего их произведения «не печатались, а распространялись в рукописях и только после смерти Людовика XIV стали постепенно проникать в печать»[14].
И, тем не менее, ранние стихотворные опусы Тредиаковского, в том числе галантные и шутливые, не правоверно классицистические (согласно западным меркам), по своей дискурсной формации должны быть отнесены к истокам русского классицизма. Практика этого литературного направления часто мыслится неразрывно связанной с гражданской тематикой, серьезностью социально-идеологической проблематики, моральным дидактизмом. Однако, с последовательно компаративистской точки зрения, важнейшим показателем идентификации литературного феномена выступает не его внешнее сходство или несходство с неким рядом явлений, а его сущностная принадлежность к стадиально определенной парадигме художественной культуры и — шире — к соответствующей дискурсной формации. «„Классицизм“ или „романтизм“, — резонно замечал Ю. М. Лотман, — не могут служить инструментом научного описания, а только лишь его объектом»[15]. Инструментальная же категория культурной парадигмы предполагает — словами того же Лотмана — «не только эксплицитно выраженную […] но и не получившую законченного выражения и не сведенную воедино систему представлений, если она […] определила исторически значимую художественную практику»[16].
Историческое своеобразие западного, в особенности французского, классицизма состояло в том, что это культурно-эстетическое новообразование явилось реакцией на первоначальный кризис авторитарноролевого менталитета. Европейский классицизм выступил своего рода «контрреформацией» в сфере эстетических отношений: строгая регламентация художественной практики классическими прецедентами в каждом отдельно взятом жанре оказалась исторически неслучайным аналогом контрреформации религиозной. (См.: Очерк первый.)
В России дело обстояло иначе. Регламентация поэтического сочинительства как явления общественно значимого происходила на фоне средневековой книжности, не оставлявшей места для собственно эстетической деятельности в сфере письменного слова. Лишь при Петре I, как отмечал А. М. Панченко, «писательство было выведено за круг обязанностей ученого монашества»[17]. «Переворот в литературном быте» заключался не только в том, что «писатель, сочиняющий по обету или внутреннему убеждению, сменяется грамотеем, пишущим по заказу», «литературным поденщиком», но и в том еще, что литература отныне «должна была также развлекать»[18]. Последнее открывало дорогу в сферу письма эстетическим ориентирам (закономерно потребовавшим вскоре реформы стихосложения), таким ориентирам писательской деятельности, которые были неведомы и чужды средневековому русскому книжнику.
Древнерусская книжность регламентировалась критериями канонической истинности и праведности и не знала критериев привлекательности и яркости, гармонии и совершенства. Она вообще не ведала «художественности» в том значении этого слова, какое утвердилось в русском языке в Новое время. Это, впрочем, не свидетельствовало об иной дискурсной формации: нормативно-риторическая дискурсия может руководствоваться различными системами нормативов. Так, «радикальная антириторическая позиция» Аввакума и иных идеологов старообрядчества была в действительности борьбой против латинских «свободных наук» за верность более косным регламентарным ориентирам, унаследованным от Василия Великого, Иоанна Златоуста и Афанасия Александрийского[19].
Эстетические ценности пришли в русскую литературу как барочные — «в порядке прямого переноса на местную почву опыта соседней, польской литературы», что, по словам И. П. Еремина, «ускорило здесь процесс становления „новой“ литературы […] привило ей новые, ранее не известные жанры и виды художественного творчества — поэзию и драматургию»[20]. Следует, однако, вслед за Д. С. Лихачевым подчеркнуть, что «западное влияние в русской литературе и культуре в целом, которое казалось ранее причиной перехода русской культуры на новые рельсы, на самом деле было следствием этого перехода»[21], совершившегося по собственным, внутренне закономерным причинам ментального свойства, среди которых «на первом месте стоит развитие личностного начала во всех видах творчества»[22]. Однако «личностное начало» пока еще не было отмечено тем эгоцентризмом, который ведет к диалогическому разногласию и девиантному авторству; оно искало для себя инновационных, однако не провокативных, а вполне готовых и авторитетных форм манифестации своей креативности.
Русское барокко, как отмечал Д. С. Лихачев, «по своей исторической роли было совсем иным, чем в других европейских странах»[23]. Вследствие ближневосточно-византийских, а не римских корней российской словесности и отсутствия в ее истории периода возрождения античных нормативов «между русским барокко и русским классицизмом нет такой отчетливой грани, как в Западной Европе»[24]. В частности, «просветительский характер» русского барокко «сыграл огромную роль в секуляризации литературы», что облегчало «переход от древней литературы к новой, имело „буферное“ значение»[25].
По этой причине жанрово-тематическое и версификационно-стилевое новаторство русских поэтов-классицистов мыслилось не альтернативой поэтической практике Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева, Кариона Истомина, Феофана Прокоповича, но ее последовательным развитием и совершенствованием. Тот факт, что новаторство молодого Тредиаковского и его современников — «сотрудников» по поэтическому цеху — носило преимущественно заимствованный, имитационный характер, не имеет существенного значения: на данной исторической ступени развития сферы эстетических отношений критерий оригинальности в художественном самосознании литературы полностью отсутствовал. Рефлективный традиционализм наделял литературное произведение статусом более или менее удачной манифестацией своего эйдоса[26] — образцовой возможности произведения определенного типа. Это позволяет Тредиаковскому предполагать, как он делает в обращении «К читателю» своих «Сочинений и переводов» 1752 г., что перевод в иных случаях может быть совершеннее подлинника.
Нормативно-риторическая формация для каждого дискурса предполагает наличие собственного жанрового канона — совокупности правил построения идеального текста. Наличием таких правил питается представление о том, что произведение искусства не в себе самом несет свою внутреннюю норму (как будет полагать, например, Гёте), а должно быть оцениваемо по степени реализованности в нем некоторой внешней нормы. Предлагая в реформаторском трактате «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1835) свой «пример» эпистолы, чего «российским стихом прежде меня, буде не обманываюсь, никто еще не писывал», Тредиаковский устанавливает соответствующий ориентир для нормативного художественного сознания: «На французском языке господин Боало Депрео толь преизрядные писал эпистолы стихами, что уже лучше его, кажется, написать нельзя»[27].
Авторитетный прецедент — наиболее весомый аргумент для художественного сознания этой исторической эпохи. Авторитет же французской литературы как твердыни европейского классицизма в 1725—1730 гг., когда создавались «Стихи на разные случаи», был пока еще незыблем. Поэтому образцы не только гражданской лирики, но и галантного стихотворства на «образцовом» поэтическом языке Европы представляются Тредиаковскому и его современникам имеющими достойную внимания самостоятельную и нелегковесную ценность. Тем более, что жанрово-тематическое преобразование российской словесности, вследствие которого, по выражению А. М. Панченко, «были сняты запреты на смех и на любовь», воспринималось тогда как наследие Петра I: «Это была тоже своего рода реформа, и реформа с далеко идущими последствиями»[28].
Помимо тематической актуальности в период созревания национальной поэтической культуры существеннейшим аргументом в пользу любого литературного опыта является его формальная изощренность. Именно к ней начинающий Тредиаковский и стремился в меру своих возможностей, пытаясь охватить широкий круг жанровых и строфических форм, сложившихся в литературе-доноре.
Весьма показательно для авторского самосознания начинающего классициста такое заглавие текста, сочиненного им на французском языке: «Сон, учинен песнию наподобие одной песни французской „La reine si belle“, и с ее же рефреном». Подражание, имитация, использование чужого текста в качестве прецедента, эталона, матрицы в пределах классицистического сознания не только не зазорно, но напротив, достойно уверенного в себе автора, свидетельствует о его социокультурной амбициозности. («Надлежит подражать» убежденно настаивал Тредиаковский в своем «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» — этом первом опыте регламентации русского поэтического письма.) В конечном счете, вся рассматриваемая книга есть не что иное, как заявка будущего мастера о своих литературных амбициях.
Характерно, что одно из стихотворений в подборке Тредиаковского называется «Объяснение в любви французской работы», тогда как следующее за ним (написанное тоже по-французски) озаглавлено: «Ответ на оное моего труда», — что предполагает некую состязательную ситуацию соположения двух сочинений. Вероятнее всего первое из этой пары стихотворений вовсе не принадлежит Тредиаковскому. Функционирование поэтического текста без имени автора — как общекультурного достояния — в XVIII столетии было еще явлением достаточно распространенным.
Определяющей креативной установкой для классициста является сугубо конвенциональное отношение писателя к языку как орудию текстопроизводства. Даже поэтические «вольности, в сложении стиха употребляемые» (формулировка Тредиаковского из трактата 1735 г.), подлежали строгой систематизации и составляли некий репертуар допустимых отступлений от правил грамматики. Характерна в этом отношении строгая регламентация обращения литератора с наиболее условными текстовыми знаками — знаками препинания, запечатленная Тредиаковским в стихах под названием: «Правила, как знать надлежит, где ставить запятую, точку с запятою, двоеточие, точку, вопросительную и удивительную». Возможно, здесь мы имеем полемический отклик на позицию другого (французского) переводчика Пьера Ле Лонга, в 1728 г. переложившего с английского роман Д. Барклая «Аргенида» и при этом (в отличие от Тредиаковского, переводившего этот же роман еще в 1725 г.[29]) намеренно устранившего из текста стихотворные вставки. В предисловии к своему переводу Ле Лонг провозглашал свободу орфографии.
В рамках утверждающейся нормативно-риторической парадигмы художественности писатель — это искушенный исполнитель неких предписаний, а не стихийный выразитель трудноуловимых вдохновений и творческих порывов. И общее название книги стихов Тредиаковского, и заголовки многих отдельных ее текстов подчеркивают, что импульс к написанию был получаем не изнутри, а извне, что он носил референтный, а не креативный характер («Песнь сочинена в Гамбурге к торжественному празднованию коронации…», «Элегия о смерти Петра Великого», «Стихи эпиталамические на брак его сиятельства…», «Песня на оный благополучный брак», «Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских школах, на мой выезд в чужие край», «Стихи похвальные России», «Стихи похвальные Парижу» и др.).
Креативная мотивировка поэтического акта, если она и манифестируется Тредиаковским, то исходит не от авторского самовыражения, а от жанрового задания, которое автор берется осуществить: элегия, эпиталама, баллада, «басенка», «песенка любовна», ода, эпиграмма. Ведущая роль при этом в художественном целом книги принадлежит любовной лирике, но не как исповедально-авторскому дискурсу (чем она станет в XIX веке), а как жанровому образованию, столь же регламентарному, как и любое другое. Даже в словах любви «писатель ориентировался […] на культурную задачу»[30], а не на сокровенную жизнь собственной личности.
В соответствии с риторической интенцией легитимности читателю классицизмом отводится роль сведущего ценителя, обладающего знанием конвенций поэтической деятельности. Не случайно решение свое издать книгу собственных стихов Тредиаковский мотивирует пожеланием «ведущих в стихах друзей», а саму книгу завершает эпиграммойвызовом, бросаемым пристрастному, но осведомленному читателю, способному оценить мастерство исполнения.
В энкратической метаситуации классицистического письма адресату отводится иерархически более высокое место, чем автору. Классицистический писатель как бы «состоит на службе» у читателя. Но при этом в русском литературном контексте XVIII столетия, как характеризовал его Ю. М. Лотман, «писатель не следует за культурной ситуацией, а активно создает ее. Он исходит из необходимости создавать не только тексты, но и читателей этих текстов, и культуру, для которой эти тексты будут органичны»[31].
Для молодого Тредиаковского такое положение дел оказывалось еще более радикальным. Переводчик и сочинитель не мог не знать, что экспертный читательский опыт достаточного количества и качества в России только формируется и далеко еще не накоплен. Но обычное для рефлективного традиционализма доминирование рецептивной компетенции поэтического письма над креативной компетенцией явственно обнаруживается и в «Стихах на разные случаи». Оно проявляется в очевидных авторских усилиях по закладыванию основ первоначального читательского опыта, отвечающего параметрам утверждающейся культурной парадигмы.
Усилия эти состояли не только в демонстрации различных жанровых, строфических, стилистических и ритмических возможностей стихосложения, но и в моделировании типовых коммуникативных ситуаций любовного характера: «объявление» любви, «прошение» о любви, галантное «желание» (пожелание) удачной любви, «Песенка о непостоянстве девушек», «Стихи о силе любви», «Похвала всякой милой», «Прощание при разлучении со всякой милой», «Тоска любовницына в разлучении с любовником», «Тоска любовникова в разлучении с любовницею» и др.
Иногда к такой генерализованной ситуации, вбирающей в себя «всякий» любовный опыт, поэтом присоединяется абстрактно индивидуализированный атрибут, отнюдь не разрушающий ее стандартности, а лишь добавляющий некоторую пикантность, столь желательную в любовной лирике, мыслимой как жанровое образование. Таковы, например, «Песенка к красной девушке, которая стыдится и будто не верит, когда ей говорят, что она хороша»; «Объявление любви одной девушке, которая всегда любила черненькую собачку на руках держать»; «Плач одного любовника, разлучившегося с своей милой, которую он видел во сне». Но само изложение любовных чувств в подобного рода текстах носит эталонно-типовой характер.
Об аналогичной природе и функции сопровожденного этими опусами переводного романа Ю. М. Лотман писал: «Это был своеобразный учебник шахматной теории любовного поведения. Для каждой ситуации давались нормативные выражения различных переживаний любовного чувства»; поэтические вставки предлагали «для каждого чувства ритуализованную форму выражения»[32]. Можно утверждать, что нормативная любовная лирика явилась в постпетровской России своеобразной формой исторически актуального «культурного строительства» в сфере частных человеческих отношений.
Особо следует отметить фривольное стихотворение «Сон, учинен песнию…», написанное по-французски в подражание французской песенке и заключающее в себе вербальные характеристики интимных ситуаций, не имевших галантного наименования в тогдашнем русском языке. Например: «Sa langue, а та bouche / repondoit si bien»; «Pour fruit de mon zele / Quand je mouille au Port»; «А demi pucelle / Qu’elle etoit епсог» (в позднейшем переводе M. Кузмина: «Устам отвечала / Своим языком», «Желанье дождалось… / Уж гавань видна…», «Полдевой осталась, / Верна, неверна»). У самого Тредиаковского аналогичные ситуации по-русски озвучены крайне неуклюже. В переводе из Тальмана читаем: «Руки ей давил, щупал и все тело» (в подлиннике этой строке соответствует нечто совершенно иное: «Ses baisers redoubles etaient son seul langage»).
Но, так или иначе, в любовных песенках, как и в самом переводе «Езды», Тредиаковский в меру исторически наличных языковых возможностей исправно исполняет свою писательскую «должность», как она мыслилась с позиций рефлективного традиционализма. Он своей книгой демонстрирует сложившуюся в европейской культуре коммуникативную стратегию любовного общения, а в русскоязычных текстах создает прецедент и разрабатывает самый язык любовного дискурса, столь скупо представленного в русском фольклоре и совершенно не освоенного тогдашней русской литературой, которая в XVII в. все еще «не знала любовной темы»[33].
Сопоставляя разноязычные тексты книги, можно констатировать, что русский поэт много лучше выражается по-французски, нежели на родном языке. Аналогичная разница наблюдается и во владении стихотворной техникой силлабического стиха[34]. Это объясняется, прежде всего, несопоставимостью исторической глубины и основательности национальных литературных традиций.
Нормативное литературное сознание классицистического периода — в отличие от романтической эпохи — еще не мыслило в категориях национальной самобытности. Однако собственный язык любого этноса изначально самобытен. Для классициста проблема состоит в уровне соответствующего развития национального языка, чем был серьезно озабочен и автор «Стихов на разные случаи». Корявость многих речевых оборотов, изобретаемых Тредиаковским, говорит не столько о его собственной поэтической «глухоте», сколько о «глухоте» современного ему русского языка к эстетическим потребностям книжной (нефольклорной) поэзии.
Весьма показательна в этом отношении «Ода о непостоянстве мира». Французская версия этого произведения помещена после русского стихотворения с таким названием и поименована: «Та ж самая ода по-французски». Однако при сопоставлении двух текстов, манифестирующих один и тот же эйдос, возникает и упрочивается впечатление, что именно французский вариант явился первоисточником. «Которое из этих двух стихотворений — оригинал? — спрашивал Е. Г. Эткинд. — Я склонен думать, что французское»[35]. Попытаюсь со своей стороны аргументировать это предположение.
Прежде всего, становится заметным, что по-французски Тредиаковский рифмует лучше и увереннее, чем по-русски, когда поэт мирится с рифмой мысли — вышли и не гнушается элементарными глагольными рифмами: пременяет — отнимает, восходит — сходит, пребывает — пропадает, будет — избудет. При этом оба стихотворения состоят из двенадцати пятистрочных строф, но французское имеет схему рифмовки ababa, тогда как в русских строфах после перекрестной рифмовки следует холостой стих, чем задача скрытого перевода на русский заметно облегчается.
Предумышленная и будто бы конструктивно целесообразная безрифменность пятого стиха в концах русских строф подчеркивается его укороченностью (5 слогов вместо 7 в предыдущих четырех строках). Однако во французском варианте заключительный стих строфы рифмуется и ритмически не отличается от предшествующих, хотя графически и выделен, как если бы он был укороченным.
Особенно любопытно соотношение пятых строф обоих текстов. Начальному стиху французской строфы («Les vents, quand ils sont en fureur») в русском варианте соответствует заключительный стих предыдущей (четвертой) строфы: «А ветр гневливый», — что создает ничем не обоснованный межстрофный перенос. При этом третья строка пятой строфы в русском тексте вообще отсутствует (заменена точками). Остается констатировать, что автору не удалось в русских стихах передать фразу «La noir malice avec ardeur / poursuit la bonte» из своего же французского стихотворения, тогда как неуклюжее завершение неполноценной строфы («Скорый припадок!») вовсе не имеет соответствия во французском «первоисточнике».
Как бы то ни было, этой парой идентичных по содержанию и уподобляемых по форме стихотворений Тредиаковский явственно продемонстрировал не только «европейский уровень» собственного поэтического ремесла. Невольно он выявил и превосходство исторически более зрелой французской поэтической культуры над отрочески угловатой и неумелой русской, переживающей тот период своего становления, который можно уподобить «ломке» переходного возраста. Согласно авторитетному суждению Е. Г. Эткинда, по этим текстам можно судить, «насколько техника французского стиха была в 1730 г. полнее и тоньше разработана, насколько в ту пору русский поэтический язык по гибкости уступал французскому»[36].
Данный тезис легко подтверждается, например, наблюдениями за стиховыми переносами[37] в поэзии Тредиаковского. Отвергая вслед за Буало «мерзкий перенос» в качестве «порока стихов» (тогда как Кантемир считал его «украшением» стиха[38]), в первой своей книге молодой поэт не допускает их, когда пишет по-французски, но в русских тринадцатисложниках «порочные» переносы не редкость. Ими охвачены 39 стихов из 288 (13,5%).
Несоответствие уровней развитости поэтического языка (и самого любовного дискурса как такового) особенно очевидно в разноголосице французских текстов и предпосылаемых им прозаически неуклюжих заглавий по-русски. Так, например, под заголовком «Баллад о том, что любовь без заплаты не бывает от женска пола» (по-французски у самого Тредиаковского эта мысль звучит много изящнее: «Jamais sans prix on ne reste en amour») помещается текст изысканной балладной формы: три строфы со сквозной рифмовкой ababbccdcd, с рефреном и заключительной полустрофой-посылкой.
Сочинить русскую балладу — в параллель к французской — Тредиаковскому оказалось, по-видимому, не под силу, хотя он и стремился возможно полнее воссоздать в отечественном слове доступные ему образцы «галантного» стихотворства. И дело здесь не в ограниченности индивидуальных возможностей поэта, а в бедности актуального версификационного (в частности рифменного) фонда, в неразработанности (даже в прозаических формах повседневной практики) русского любовного дискурса.
Как и всякого классициста, Тредиаковского заботит, прежде всего, мера способности используемого словесного материала служить целям и задачам поэтического ремесла как высшей формы речевой деятельности. Отсюда нормативно-риторическая установка на выработку особого, специального художественного языка культуры. (С этой целью реформатор обращался порой и к опыту устно-поэтического, песенного национального слова — в противовес культовому языку средневековой книжности.) Спустя 5 лет после публикации своей первой книги в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» автор по поводу собственной «Эпистолы от российской поэзии к Аполлину» будет раздраженно пояснять, что «всё в ней как ни написано, то по-стихотворчески написано, что искусные люди довольно знают; и для того ревнующим нам по благочестию христианам нет тут никакого повода к соблазну»[39];
В поисках собственного специального языка для круга «искусных людей» (ценителей поэзии, включая и самих ее сочинителей) художественное мышление на классицистической его стадии оказывает явное предпочтение предельно конвенциональному использованию вербальных знаков в эмблематической модальности. Равно как и визуальным эмблемам в вербальном изложении:
Любовь, держа два сердца, пламенем горящи, Цепочкой золотою связаны блещащи, Шла за Гименом…
В эмблеме, говоря языком семиотики, редуцируется денотативное значение знака и устанавливается прямая и однозначная, эвиденциальная связь сигнала с концептом. Так, Тредиаковский вынужден пояснять для несведущих читателей, что «слово Купидин, которое употреблено во второй моей элегии, […] тут не за поганского Венерина выдуманного сына приемлется (мнимое значение. — В. Г.), но за пристрастие сердечное (концепт. — В. Г.), которое в законной любви»[40]. «Я объявляю, — говорится в другом месте, — что чрез Аполлина должно здесь разуметь желание сердечное, которое я имею, чтобы и в России развелась наука стихотворная, чрез которую многие народы пришли в высокую славу»[41]. Данная фраза есть ни что иное, как перевод авторского концептуального смысла с элитарного, высоко конвенционального языка поэзии на профанный язык прозы.
Простейшие эмблемы подобного рода (имена античных божеств или олицетворения общих понятий), широко культивировавшиеся французским и вообще всем европейским классицизмом, обильно встречаются и в «Стихах на разные случаи». Так, в «Элегии о смерти Петра Великого» активно действуют и высказываются эмблематически условные персонажи: Вселенна, Слава, Паллада, Марс, Нептун, Политика, Океан. Здесь олицетворяются также философия, механика, математика, иные науки («плачьте со мною ныне, науки драгие») и само искусство («плачь со мною, искусство»). В эпиталаме на брак князя Куракина последовательно фигурируют: Меркур, Аполлон, Купидон, Гимен, Любовь, Верность, Постоянство, Радость, Смерть, Паллада, Венера, Юнона, Диана, Юпитер. Вырванные из различных денотативных рядов значений.
(и в частности, из двух разных мифологий: греческой и римской) они уравнены принадлежностью к общему смысловому ряду концептов.
В любовной лирике книги встречаются: Купидо (многократно), Аполлон, музы, нимфы, Грация, Марс, Киприда, Зефир, парка. Характерно, что в «Стихах о силе любви» противоборствуют не Марс и Венера, а Марс и Любовь. Для автора это эмблематические синонимы, поскольку денотативный аспект знакового имени богини редуцирован до предела, а сама словесная эмблема «функционирует наподобие заданного термина»[42].
Концепт эмблемы охватывает все ее возможные денотаты, не нуждающиеся поэтому в индивидуальной конкретизации, которая эмблематической поэтике текста даже противопоказана. Характерно в этом отношении позднейшее рассуждение Тредиаковского о сатирической поэзии: «В сатирических эпистолах так должно человека хулить, чтоб только худые дела его порочить, и то не без закрышек и не без отверниц, укрывая, как можно, имя и всё то, по чему можно догадаться, что-то конечно и точно о сем, а не о другом человеке пишется»[43]. Перед нами начальная ступень художественного обобщения, впервые осваиваемая в русской литературе усилиями классицистического письма.
По справедливому наблюдению Ю. М. Лотмана, в творчестве Тредиаковского «реальность подменялась некоторой идеальной нормой», осуществлялась «замена реальности идеальной ее моделью»[44]. Следует лишь подчеркнуть, что отмеченная особенность не является индивидуально-историческим казусом. Она семиотически закономерна, поскольку такова вообще природа эмблематической дискурсии, присущей нормативно-риторической формации и отсылающей к риторической картине мира императивного типа.
При этом предельная условность эмблематического ознаковления Тредиаковским порой отчасти уравновешивалась индексальными знаками — прямыми указателями на внетекстовую реальность. Таково, например, включение в заглавие «Песни» к празднованию коронации слов: «сочинена в Гамбурге» и «бывшему тамо августа 10-го (по новому стилю) 1730». Или сопровождение строки «Весь статнее Гинниона, также и Батиста» подстрочным примечанием: «Два славные в Париже игроки на скрипице».
Знаменательными проявлениями эмблематического строя художественного мышления могут служить такие заглавия стихов, как «Похвала всякой милой» или «Прощание при разлучении со всякой милой». Впрочем, в заглавиях «Объявление любви одной девице…», «Желание, учиненное одной девице», «Песня одной девице, вышедшей замуж», «Плач одного любовника…» якобы индексально-указательное слово «одной» («одного») функционально вполне тождественно эмблематически-собирательным «некой» или «всякой».
Для различения эмблемы от символа целесообразно обратиться к кантовскому делению «интуитивного способа представления» на схематический, «когда понятию, которое постигается рассудком, дается соответствующее априорное созерцание»; и собственно символический, «когда под понятие, которое может мыслиться только разумом и которому не может соответствовать никакое чувственное созерцание, подводится […] созерцание […] по аналогии»[45].
Второго способа художественное мышление рефлективного традиционализма пока еще не знает. Оно оперирует «априорными созерцаниями», которые актуализируются эмблематическими знаками с готовым смыслом. «В слове, — писал Бахтин, — может ощущаться завершенная и строго отграниченная система смыслов; оно стремится к однозначности […] В нем звучит один голос […] Оно живет в готовом, стабильно дифференцированном и оцененном мире»[46]. Именно таково классицистическое слово молодого Тредиаковского.
Так, в стихах к торжественной коронации Анны Иоанновны императрица характеризуется как «Краснейше солнца и звезд сияюща ныне». Понятно, что эта строка вовсе не предполагает «чувственного созерцания» солнца и звезд. Традиционный устно-поэтический параллелизм превращен в эмблему неоспоримого превосходства той, кто «Порфирою златой одета / В императорском чине». Это очевидный пример кантовского «априорного созерцания», которое и далее разворачивается поэтом ради утверждения смысла коронации — безотносительно к области значений, подлежащей «чувственному созерцанию»: «Небо все ныне весело играет, / Солнце по нем лучше катает». Катание солнца, происходящее «лучше», чем нормально, — картина практически не представимая, или представимая лишь карикатурно, чего текст ни коим образом не предполагает, поскольку вообще не предполагает со стороны адресата имагинативности («вообразительности») восприятия.
Аналогичным образом строка «Начну на флейте стихи печальны» не предполагает иконического ее восприятия как вербальной «картинки», представляющей флейтиста. Музыкальный инструмент в данном случае — всего лишь эмблема, говоря современным языком, эстетической деятельности. В этом отношении флейта из «Стихов похвальных России» ничем не отличается от эмблематических музыкальных предметов из «Стихов похвальных Парижу», где «Аполлон с музы» играет «в лиры и в гусли, также и в флейдузы». Включение русских гуслей в этот интернациональный ряд инструментов здесь, конечно, принципиально значимо: они служат эмблемой всей российской поэзии, претендующей, по Тредиаковскому, на равнодостойное место в ряду поэзии мировой.
Различие конвенционально-эмблематической и позднейшей окказионально-иконической модальностей художественного письма может быть проиллюстрировано сопоставлением метонимических портретов России, которые разделяет временной отрезок истории русской поэзии длиной в 180 лет.
У Тредиаковского материнскую сущность России олицетворяет не названная, но очевидная фигура императрицы (уже не Анны Иоанновны, здравицей которой открывается ансамбль его оригинальных текстов, но «всякой» императрицы). Это именно фигура без лица, которое столь сиятельно, что просто не может быть увидено в его индивидуальном своеобразии:
Россия мати! свет мой безмерный!
Ах, как сидишь ты на троне красно!
Небу российску ты солнце ясно!
Красят иных всех златые скиптры, И драгоценна порфира, митры;
Ты собой скипетр свой украсила, И лицем светлым венец почтила.
У Александра Блока в стихотворении «Россия» ее женственная красота тоже декларируется, но здесь эмблематическая генерализация («прекрасные черты») нейтрализуется такими определениями этой красоты, как «нищая» и «разбойная», а под конец и вовсе снимается визуальной детализацией (иконически-имагинативной синекдохой):
А ты всё та же — лес, да поле, Да плат узорный до бровей…
Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под платка.
«Скиптры», «порфиры» и «митры» у Тредиаковского — слова с редуцированным денотативным значением, это носители готового смысла: концепта власти. По существу, Тредиаковский утверждает, что все прочие страны украшаются своей властью, тогда как Россия, напротив, способна собою украсить любую власть.
«Плат узорный до бровей» — микрофрагмент текста с сугубо конкретным денотативным значением, но без словарно определенного концепта. Смысловое наполнение детали здесь создается контекстной целостностью стихотворения и не манифестируется, как у Тредиаковского, отдельными словами (именами античных божеств, например) или словосочетаниями. При этом в блоковском стихотворении присутствует почти аналогичная мысль о взаимоотношениях России с ее властью, поданная однако в иконической модальности метафорически воображенной ситуации:
Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —.
Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты…
В стихах Тредиаковского пока еще господствует не контекстное, коннотативно-объемное, а плоско-словарное словоупотребление, которое эмблематически «стремится к однозначности» (Бахтин). Таково даже «Описание грозы, бывшия в Гаге» — текст, казалось бы, предполагавший имагинативно зримую фиксацию уникального события, действительно пережитого поэтом. Но ему удается воссоздать словами лишь предельно обобщенную картину ужаса перед лицом сокрушительной стихии:
Сердце упало:
Всё зло настало!
Сыплются грады, Бьют вертограды.
Все животны рыщут, Покоя не сыщут, Биют себя в груди Виноваты люди.
Всеобъемлющее множественное число (все животные, все небезгрешные люди, и даже «грады» вместо обычного в подобной ситуации «град») до предела ослабляет иконически-изобразительные возможности слова, максимально интенсифицируя его эвиденциально-умозрительные возможности сообщения готовых смыслов.
Такой строй дискурсии коррелирует с императивной картиной мира, ибо он актуален, говоря цитированными выше словами Бахтина, «в готовом, стабильно дифференцированном и оцененном мире». Это строгий миропорядок, где всему должному и достойному отведено свое место и время. Оплакивающая Петра I Паллада говорит Политике: «Но тебе плакать будет в своем свое время». Политика вступает после Паллады и Марса (то есть уступает мудрости и воинскому мужеству): «Дайте, — глаголет, — плачу моему место».
Тредиаковский ориентируется, разумеется, на христианскую, православную картину мира. В «Стихах похвальных России» он заверяет: «Твои все люди суть православны» (очередное эмблематическое спрямление, устранение частностей в характеристике многоконфессиональной страны). Политика в «Элегии», называя языческих богов «други», к Богу христианскому обращается: «Боже ты державный!» Однако риторическая картина мира, манифестируемая поэтической текстуальностью, не религиозно-средневековая, но светски-художественная, нововременная. Вместо прямой сакрализации власти и брачных уз, автором осуществляется конвенциональное их возвышение эмблематическими образами античных божеств.
Вероисповедание автора сказывается в том, что языческие боги оказываются слабее возвеличиваемого ими персонажа. Так, Петра Великого сама Паллада (Афина) называет «моя ты Паллада»:
Я прочих мудрости всех мною наставляла;
А тебя я сама в той слышати желала.
Марс же, в свою очередь, именует российского императора «Марсовой защитой»:
Ему же в храбрости я не могу сравниться, Разве только сень его могу похвалиться…
Возвратися, моя радость, Марсова защита:
Марс, не Марс без тебя есмь, ах! но волокита.
Христианский Бог является лишь в финальном аккорде «Элегии о смерти Петра Великого», оплакиваемой античными божками, чтобы ортодоксально возвыситься над ними:
Всюду плач, всюду туга презельна бывает.
Но у Бога велика радость процветает:
Яко Петр пребывает весел ныне в небе, Ибо по заслугам там ему быти требе.
Ценностная вершина христианского миропорядка писателем Нового времени не упоминается всуе. Она именуется еще только дважды: в стихах «к торжественному празднованию коронации» (восхваляя «Самодержицу Богом данну») и в «Оде о непостоянстве мира», осуществленной в двух вариантах: по-русски и по-французски. В русском тексте сказано: «Словом, нет и не будет / Ничего, кроме Бога». Но в собственной французской вариации на эту тему Тредиаковский прибегает к философическому перифразу: «l'etre supreme».
Противоположный полюс христианского мироустройства («Diable») также фигурирует в контексте поэтического ансамбля, но лишь однажды — во французском «Ответе на оное моего труда».
Императивная картина мира эмблематически всеобъемлюща. Действо коронации «императрикс Анны» разыгрывается между «Небом» и «Землей». В него включаются «солнце и звезды», «воздух» и «речные токи». Не удивительно, что «Вселенна» оказывается всего лишь одним из персонажей «Элегии о смерти Петра Великого».
Императивная картина мира антиномична («Бой у черного с белым, / У сухого есть с влажным», у молодого со старым, у низкого с высоким, у дня с ночью и т. п.), однако при этом едина и непротиворечива. Она предполагает только один верный путь жизненного поведения для каждой осуществляемой личностями роли в миропорядке. Все остальные возможности представляются недолжными, отвергаемыми, вытесняемыми в маргинальную зону жизни. Так в восхвалении России говорится:
В тебе вся вера благочестивым, К тебе примесу нет нечестивым;
В тебе не будет веры двойныя, К тебе не смеют приступить злые.
В репрезентируемом Тредиаковским укладе жизни (в полном соответствии с духом петровских реформ) отведено также место для «радости» и «веселья» — Париж. Однако его роль в миропорядке скромнее, нежели роль России (эти эмблематические хронотопы сопоставлены параллелизмом заглавий «Стихи похвальные России» и «Стихи похвальные Парижу»), Если России приписывается «Божие благородство», то «благородство» Парижа характеризуется посредством условно-поэтических (языческих) персонажей: «Богам, богиням ты место природно». Впрочем, прославляемое «изобилие» России не распространяется на явления культуры, тогда как о Париже, преодолевающем «дух зверски», говорится, что здесь «быть не смеет манер деревенски». Если Россия — средоточие мирового «благочестия», то Париж — средоточие мировой культуры и, прежде всего, литературы.
Известное усложнение в эмблематически упрощенную картину мира вносят «Стихи сенековы о смирении» и «Ода о непостоянстве мира». Однако отказ от «скользкой придворной дороги» в первом стихотворении или мрачные размышления во втором отнюдь не ставят под сомнение стройную систему миропорядка.
Перелагая Сенеку, русский поэт его устами декларирует поистине верный, должный путь в этом мире для поэта — для того, кто «смала» водит «компанию с музы». Это путь независимости от власти при всей ее благословенности свыше (независимости внешней, а не той внутренней, которую исповедовал Дю Белле). Тот, кто не стремится «выше всех при царе сести», смеет надеяться, как Сенека; «Простачком и старичком весел приду к гробу».
Здесь мы также имеем дело с нормативно-ролевым самоопределением личности, избирающей, однако, в данном случае социально автономную позицию. Подобное самоопределение писателя не имело прецедента в предшествующей русской словесности. Не случайно оно было обнародовано лишь в форме перевода с классической латыни. Но и в такой осторожной форме оно уже свидетельствовало о зародившейся (одновременно с образованием соответствующей области культуры) исторически закономерной тенденции к автономии поэтической деятельности от прямого идеологического служения. Впрочем, такая автономия еще не отменяла энкратической метаситуации поэтического дискурса как служения (музам, ремеслу).
«Оду о непостоянстве мира» открывают «дики мысли» по поводу обреченности всего в дольнем мире: «Кой цвет не вянет?» Но венчает ее все же уверенность в благости «великой силы» мира горнего, правильно упорядочивающей жизнь каждого.
Императивная картина мира ценностно иерархична. Это явственно отражено в тематической компоновке книги, игнорирующей последовательность написания стихотворений, хотя ее заглавие, казалось бы, предполагало простой кумулятивный принцип их соединения.
На первом месте — коронация ныне здравствующей императрицы. На втором — оплакивание смерти великого императора, созидателя актуального порядка в стране (обратная последовательность, вероятно, ослабила бы жизнеутверждающий пафос торжественной «Песни» о восшествии на престол). На третьем — похвала руководимой императорской властью стране (косвенно — возврат к славословию все той же императрице как ее олицетворению). Последующие «Стихи эпиталамические» посвящены семейным узам, которые — при существующем социальном порядке — составляют второй по значимости уровень властных отношений. И только вслед за ними помещаются стихи о частных человеческих отношениях — авторские вариации на темы «Езды в остров Любви». Между ними — хвалебная эпиграмма «господину К.», то есть персонажу эпиталамы А. Б. Куракину, но уже не как князю и покровителю поэта, а как частному лицу и полиглоту («россу» новой культурной формации). Она интересна восхвалением адресата с позиции равнодостойных отношений между «я» и «ты» в качестве субъектов культуры. Наконец, на последних местах помещены тексты, представляющие собой попытки поэтического оформления индивидуально-личностных впечатлений автора (чем в XIX веке станет практически вся классическая лирика).
Но и в этих наименее официальных произведениях лирическое «я» едва различимо под маской сочинителя как ролевой фигуры новой литературной формации. Более того, столь редкое в «студенческой» книге самообнаружение частного «образа автора» окрашивается стеснительной автоиронией: «Узнал я зараз, что-то Купидон воришка: / Ибо у меня таки столько есть умишка».
Каково же место любви в реконструируемой картине мира? Оно, что на первый взгляд может показаться неожиданным, — поистине ключевое.
В открывающем подборку славословии императрице Анну окружают Правда, Благочестие и «Любовь к подданным». В то же время она сама выступает предметом их любви: «Всех в любовь себе сердца преклонила вечну». При всей абстрактности этих деклараций любовь изначально привносится в вертикаль власти как ее должный атрибут.
Любовью порождается плач Вселенной о Петре Великом: «Почто весьма сиру мя оставил, любимый?» Причем перед горестью этой утраты отступает даже «православна вера». Политика рыдает о своем герое «не инако как жена безмужна». И даже сама Афина убивается о Петре не как олицетворение мудрости, но как женщина, утратившая возлюбленного: «Падает, обмирает, власы себе кбмит, / Всё на себе терзает, руки себе ломит, / Зияет, воздыхает, мутится очима, / Бездыханна, как мертва, не слышит ушима». Разумеется, здесь мы имеем не иконическую детализацию индивидуального горя, но эмблематическую гиперболизацию типовой скорби.
Само собой, много говорится о любви в «Стихах эпиталамических» и, конечно, в последующих, по большей части ей же посвященных. В «Прошение любве» провозглашается: «Все любви покорены». Наконец, в «Стихах о силе любви» она — «княгиня главна»: «Не без любви мир, договоры; / А прекращал кто б иной ссоры? / Словом, чинит по своей воле / Что захочет где се ли то ли […] / Не убежишь той в монастырях, / Любовь во всех председит пирах».
Как видим, мощь индивидуального человеческого чувства (без увязывания его с происками дьявола) превосходит, в конечном счете, даже благочестие. Как замечает И. 3. Серман, «любовь, по Тредиаковскому, сильней религии»[47]. Это радикальный разрыв с мироощущением, питавшим культуру средневековой книжности, но отнюдь не с нормативной дискурсной формацией.
В заключение обратимся к фигуре адресата, предполагаемого поэтическими текстами Тредиаковского, обращенными, по намерению его автора, к «новому российскому свету».
Прежде всего, это человек светский, сведущий в современной ему европейской культуре, просвещенный, владеющий несколькими языками (тексты на трех языках связаны в композиционное единство цикла, а не распадаются на «подциклы» по языковому признаку). Иначе говоря, это россиянин петровского призыва, чье сознание вмещало в себя, говоря словами Ю. М. Лотмана, «два контрастных этических идеала: идеал деятельного патриотизма» и горацианский «идеал частной жизни»[48].
Само соединение в «Стихах на разные случаи» державно-гражданственной тематики с любовно-развлекательной тематикой частной жизни воспроизводило эту новую модель присутствия человека в мире, сформированную петровскими реформами. Данное сцепление осуществлено связкой «Стихов эпиталамических на брак Его Сиятельства князя Александра Борисовича Куракина и княгини Александры Ивановны» (завершенных словами: «…не мог я с радости усидеть, / Чтоб следующу песню весело не запеть») с помещенной вслед за ними «Песней на оный благополучный брак», выполненной по-французски. Если в первом тексте этой связки достоинство героев обеспечено их «княжеским чином», то во втором они именуются «счастливыми любовниками» («heureux amans»).
Смена языка здесь, несомненно, семантически нагружена. С этого текста начинается переход к сфере личностных отношений, образ которой концентрируется в «Стихах похвальных Парижу», где он назван «всех радостей домом», а сам лирический герой предстает уже не подданным Российской империи, а земным жителем: «Пока имею здесь на земли быти». От такой концовки стихотворения закономерен переход к «Стихам Сенековым о смирении» и далее — к «Оде о непостоянстве мира», осуществленной, как уже говорилось выше, в двух языковых вариантах. Здесь оба тематических ряда смыкаются под сенью «милости Бога»:
Сей единый, сей вечный, Сей сильный, сей правдивый, Благий и бесконечный, Всеведущ прозорливый, Вся управляет.
Новый россиянин, сформированный петровской эпохой, к которому адресуется поэт, призван не забывать о вездесущности благого Бога, но его собственная превратная жизнь протекает между двумя полюсами не по вертикали (Бог и дьявол), а по горизонтали: между официальным строем государственной власти и неофициальным укладом частной жизни. На этом втором полюсе господствует иная власть — любви, которая «есть велико дело», поскольку «царит царями» и «правит всеми гражданы» («Стихи о силе любви»).
Поистине перед нами схематическая картина регулятивной системы ценностей того сознания, к которому обращены поэтические опусы переводчика «Езды в остров Любви». Укрывающаяся в тени официальной власти (и, соответственно, оттесненная в конец книги тематически) власть любовного чувства здесь готова уступить только воле божьей («Сего должно едина / Повиноваться воли»). Однако сама литература как светская форма коммуникации отныне служит не Богу, как служила ему средневековая книжность, но частной Любви и политической Власти.
И все же аудитория Тредиаковского складывается из сугубо «добродетельных» (регулятивно мыслящих) читателей, иных его поэзия не предполагает. Такой читатель руководствуется нормативно-ролевым сознанием, ожидающим от всякого допустимого в рамках культуры высказывания этоса легитимности — хотя бы то было и в сфере интимных отношений.
В 1735 году, несколько лучше узнав свою действительную аудиторию, поэт считает необходимым оправдаться перед нею. По поводу своих любовных элегий, сочинитель сообщает, что они написаны «по примеру многих древних и нынешних стихотворцев» (столь характерная для классицизма аргументация авторитетным прецедентом), а затем провозглашает: «…в том у добродетельного российского читателя прощение прося, объявляю ему, что я описываю в сих двух элегиях не зазорную любовь, но законную, то есть таковую, какова хвалится между благословенно любящими супругами»[49].
Впрочем, и в книге 1730 года регулятивное восприятие любовных текстов, осваивающих для культуры сферу интимных отношений, уже вполне предполагается. После нескольких стихотворных откликов на конкретные «разные случаи» Тредиаковский переходит к лирике типовых ситуаций — тоже «разных случаев».
Этот ряд начинают французская баллада о том, что безответной любви не бывает (рефрен в переводе М. Кузмина: «Последнее найдется снисхожденье»), и противоположная ей по смыслу французская «Басенка о непостоянстве девушек». Далее следует французская «Песенка к красной девушке, которая стыдится и будто не верит, когда ей говорят, что она хороша». Подлинный адресат этого текста не застенчивая девушка, а молодой человек, который бы мог бы воспользоваться предлагаемым эталоном и в подобных выражениях объясниться с подобной девушкой. Затем помещена пара французских текстов: типовое «Объявление любви» с претензией на изысканность и типовая негативная реакция со стороны предмета ухаживаний с рефреном: «Peste soit de sa chanson!» (в нестрогой передаче Кузмина: «К черту песенку твою»).
Далее идут русские тексты столь же типового характера: «Прошение любве» и «Песенка любовна», которая может быть обращена поистине ко «всякой милой». После стихов о Париже, о смирении и непостоянстве мира, а также латинской эпиграммы поэтический ряд регулятивной лирики типовых ситуация возобновляется. В текстах этого ряда, как и в самом переводе «Езды в остров Любви», Тредиаковским закладывается своего рода фундамент русского любовного дискурса — с демонстративной опорой на уже сложившийся (легитимный) французский.
Адресат такой лирики — тот, для кого литература «становится образцом для жизни»[50], кто готов воспользоваться ее текстами в «разных случаях» повседневной жизненной практики частных межличностных отношений как готовыми нормативными формами таких отношений. Подобный адресат был исторической реальностью, о чем говорит возникшая и утвердившаяся на некоторое время популярность песенок Тредиаковского, который, подобно российским «бардам» второй половины XX столетия, являлся одновременно и сочинителем музыки к своим стихам.
«В новом европеизированном быту России XVIII века — писал Ю. М. Лотман, — песня выполняла ту же (регулятивную. — В. Г.) роль, воспроизводя функцию любовной лирики в фольклоре — личное чувство получало готовые формулы выражения»[51]. Любопытно, что 200 лет спустя расцвет «авторской песни» ознаменовал собой типологически сходную ситуацию ментальной ломки общественного и индивидуального сознания, жаждавшего обрести для себя новые «формулы выражения» (уже, впрочем, не эмблематической, но метаболической природы). Этот исторически недавний культурный опыт советских «шестидесятых» способен отчасти прояснить культурно-эстетическую тональность ментального контекста, складывание которого было ознаменовано отважным литературным деянием студента Тредиаковского — настоящего культурного героя (с чертами трикстера).
- [1] Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 3.
- [2] Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. С. 8.
- [3] Лотман Ю. М.
Литература
в контексте русской культуры XVIII века // Ю. М. Лотман. О русской литературе. СПб., 1997. С. 165.
- [4] Лотман Ю. М.
Литература
в контексте русской культуры XVIII века. С. 5.
- [5] Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 51.
- [6] Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. С. 5.
- [7] См.: Успенский Б. А., Шишкин А. Б. Тредиаковский и янсенисты // Символ.Вып. 23. М" 1990.
- [8] См.: Дарвин М. Н. «Езда в остров любви» В. К. Тредиаковского как художественноецелое: «свое» и «чужое» // Художественная циклизация литературных произведений. Кемерово, 1994; Его же. «Стихи на разные случаи» В. К. Тредиаковского как форма выражения авторского сознания (язык поэзии и поэзия языка) // Дискурсивность и художественность. М., 2005.
- [9] СазоноваЛ. И. Литературная культура России: раннее Новое время. М., 2006. С. 375.
- [10] См.: Тредиаковский В. К. Езда в остров любви. Переведена с французского на русский чрез студента В. Тредиаковского… СПб., 1730.
- [11] См.: Успенский Б. А. Тредиаковский и история русского литературного языка //Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976.
- [12] См.: Николаев С. И. Элогиум и проповедь (проблемы изучения перевода «Adverbiamoralia» С. X. Любомирского 1730 г.) // Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII — начало XIX в. Л., 1981.
- [13] Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 30.
- [14] Серман И. 3. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973. С. 114.
- [15] Лотман Ю. М.
Литература
в контексте русской культуры XVIII века. С. 146.
- [16] Там же. С. 160.
- [17] Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху // Проблемылитературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974. С. 124.
- [18] Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху. С. 125.
- [19] См.: Сазонова Л. И. Литературная культура России: раннее Новое время. М., 2006.
- [20] Сборник ответов на вопросы по литературоведению. IV Международный съездславистов. М., 1958. С. 84—85.
- [21] Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л., 1985. С. 85.
- [22] Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. С. 84.
- [23] Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII вв.еков. Л., 1973. С. 204.
- [24] Там же. С. 207.
- [25] Там же.
- [26] Об эйдетической поэтике рефлективного традиционализма см.: Бройтман С. Н. Историческая поэтика // Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. Теория литературы: в 2 т. М" 2004. Т. 2. С. 117—123.
- [27] Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л., 1963. С. 388, 390
- [28] Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху. С. 125—126.
- [29] См.: Николаев С. И. Ранний Тредиаковский (Первый перевод «Аргениды» Д. Барклая) // Русская литература. 1987. № 2.
- [30] Лотман Ю. М.
Литература
в контексте русской культуры XVIII века. С. 134.
- [31] Лотман Ю. М.
Литература
в контексте русской культуры XVIII века.
- [32] Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века // Ю. М. Лотман. О русской литературе. С. 174.
- [33] Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху. С. 127.
- [34] См.: Тюпа В. И. Из предыстории русского классического стиха // Поэтика русскойлитературы в историко-культурном контексте. Новосибирск, 2008.
- [35] Эткинд Е. Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. Л., 1973. С. 14.
- [36] Эткинд Е. Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. С. 14.
- [37] Слово «перенос» как терминологический аналог французскому «enjambement"введено в отечественное стиховедение самим Тредиаковским.
- [38] См.: Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. Л., 1956. С. 414.
- [39] Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л., 1963. С. 390.
- [40] Там же. С. 396.
- [41] Там же. С. 390.
- [42] Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 167.
- [43] Тредиаковский В. К. Избранные произведения. С. 418.
- [44] Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века. С. 175.
- [45] Кант И. Критика способности суждения / Соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 373.
- [46] Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 513.
- [47] Серман И. 3. Русский классицизм. С. 111.
- [48] Лотман Ю. М.
Литература
в контексте русской культуры XVIII века. С. 128—129.
- [49] Тредиаковский В. К. Избранные произведения. С. 395.
- [50] Лотман Ю. М.
Литература
в контексте русской культуры XVIII века. С. 127.
- [51] Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века. С. 174.