Философия всеединства и русский духовный ренессанс
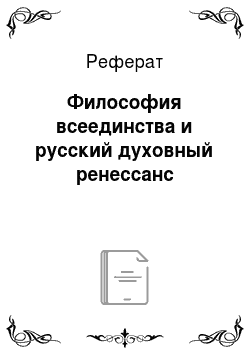
В ранний период своего творчества Соловьев находился под сильным влиянием славянофильства, о чем свидетельствует его статья «Три силы» (1877). В ней он проводил идею о том, что в современном человечестве действительное значение имеют только три исторических реальности, три культуры, а именно: мусульманский Восток, западная цивилизация и славянский мир. Мусульманский Восток, на его взгляд… Читать ещё >
Философия всеединства и русский духовный ренессанс (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. «Разложение» славянофильства, начатое в «русском византизме» Леонтьева, достигает своего апогея в творчестве Владимира Сергеевича Соловьева (1853−1900), который «своим собственным построением… лучше всего иллюстрировал… несовместимость славянофильства с современными этическими и общественными воззрениями»[1].
Он родился в семье русского историка С. М. Соловьева; по матери доводился дальним родственником украинского философа Григория Сковороды. Окончил Московский университет, но разряду историкофилологических наук. Обе диссертации: магистерскую «Кризис западной философии (против позитивистов) (1874) и докторскую «Критика отвлеченных начал» (1880), — защитил в Петербургском университете, где некоторое время состоял также доцентом. 28 марта 1881 г. он прочитал лекцию, в которой призывал помиловать убийц императора Александра II, что стало причиной отстранения его от преподавательской деятельности. С этого времени Соловьев выступает в качестве «свободного» философа, поэта и публициста. Помимо создания собственных произведений, он занимался переводами сочинений Платона, Канта и др. Активно содействовал основанию первого философского журнала в России («Вопросы философии и психологии»), был автором большинства философских статей в знаменитой энциклопедии Брокгауза и Эфрона.
а) В ранний период своего творчества Соловьев находился под сильным влиянием славянофильства, о чем свидетельствует его статья «Три силы» (1877). В ней он проводил идею о том, что в современном человечестве действительное значение имеют только три исторических реальности, три культуры, а именно: мусульманский Восток, западная цивилизация и славянский мир. Мусульманский Восток, на его взгляд, характеризуется крайним подчинением «единому началу религии», отрицающим «всякую множественность форм, всякую индивидуальную свободу»1. Напротив, в западной цивилизации «мы видим быстрое и непрерывное развитие, свободную игру сил, самостоятельность и исключительное самоутверждение всех частных форм и индивидуальных элементов»[2][3]. Из этого следовало, что «если мусульманский Восток… совершенно уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного Бога, то западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению безбожного человека»[4]. Однако история человечества не должна кончиться этим отрицательным результатом, на арену должна выдвинуться новая историческая сила, которая оживит, одухотворит два прежних элемента «высшим примирительным началом», дав «им общее безусловное содержание» и тем освободив «их от необходимости исключительного самоутверждения и взаимного отрицания»[5]. Таким третьим элементом, третьей силой Соловьеву и представлялось славянство, русский народ.
«Только Славянство, и в особенности Россия осталась свободною от этих двух низших потенций и, следовательно, может стать историческим проводником третьей. Между тем две первые силы совершили круг своего проявления и привели народы, им подвластные, к духовной смерти и разложению. Итак, повторяю, или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только Славянство и народ русский»1.
Примечательно, что, говоря о славянстве как «третьей исторической силе», призванной возродить человечество, Соловьев хотя и осмысливает его роль в религиозной перспективе, однако при этом вовсе не имеет в виду русское православие, как это делали славянофилы и Леонтьев. Он считал, что если придать православию «безусловную цену… как факту народной жизни»[6][7], то Россия превратится в «поместное» образование, остающееся вне какого бы то ни было цивилизационного процесса. Поэтому для Соловьева славянофильское представление о православии как «синтезе единства и свободы в любви» имело с самого начала значение «отвлеченного идеала», никак не отразившегося в русской действительности. Исходя из этого, он вообще становился на точку зрения историчности богооткровения, достигающего всей полноты своего воплощения только в положительной истине вселенского христианства.
б) Соответственно, религиозная вера, по мысли Соловьева, должна быть результатом свободного творческого поиска, а нс следствием слепого следования традициям и авторитетам.
«Исключительная, слепая вера несообразна достоинству человека. Она свойственна более или бесам, которые веруют и трепещут, или животным бессловесным, которые, конечно, принимают закон своей жизни на веру… Я сказал о бесах и животных не для красоты слога, а для исторического напоминания, а именно что религии, основанные на одной фактической, слепой вере или отказавшиеся от иных, лучших основ, всегда кончали или дьявольской кровожадностью, или скотским бесстыдством»[8].
Поэтому вместо традиционного догматического богословия, по Соловьеву, должна явиться новая наука — свободная теософия. Ее основу должна составить онтология «конкретного всеединства», которое мыслится им как Первоначало всего сущего. Эго Первоначало заключает в себе действительную возможность всего, оставаясь в то же время ничем, т. е. лишенным конечной сущности и не подлежащим никакому определению. Вследствие этого Первоначало как Сущее и Единое, т. е. как нечто безусловное, в философии Соловьева становится тождественно понятию ничто.
«Безусловное начало… есть ничто, так как оно не есть чтонибудь, не есть какое-нибудь определенное, ограниченное бытие или существо наряду с другими существами, так как оно выше всякого определения, так как оно свободно ото всего. Но свобода от всякого бытия (положительное ничто) не есть лишение всякого бытия (отрицательное ничто)… Божественное начало, свободное от всякого бытия, от всего, — вместе с тем и тем самым есть положительная сила, или мощь, всякого бытия, обладает всем, все есть его собственное содержание, и в этом смысле само божественное начало есть все»1.
Таким образом, Соловьев в своих рассуждениях о божественном Первоначале руководствуется принципами апофатичсского богословия, обоснованного еще в Арсопагитиках. Но как СущееНичто становится Всем? Как Единое становится Многим? Отвечая на этот вопрос, Соловьев говорит о необходимости выделить в Первоначале второй полюс: полюс Бытия, или Логоса. Этот второй полюс Первоначала у него фактически тождествен с платоновским миром идей-архетипов. Сущее и Логос соотносятся между собой так же, как в человеке соотнесены личность и мысли (идеи). Человеческая личность нс совпадает со своими идеями, но без идей она — просто ничто.
«Личность, лишенная идеи, была бы чем-то пустым, внешнею бессмысленною силой, ей нечего было бы осуществлять, и потому ее существование было бы только стремлением, усилием жить, а не настоящею жизнью. С другой стороны, идея без соответствующего субъекта или носителя, ее осуществляющего, была бы чем-то вполне страдательным и бессильным, чистым предметом, т. е. чем-то только представляемым, а не действительно существующим: для настоящего же полного бытия необходимо внутреннее единство личности и идеи, как жара и света в огне»[9][10].
Следовательно, Сущее и Бытие, Единое и Логос, так же как личность и ее идеи, не тождественны друг другу, но они не могут и мыслиться раздельно: Сущее без Идей есть Ничто, а Идеи без Сущего есть лишь чистые абстракции.
Вместе с тем наличие двух полюсов в Первоначале — Сущего и Бытия, Единого и Многого — предполагает и третий полюс: проявление Единого во Многом, Сущего в Бытии. Этот полюс Соловьев называет Духом. Вследствие этого Первоначало оказывается трехчастным: Сущее, Бытие, Дух, и эти три его части соответствуют трем ипостасям божественной Троицы: Отцу, Сыну и Святому Духу. Философ считает, что последовательное рассуждение о Первоначале неизбежно приводит к идее христианской Троицы.
«Признавая вообще божественное начало как Сущее с безусловным содержанием, необходимо признать в нем трех единосущных и нераздельных субъектов, из коих каждый по-своему относится к одной и той же безусловной сущности, по-своему обладает одним и тем же безусловным содержанием. Первый есть безусловное Первоначало, дух как самосущий, т. е. непосредственно существующий как абсолютная субстанция; второй есть вечное и адекватное проявление или выражение, существенное Слово первого, и третий есть Дух, возвращающийся к себе и тем замыкающий круг божественного бытия, Дух совершенный, или законченный, — Дух святой»1.
Структура Первоначала, по мысли Соловьева, в определенном смысле воспроизводится в структуре человека как образа и подобия Бога. Это означает, что человек, как и Бог, наделен элементом небытия, т. е. «отрицательной безусловностью», благодаря которой для него не существует не только никакого ограничения данным ему содержанием, но и предпосланной его существованию сущности. А потому он, «не удовлетворяясь никаким конечным условным содержанием… заявляет себя свободным от всякого внутреннего ограничения», что и составляет залог его «бесконечного развития»[11][12]. Иными словами, небытие дано человеку как свобода, способность выбирать самого себя, выходить за рамки всего, данного от рождения. Нельзя не отметить, что в этих размышлениях Соловьев предвосхитил такое направление философии XX в., как экзистенциализм.
в) В связи с учением о Сыне Божием возникает проблема сущностной природы человечества. Соловьев находит ее разрешение в понятии Софии, которая символизирует для него человечество как одно живое существо, человечество, объединенное любовью.
«Это Великое, царственное и женственное Существо, которое, не будучи ни Богом, ни вечным Сыном Божиим, ни ангелом, ни святым человеком, принимает почитание и от завершителя Ветхого завета, и от родоначальницы Нового, — кто же оно, как не само истинное, чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во временном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая с Ним все, что есть»1.
Таким образом, София, а следовательно, и человечество имеют женственную природу. София — цель всемирно-исторического развития и, одновременно, земная, телесная природа Христа. Это не противоречит женственной природе Софии, так как человеческая природа Христа имеет исключительно женственный исток (Христос рожден непорочным зачатием). Христос — это Логос и София. Как Логос, Он есть второе лицо Троицы, Сын Божий, обладающий полнотой божественной природы. Как София, Он есть Сын Человеческий, обладающий полнотой человеческой природы. В своем единстве Логос и София образуют то богочсловсчсскос начало, которое своей логосностью принадлежит сущности Бога, а своей софийностью — природе человечества. В соответствии с этой идеей, история мироздания должна завершиться полным восстановлением божественного всеединства.
г) Подобная онтология определяла и этические воззрения философа. Соловьев — сторонник так называемой моральной автономии. Нравственность, по его убеждению, не должна зависеть ни от религии, ни от науки, ни от теоретической метафизики, так как такая зависимость отнимала бы у нравственной области содержание и самостоятельное значение.
«Нравственная воля должна определяться к действиям исключительно через себя саму, всякое ее подчинение какому-либо извне идущему предписанию или повелению нарушает ее самостоятельность и потому должно быть признано недостойным»[13][14].
Субъективно нравственная воля детерминируется нравственными чувствами — стыдом, жалостью и благоговением, которые сами уже ни в каком обосновании нс нуждаются.
Однако Соловьев считал, что нравственность не может ограничиваться лишь субъективной сферой личной жизни. По самой своей природе она требует общественного осуществления. И здесь уже недостаточно ни нравственных чувств, ни совести, ни формального долга, так как все эти субъективные начала морали говорят нам лишь о том, чего мы не должны делать, но не указывают нам того, что мы делать должны, не дают никакой позитивной цели нашей деятельности. Моральный субъективизм «отнимает у нравственной воли реальные способы ее осуществления в общей жизни»1, а вне своего осуществления в общественной сфере мораль превращается лишь в отвлеченное понятие. Поэтому нравственные начала должны опираться на определенный общественный идеал.
Общественный идеал представлялся Соловьеву в виде некой Всемирной Теократии — объединенного человечества, возглавляемого Церковью и находящегося как бы под непосредственным управлением Бога. Эта Всемирная Теократия и есть цель исторического процесса.
«Цель исторического делания именно и состоит в окончательном оправдании добра, данного в нашем истинном сознании и лучшей воле; весь исторический процесс вырабатывает реальные условия, при которых добро может стать действительно общим достоянием, и без которых оно не может осуществляться. Все историческое развитие — и не только человечества, но и физического мира — сеть необходимый путь к совершенству»" .
Однако такой общественный идеал в качестве основы объективной этики предполагает оправдание того, что субъективные этические чувства обычно осуждают: войну, тюрьмы, смертную казнь и т. п. Субъективное нравственное чувство, например, безусловно осуждает войну, так как она связана с убийством ни в чем неповинных людей. Но, с точки зрения общественного идеала, войны, в конце концов, приводили к высшему из благ, к тому, что составляет сущность всякого блага, всякого добра, а именно к единству.
«В историческом процесс внешнего, политического объединения человечества война… была главным средством. Войны родов и кланов приводили к образованию государства, упразднявшего войну в пределах своей власти. Внешние войны между отдельными государствами приводили затем к созданию более обширных и сложных[15][16]
культурно-политических тел, стремящихся установить равновесие и мир в своих пределах"1.
«Величайшая из завоевательных держав — Римская империя прямо называла себя миром — pax romana»[17][18].
Нравственный смысл войны заключается, следовательно, в том, что война была и есть главное средство на нуги к осуществлению мира.
Общественный идеал историософии Соловьева, в конце концов, оказывался и тем началом, которым может быть оправдано существование самого зла. Объясняя природу зла, Соловьев встает на путь, известный многим христианским мыслителям (Августину Блаженному, Фоме Аквинскому, Иосифу Волоцкому): «Бог допускает зло, поскольку имеет в своей Премудрости возможность извлекать из зла большее благо, или наибольшее возможное совершенство, что и есть причина существования зла»[19]. Смысл истории заключается в победе добра над злом, но нет победы там, где нет противника.
Все народы, по Соловьеву, должны стремиться к объединению человечества. В этом заключается и миссия русского народа, глубочайший смысл «русской идеи». Россия самим своим географическим положением, исторической судьбой и религиозным характером русской нации могла бы внести важнейший вклад в дело всечеловеческого объединения. Для этого надо, прежде всего, побороть в себе национальный эгоизм.
«Но дух национального эгоизма не так-то легко отдает себя на жертву. У нас он нашел средство утвердиться, не отрекаясь открыто от религиозного характера, присущего русской нации. Не только признается, что русский народ — народ христианский, но напыщенно заявляется, что он — христианский народ по преимуществу и что Церковь есть истинная основа нашей национальной жизни; но все это лишь для того, чтобы утверждать, что Церковь имеется исключительно у нас, и что мы имеем монополию веры и христианской жизни. Таким образом Церковь, которая в действительности есть нерушимая скала вселенского единства и солидарности, становится для России палладиумом узко национального партикуляризма, а зачастую даже пассивным орудием эгоистической и ненавистнической политики»[20].
Однако даже если социальный прогресс, в конце концов, приведет к утверждению всемирного человеческого братства, к окончательной победе добра и справедливости, он не может быть нравственно оправдан, так как основан на страданиях предшествующих поколений. Невозможно рассматривать живших и ныне живущих людей как средство для благоденствия людей будущего. Из этого, согласно Соловьеву, следует, что исторический процесс должен закончиться воскресением всех когда-либо живших людей, чему собственно и учит христианская религия. Смерть — крайнее зло, и если ее нельзя победить, то никакие победы в общественной или личнонравственной области нельзя было бы считать серьезными успехами. Поэтому именно «общее Воскресение есть созидание совершенной формы для всего существующего, крайнее выражение и осуществление благого смысла вселенной и потому конец и цель истории»1. Причем, во взглядах на воскресение Соловьев придерживался известной еще со времен Оригена (II в. н. э.) доктрины, которую принято называть апокатастасисом". Согласно идее апокатостасиса, ад и геенна являются временными состояниями, всё заканчивается всеобщим спасением, вплоть до самого Сатаны. Не может быть, чтобы какая-то часть творения Божьего навечно осталась вне Бога. История мироздания завершается полным восстановлением Божественного Всеединства.
д) В последние годы жизни Соловьева его мировоззрение приобрело несколько пессимистический характер. В «Оправдании добра», «Трех разговорах» и других сочинениях второй половины 1890-х гг. Соловьев стал пророчествовать скорый закат западного, христианского мира, глобальную войну цивилизаций, нашествие на Европу объединенных идеологией панмонголизма восточных народов и, наконец, пришествие Антихриста. Одно из последних произведений Соловьева — «Три разговора» — содержит в себе «Краткую повесть об Антихристе», якобы оставленную неким загадочным отцом Пансофием. В согласии с традиционными христианскими представлениями, Соловьев изображает Антихриста не гонителем христианских церквей, а их «соблазнителем», т. е. человеком, который объединит церкви и заставит их служить в свое имя. Нетрудно заметить, что грядущее Царство Антихриста Соловьев описывает в тех же чертах, что и чаемую им в прошлом Всемирную теократию. Большинство друзей и последователей Соловьева (например, Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев) толковало такой поворот в миро-[21][22]
воззрении философа как отказ от характерного для XIX в. в целом социального утопизма. В конце жизни Соловьев как бы понял опасность всяких, в том числе и собственных, социально-политических утопий, всяких попыток установить Царство Божие на земле, и проникся знаменитыми словами Христа: «И не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, оно там» (Лк. 17, 20−21).
Сам философ определил смысл своих пророчеств о царстве Антихриста следующим образом: «Окончательное установление внешнего, политического единства решительно обнаружит его внутреннюю недостаточность, обнаружит ту нравственную истину, что мир внешний сам по себе еще не есть подлинное благо, а что он становится благом только в связи с внутренним перерождением человечества»1.
Этот акцент на внутреннем перерождении человечества стал доминирующей темой тех последователей Соловьева, которые определили своим творчеством русский духовный ренессанс.
- 2. Как писал Лосский, «в философии Соловьева много недостатков», однако именно он «явился создателем оригинальной русской системы философии и заложил основы целой школы русской религиозной и философской мысли, которая до сих пор продолжает жить и развиваться»[23][24].
- а) Но, разумеется, Соловьев не был единственным источником формирования русской «ренессансной» философии; сильнейший стимул для ее развития задавало также творчество двух величайших русских писателей — Федора Михайловича Достоевского (1821- 1881) и Льва Николаевича Толстого (1828−1910). Оба они, хотя и в разной форме, возрождали идеалы христоцентризма, полностью выветрившиеся в церковном православии.
Достоевский, сообщая о своем новом «символе веры» в письме к Н. Д. Фонвизиной от 20 февраля 1854 г., писал: «Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»1. Допуская возможность отделения Христа от истины, Достоевский фактически не исключал того, что Христос может вполне обойтись и без церкви, объявлявшей себя хранительницей христианской истины. Эта мысль получает свое наиболее полное выражение в его «Легенде о Великом инквизиторе». В ней кардинал римской церкви говорит Христу: «Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать, и сам эго знаешь»[25][26]. И еще повторил: «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете… К чему же теперь пришел нам мешать?»[27]. Хотя Достоевский приписывает эти высказывания главе католической конгрегации, но было ясно, что и русская церковь, в принципе, занимает сходные позиции.
Еще резче антицерковный мотив звучит в «символе веры» Толстого. Прежде всего, писатель прямо уклоняется от признания финитарного догмата: «Верю я в следующее: верю в Бога, которого я понимаю, как Дух, как Любовь, как начало всего. Верю в то, что Он во мне и я в Нем». Далее Толстой объявляет Христа не Сыном Божьим, а простым человеком, сходясь в этом отношении с древними еретиками-арианами: «Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством»[28]. Церковь признала эти суждения Толстого «зловредными» и предала их осуждению. Но это только усилило влияние его идей на религиозное богоискательство зарождающегося духовного ренессанса.
Сказанное позволяет утверждать, что Толстой и Достоевский не меньше Соловьева способствовали развитию нового «религиозного сознания», существенно изменившего весь сфой отечественного любомудрия в предреволюционную эпоху. Само эго название подчеркивает, что речь в те годы шла не просто о возрождения религии или сближения интеллигенции с церковью, а о стремлении глубоко преобразовать всю религиозную, культурную и общественную жизнь, обрести «новую церковь», «новую веру».
Термин «новое религиозное сознание» предложил Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865−1941), один из главных идеологов русского литературного символизма. В своих многочисленных религиозно-публицистических работах он утверждал, что христианская религия не выполнила своего предназначения на земле, не смогла радикально изменить мир, не дала людям «нового неба» и «новой земли». А все, на его взгляд, потому, что христианская церковь сосредоточилась на проблемах духа, совершенно отбросив проблемы плоти, провозгласила лишь духовную свободу, но забыла о свободе плотской, пошла на союз с деспотическим государством, вместо того, чтобы создавать новую безгосударственную общественность. «Новое религиозное сознание», прокламируемое Мережковским, должно было соединить в себе религию духа и религию плоти, христианство и язычество, Христа и Диониса.
Не в меньшей мере эпатировал публику другой видный представитель русского религиозного модернизма Василий Васильевич Розанов (1856−1918), выдвинувший ряд новых обвинений против христианской религии в целом. Он полагал, что Евангелие, исключив из своего содержания все элементы мирской жизни, оказалось несовместимо ни с искусством, ни с наукой, ни с политикой. «Христова — келья, а мир — не Христов», — не раз повторял писатель на страницах своих сочинений. Исток этого Розанов видел в неприятии христианством половой любви, т. е. в его чрезмерном аскетизме. Религия, не освящающая проблему пола, есть религия, которая на место бытия ставит небытие, на место жизни — смерть, на место колыбели — гроб. Христианство воспело и обожествило только смерть. «И ведь невозможно не заметить, — рассуждал Розанов в одной из своих статей, — что лишь не глядя на Иисуса — можно предаваться искусствам, семье, политике, науке. Гоголь взглянул внимательно на Иисуса — и бросил перо, умер. Да и весь мир, по мере того, как он внимательно глядит на Иисуса, бросает все и всякие дела свои — и умирает»[29]. Поэтому Розанов иногда начинал утверждать, что, например, иудаизм, с его бесконечными цепочками деторождений, или язычество, с его фаллическим обрядами, лучше, чем христианство; историческая церковь, постоянно идущая на компромиссы с миром, лучше, чем Евангелие, а «ряд попиков, кушающих севрюжину», лучше, чем Христос. Прямых последователей у Розанова в России не было, но его сочинения чрезвычайно активизировали русскую мысль в ее поисках нового, модернизированного образа христианской религии.
«Богоискательство» светской интеллигенции находило отклик и среди некоторых модернистски настроенных представителей духовно-академической среды. Так, в 1905 г. профессор Казанской духовной академии Виктор Иванович Несмелое (1863−1937) провозгласил своего рода антропологический поворот в богословии. Современное богословие, по его мнению, должно опираться не на догматику или метафизику, а на философскую антропологию. В основе антропологии Несмелова лежала идея глубокого и непреодолимого противоречия между миром земным и миром божественным. «Все стремления философской мысли отыскать Бога в мире, — писал он, — являются совершенно напрасными. Мир не подобен Богу и ничего божественного в себе не заключает, а потому гораздо скорее может закрывать собой Бога, нежели открывать Его»1. С этой точки зрения Несмелое отвергал понятие о Боге как первопричине мира. Бог — не первая причина мира, а абсолютная причина, причина вневременная, которая только дает основание мировому бытию, сама же по себе существует отдельно от мира. Однако, замечает он далее, в нашем внутреннем опыте есть сознание некоторого безусловного и неограниченного бытия, которое проявляется в постоянной неудовлетворенности состоянием наличного бытия, в ощущении «ненормальности» окружающего нас мира. Это сознание абсолютного бытия делает нас свободными, гак как «выносит» за пределы всего происходящего. И оно же приводит нас к Богу. Существование свободы, резюмировал Несмелов, определяется элементами «другого бытия — такого именно бытия, которое не входит в состав мировых вещей», но всецело обусловливается самим человеком как истинным образом «безусловного бытия»[30][31]. Следовательно, постижение природы нашей субъективности и нашей свободы является единственным истинным способом богопознания.
В 1908;1910 гг. профессор Московской духовной академии Михаил Михайлович Тареев (1870−1934) издал пятитомное сочинение «Основы христианства: Система религиозной мысли», в котором поставил под сомнение ценность святоотеческого учения, христианской патристики. «Между евангельским образом Христа и нашими понятиями, — писал богослов, — стоит апостольское, патриотическое догматическое учение, которое заслоняет от нас простоту евангельской истины»1. Патристика имела определенную, исторически ограниченную задачу — приспособить христианство к античному, языческому миру, к системе понятий древних греков и римлян. Выполнив эту задачу, она утратила всякую свою актуальность. Современное богословие, по мысли Тареева, должно стать своеобразной философией жизни, которая «первою своею задачей ставит учение о христианском опыте как историческом факте и личном переживании, учение о христианской жизни, учение о христианстве в его внутреннем духовном содержании"'. Другими словами, предлагалось найти такую формулу веры, которая брала бы христианскую религию нс в исторической условности, а в евангельской абсолютности, при этом ничего не «урезывая» в культуре и «во всей полноте и свободе» принимая естественные законы природного и социального мира.
- 3. Это пробудившееся стремление постичь сущность «нового религиозного сознания» привело в конечном счете к возникновению философии русского духовного ренессанса, которая органически сочетала в себе как персоналистический аспект, связанный с проблемами личности, свободы, творчества, так и космологический аспект, соединенный с познанием и проникновением в стихии мироздания. В самом общем виде ее можно разделить на три направления: экзистенциализм, который во главу угла ставил проблему индивидуального человеческого существования; софиология, которая сконцентрировалась на осмыслении судеб человечества и мира; идеал-реализм, который пытался определенным образом преодолеть противоречие между двумя вышеназванными подходами.
- а) К экзистенциальному направлению относится прежде всего Николай Александрович Бердяев (1874−1948), русский философ, чье творчество приобрело самую широкую известность на Западе.
Родился в Киеве, воспитывался дома, затем в кадетском корпусе. Поступил па естественный факультет Университета св. Владимира (Киев), через год перешел на юридический факультет. В 1897 г. за участие в студенческих беспорядках был арестован, отчислен из университета и сослан в Вологду. Некоторое время примыкал к группе авторов, называвших себя легальными марксистами. Но в начале XX в. он, как и многие представители этого направления (С. Н. Булга-[32][33]
ков, С. Л. Франк, П. Б. Струве и др.), перешел на позиции религиозной философии, испытав при этом наибольшее влияние со стороны В. И. Несмелова. В 1909 г. в знаменитом сборнике «Вехи» опубликовал свою программную статью «Философская истина и интеллигентская правда». За «контрреволюционную деятельность» был выслан большевиками из Советской России (1922) и последующие годы жил сначала в Германии, затем во Франции. В России издал такие свои знаменитые сочинения, как «Философия свободы», «Смысл творчества», в эмиграции — «Смысл истории», «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Я и мир объектов», «Русская идея» и др. Всего перу Бердяева принадлежат 43 книги и около 500 статей.
И в России, и в эмиграции главной темой философствования Бердяева были свобода и творчество. Творчество, согласно философу, — это не изменение условий человеческой жизни на земле, не преобразование природы и общества, а преображение самого бытия, «искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь»1. Допустить такое можно лишь предположив, что-то, что мы называем миром, есть ничто иное, как проекция человеческого я во вне. И Бердяев действительно во всех своих сочинениях утверждает, что «объективный мир не есть подлинный реальный мир… Объект есть порождение субъекта. Лишь субъект экзистенциален, лишь в субъекте познается реальность»[34][35]. Воспринимаемый нами мир — это мир человеческих смыслов, значений, ценностей, и вне всех этих смыслов и значений, он есть ничто, одна лишь возможность бытия. Поэтому всякое культурное смыслотворчество есть творение мира, творение бытия в прямом смысле этого слова. Вне человеческой культуры никакого мира нет.
Подлинное творчество — это, по Бердяеву, всегда создание нового, еще не бывшего. Оно никогда не может быть возвращением к чему-либо бывшему или являться лишь усовершенствованием того, что есть. Такое творчество, хотя и возложено на человека в качестве задачи Богом, в своих результатах Богом не предопределено. Творение мира не было завершено в шесть дней, а продолжается культурной деятельностью человека. Бог предназначил человека к творчеству бытия, но силы и способности свои человек берет не от Бога, а от иного, противоположного Богу начала, из Небытия, из «несотворенной свободы». Так что самому Богу неведомо, что, в конце концов, сотворят люди из своей жизни и истории.
Все эти идеи, по мнению Бердяева, совершенно чужды не только ортодоксальному христианскому богословию, но и Евангелию.
«В Евангелии нет ни одного слова о творчестве… Из откровения об искуплении нельзя вывести прямым путем откровения о творчестве»1.
Действительно, в христианстве речь может идти не о продолжении творения мира, а лишь о восстановлении того, что было утрачено с грехопадением первых людей, т. е. не о творчестве, а об искуплении. Согласно же Бердяеву, задачи искупления или личного нравственного совершенствования — напротив, помеха творчеству. Творческий человек «забывает о спасении… Если бы Пушкин занялся аскезой и самоспасением, то он, вероятно, перестал бы быть большим поэтом»[36][37]. В теологическом объяснении, целью человеческой деятельности является возвращение человека к состоянию до грехопадения, т. е. возвращение в Рай. Но в Рай, говорит Бердяев, «не только нельзя вернуться, но и не должно вернуться. Это означало бы бесприбыльность и, в конце концов, бессмысленность мирового процесса»[38]. Хотя именно такую «бесприбыльность» утверждает ортодоксальное христианство.
Подчеркивая независимость творчества от искупления, Бердяев приходит к выводу, что творческое задание дано было человеку еще до грехопадения. В этом смысле творчество стоит «по ту сторону добра и зла». Но грехопадение и последующие за ним задачи оправдания законом (Ветхий завет) и спасения через жертвенное искупление Иисуса Христа (Новый завет) отодвинули творчество на второй план. Мысль о том, что творение мира продолжается в культурном творчестве и что человеческая задача не исчерпывается задачей искупления, составляет, согласно Бердяеву, содержание еще не проявленного Третьего Завета, Завета Св. Духа. Что же касается Евангелия, то, как утверждает философ, мы чувствуем лишь «священный авторитет умолчания Евангелия о творчестве»[39].
Однако творчество человека обречено на неудачу. «Творчество есть великая неудача даже в своих самых совершенных продуктах, всегда не соответствующих творческому замыслу»[40]. Эту неизбежную творческую неудачу человека Бердяев называет «объективацей»: вместо преображения мира у людей всегда получатся создание еще одной «вещи» в этом несовершенном мире. Все достижения культуры носят символический, а не реалистический характер. А в реальности, созданный нами самими мир, с его природными и социальными законами, нам же враждебен, так как постоянно покушается на нашу свободу. И если в России Бердяев еще высказывался, хотя и весьма туманно, в пользу возможности реального преображения наличного бытия, то в эмигрантский период у философа явно стали преобладать пессимистические настроения. По его мнению, какое бы то ни было преодоление неблагоприятных условий жизни человека в этом мире вообще невозможно.
«Внутри истории невозможно наступление какого-либо абсолютного состояния, задача истории за ее пределами»1.
Бердяев приходит даже к той парадоксальной мысли, что конечным результатом земного человеческого творчества должен стать Ад.
«Ад и есть то новое, что явится в конце мировой жизни. Рай же не новое, рай есть возврат»[41][42].
Это высказывание можно считать своеобразным итогом философских поисков Бердяева, резюмирующих суть его экзистенциальных воззрений.
б) То, что стало итогом философии Бердяева, было, в определенном смысле, исходным пунктом философии Льва Исааковича Шестова (1866−1938).
Шестов (наст. фам. Шварцман) родился в Киеве в семье фабриканта. Обучался в Московском университете сначала на физикоматематическом, затем на юридическом факультете. Диссертация, посвященная рабочему вопросу, была отвергнута цензурой. В 1920 г. Шестов с семьей покинул Россию и обосновался во Франции. В круг его знакомых входили многие известные философы, такие как Э. Гуссерль, К. Лсви-Стросс, М. Шелер, М. Хайдеггер. Читал лекции в Сорбонне. Скончался в Париже.
Земное человеческое существование, согласно Шестову, это и есть Ад. Оно неизбывно трагично, абсурдно и беззащитно. Однако люди предпочитают не видеть трагичности своего бытия и жить в плену иллюзий, верить в существование неких естественных и социальных законов, дающих якобы надежные основания для жизни и деятельности. Только в особых «пограничных» ситуациях, прежде всего перед лицом смерти, человеку открывается та истина, что в этом мире нет ничего разумного и необходимого, что все в нем случайно и бессмысленно, что мир безразличен и враждебен человеку. Ангел смерти дает человеку «новую пару глаз», и тогда «человек начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами»1.
Лишь немногие мыслители, к которым Шестов причислял Шекспира, Паскаля, Ницше, Достоевского, Кьеркегора и самого себя, осмеливались видеть и говорить правду о человеческом существовании. Большинство же философов предпочитало спрятаться от действительности в мире абстрактных категорий и умозрительных истин. Но за это малодушие людям приходится платить своей свободой.
«Великие философы в погоне за знанием утратили драгоценный дар Творца — свободу»[43][44].
Задачу своей философии Шестов видел в том, чтобы стряхнуть с человека власть всеобщих, необходимых истин и научить его жить без страха в этом абсурдном и трагичном мире.
В эмиграции Шестов написал свои наиболее знаменитые произведения — «Власть ключей», «На весах Иова. Странствие по душам», «Афины и Иерусалим», «Киркегард и экзистенциальная философия», большинство из которых при жизни философа вышли только в переводах на французский или немецкий языки и лишь посмертно были опубликованы по-русски. Если в ранний период творчества (в работах «Шекспир и его критик Брандес», «Толстой и Ницше. Философия или проповедь», «Апофеоз беспочвенности») Шестов воспевал «абсурдного человека», т. е. человека, который, подобно герою «Записок из подполья» Достоевского, готов во имя своей свободы воевать с общепризнанными истинами, с «дважды два равно четыре», то теперь у философа стали все более проявляться религиозные настроения. Шестов становится проповедником абсолютно иррациональной веры, веры Авраама и Иова, которую он противопоставляет эллинистической религиозности, основанной на примате разума. Воспитанный в традициях иудаизма, Шестов однако избегал какой бы то ни было манифестации своих конфессиональных предпочтений, ссылаясь в равной мере на Ветхий и на Новый завет, на Талмуд и на творения христианских апологетов. В религиях важно не то, во что люди верят, а то, как они это делают, каков характер отношения человека к Богу. Подлинная вера, согласно учению Шестова, всегда бсзосновна. Она есть путь не столько к спасению, сколько к освобождению человека.
«Вера, которая, по Писанию, спасает нас и освобождает от греха, по нашему разумению, ведет в область чистого произвола, где человеческому мышлению нет никакой возможности ориентироваться, не на что опереться»[45].
Полная непримиримость истин разума и истин Откровения, «Афин» и «Иерусалима», стала основной, если не единственной темой творчества Шестова.
- 4. Софиологическое направление русского духовного ренессанса во многих отношениях представляло собой альтернативу экзистенциализму. Если экзистенциализм был склонен к радикальному отрицанию наличного бытия как сферы недолжной объективации или трагического абсурда, то софиология, напротив, искала пути к полному примирению человека с миром как проявлением божественного разума, Софии — Премудрости Божией.
- а) Наиболее полно софиологическое направление в русской философии представлено творчеством Сергея Николаевича Булгакова (1871−1944).
Он происходил из семьи потомственного священника, обучался в Орловской духовной семинарии, однако, пережив юношеский кризис веры, покинул ее и завершил образование в Московском университете, окончив его в 1894 г. по кафедре политической экономии и статистики. В этот же период примыкал к течению легальных марксистов. На рубеже веков вновь настигло его разочарование, на этот раз в марксисткой идеологии, и он переходит на позиции идеализма, а затем и православия. В 1918 г. принимает сан священства. В монографиях «Философия хозяйства» (1912) и особенно «Свет Невечерний» (1917) намечает основы собственного учения, идущего в русле софиологии. Оказавшись по вине большевиков в эмиграции, поселяется в Париже, где создает Православный богословский институт, ректором которого остается до конца своей жизни.
Сам Булгаков неоднократно утверждал, что произошедший с ним на рубеже веков поворот к религии не привел его, как, например, Бердяева, к «конфликту» с миром, а, напротив, заставил глубже понять этот мир. Все философское творчество Булгакова было проникнуто пафосом религиозного оправдания космоса, истории, хозяйства и самой материи. Философ всегда признавал относительную правду материализма, связывая его и с языческим культом Матери-Земли, и с христианским культом Богоматери. В то же время Булгаков видел определенную опасность в обожествлении мира, в пантеизме, так как такое мировоззрение неизбежно приводит к идолопоклонству, т. е. к преклонению перед земными силами, земным могуществом. Для устранения крайностей отрицающего материальный мир спиритуализма и обожествляющего этот мир пантеизма Булгакову и понадобилось понятие «София», которое он воспринял из философии Соловьева.
Если для Соловьева, как уже отмечалось, София — это человечество, понятое как единое живое существо, «идеальное, совершенное человечество» и «божественное человечество Христа», то Булгаков фактически сближает Софию с платоновским миром идей.
«София по отношению ко множественности мира есть организм идей, в котором держаться идейные семена вещей»[46].
Но как следует понимать платоновские идеи, эйдосы-архетипы? Согласно Булгакову, идеи — это не понятия, т. е. не абстракции, отражающие общие и существенные свойства родов предметов, а конкретные всеединства, т. е. конкретные выражения всех возможных проявлений всех возможных свойств данного рода вещей. Идеи родов вещей передаются не логическими понятиями, а, скорее, символами и мифами, которые отражают не общие свойства, а общие принципы жизни данного рода, в которых, например, человек — это не «двуногое существо без перьев» или «мыслящее животное», а Адам — миф-символ, выражающий нечто самое существенное в человеческом бытии.
Таким образом, подлинная философия, по мысли Булгакова, должна оперировать не понятиями, а символами и мифами, которые являются как бы «окном в трансцендентный мир». Символы и мифы, в свою очередь, составляют архетипическую основу языка. В конце 10-х — начале 20-х гг. эти рассуждения привели Булгакова к своеобразной философии языка, близкой философской герменевтике позднего Хайдеггера и Гадамера, согласно которой язык есть онтологическая реальность или, говоря словами Хайдеггера, «дом бытия». «Не мы говорим слова, но слова, внутренне звуча в нас, сами себя говорят»1, — утверждается в работе Булгакова «Философия имени».
В богословский период своего творчества Булгаков стал отождествлять Софию с миром ангельским. София — эта та лествица, которая, согласно книге Бытия, привиделась в Вифеле патриарху Иакову, и по которой двигались ангелы и архангелы. Ангелы и архангелы — это и есть символические выражение эйдосов родов бытия, а вся лествица есть выражение мира в его идеальном состоянии, выражение идеального космоса.
Итак, София — это мир. Но в своем наличном состоянии мир не соответствует Софии. София выступает по отношению к реальному миру в качестве его идеального образа, смысла и цели исторического развития.
«София правит историей, как Провидение, как объективная ее закономерность, как закон прогресса… Только в софийности истории лежит гарантия, что из нее что-нибудь выйдет и она даст какой-нибудь общий результат, что возможен интеграл этих бесконечно дифференцирующихся рядов»[47][48].
Таким образом, София отождествлялась Булгаковым с некой природно-исторической необходимостью. Следствием такого подхода стало достаточно негативное отношение философа к свободе и творчеству. Согласно Булгакову, свобода и творчество всегда внесофийны, ущербны, греховны; всякое стремление твари самоопределиться вне софийного процесса есть отвержение божественной благодати и, в конечном счете, главный источник зла.
В эмиграции перед Булгаковым-богословом встал вопрос о месте Софии в структуре божественной Троицы. Поначалу он определял Софию как еще одну, особую ипостась, но позднее отождествил ее с так называемой «усией» — общей природой трех ипостасей, неизреченной сущностью Божества.
«1) София Премудрость Божия есть откровение жизни триединого Бога, явленная природа Божества и, в этом смысле, Слава Божия. София принадлежит всей св. Троице как самоогкровение Божества.
- 2) София не имеет собственного ипостасного бытия, но ипостазируется в каждой из божественных ипостасей.
- 3) Как божественная жизнь «in actu», София есть энергия, раскрывающая божественную усию или сущность Божию, и проявляется в
мире как сокрытая и открывающаяся глубина божественной жизни, Ее сила и идея.
- 4) София, энергия есть Бог, но не в смысле подлежащего, а сказуемого…
- 5) Бог творит мир 11ремудростию или в Премудрости. Ничего нет вне Бога, поэтому творение для Бога не есть нечто новое, Бог творит только из Самого Себя, Ипостаси и Божества. Кроме этого, никакого другого материала нет. И множественность вещей получает единое бытие и образует самобытность мировых сил"[49].
Булгаков, как видно, не придаст особенного значения дуализму, определяющему существо христианского учения о творении мира. И хотя он старается как-то уклониться от прямого пантеизма, но все же остается на позициях панэнтеизма, растворяющего всякое бытие в Боге. А это, естественно, не могло быть принято церковью, поскольку и в этом случае исключалась идея о коренной трансцендентности мира и Божества, которая составляет краеугольное основание православного богословия.
б) Софиология играла значительную роль и в творчестве Павла Александровича Флоренского (1882−1937), яркого и своеобразного ученого, богослова, мыслителя, отличавшегося подлинным энциклопедизмом знаний.
Местом его рождения было местечко Евлах Елисафегпольской губернии. По окончании Тифлисской классической гимназии поступил на физико-математический факультет Московского университета (1900). Второе высшее образование получил в Московской духовной академии (1904;1908), где затем в течение десяти лет исправлял должность доцента, а затем и профессора по кафедре истории философии. В 1914 г. вышел его фундаментальный труд «Столп и утверждение истины», сразу выдвинувший его в ряды первоклассных русских мыслителей. После революции 1917 г. сотрудничал в различных советских учреждениях, сохраняя при этом священническое звание, которое он принял еще в 1912 г. В 1933 г. подвергся аресту и осуждению по ложному обвинению, а через пять лет, 8 декабря 1937 г., был расстрелян, вероятно, на Соловках.
За всем многообразием своих интересов Флоренский, повидимому, усматривал одну общую цель: найти нечто вечное и неизменное в этом текучем и изменчивом мире, где все относительно и условно. Разумеется, таким вечным и неизменным началом, на которое может опираться душа человека, является божественная Истина. Но как найти эту Истину? И существует ли она вообще? Все попытки найти Истину на путях разума и науки оборачиваются провалом: как только разум пытается ответить на предельные вопросы бытия, он упирается в неразрешимые антиномии.
«Утверждая одно, мы в этот же самый миг нудимся утверждать обратное; утверждая же последнее — немедленно обращаемся к первому. Как тсныо предмет, каждое утверждение сопровождается мучительным желанием противного утверждения. Внутренне сказав себе „да“, в то же время говорим мы „нет“, а прежнее „нет“ тоскует по „да“. „Да“ и „нет“ — неразлучны»1.
Однако разум, хотя и не способен найти истину, может показать, какой должна была бы быть Истина, если бы она существовала. На страницах своей книги Флоренский дает разнообразные описания того, какой должна быть Истина. Истина, например, должна быть одновременно интуитивной и дискурсивной (обоснованной).
«Дискурсивная интуиция должна содержать в себе синтезированный бесконечный ряд своих обоснований; интуитивная же дискурсия должна синтезировать весь свой беспредельный ряд обоснований в конечность, в единство, в единицу»[50][51]. Истина должна быть также одновременно конечной и бесконечной: «Она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или — выражусь математически — актуальная бесконечность«[52].
Наконец, из сказанного следует, что Истина, будучи антиномичной, должна быть триединой, т. е. содержать в себе тезис, антитезис и быть их синтезом. И, описав подобным образом Истину, Флоренский приходит к выводу, что именно такую Истину и предлагает христианская церковь, именно так понимали Истину отцы церкви. Но как церковь приходит к Истине? Церковь, согласно Флоренскому, приходит к Истине не путем познания, а путем бытия, не гносеологически, а онтологически.
«Ведь если разум непричастен бытию, то и бытие непричастно разуму, т. е. алогично. Тогда неизбежен иллюзионизм и всяческий нигилизм, кончающий дряблым и жалким скептицизмом. Единственный выход из этого болота относительности и условности — признание разума причастным бытию и бытия причастным разумности. А если так, то акт познания есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но и реальный. Познание есть реальное выхождение познаваемого из себя или, что-то же, реальное вхождение познаваемого в познающего, — реальное единение познающего и познаваемого. Это основное и характерное положение всей русской и, вообще, восточной философии»1.
Церковь является, согласно Флоренскому, реальным соединением познающего и познаваемого, так как представляет собой единство всех смыслов, всех эйдосов бытия. Церковь, по догматическому определению, есть «тело Христово», и, следовательно, есть универсальное тело мира в его идеальном, преображенном состоянии. Но таким же образом можно определить и Софию. София тоже понимается как единство эйдосов, как идеальный Космос. Таким образом, понятия «София» и «Церковь» в философии Флоренского становятся тождественными.
«Если София есть Тварь, то душа и совесть Твари, — Человечество, — есть София по преимуществу. Если София есть все Человечество, то душа и совесть Человечества, — Церковь, — есть София по преимуществу»[53][54].
София — это Церковь в ее мистической, небесной сущности.
В своем последующем творчестве Флоренский отказался от термина «София». Но понимание Церкви как символически выраженного смыслового единства Космоса стало определяющим для всего его мировоззрения.
5. Своеобразным компромиссом между экзистенциализмом и софиологией стало третье направление философской мысли русского духовного ренессанса — идеал-реализм. Этим термином принято обозначать те концепции, которые отталкивались от критической философии Канта и видели свою основную задачу в ее преодолении. Основную заслугу Канта русские философы усматривали, вопервых, в том, что немецкий философ резко отделил феноменальный мир от мира ноуменального и границы феноменального мира признавал границами рационального познания; во-вторых, в том, что, отрицая возможность теоретического знания метафизического бытия, он не только не отрицал само метафизическое бытие, но, напротив, постулировал его в качестве особой, трансцендентной по отношению к видимому нами миру реальности. Однако, в отличие от Канта, русские философы считали, что человек не остается в полном неведении относительно этой трансцендентной реальности, гак как может «обнаружить» ее в глубине своего «духовного я». Опираясь на традиции христианской мистики, считающей, что познание божественного возможно благодаря онтологическому слиянию человека с Божеством, представители русского духовного ренессанса полагали, что онтологическое единство нашего «духовного я» и мира трансцендентных сущностей позволяет говорить о непосредственном знании этих сущностей.
а) Термин «идеал-реализм» (или, вернее, «конкретный идеалреализм») был предложен Николаем Онуфриевичем Лосским (1870- 1965), крупнейшим представителем этого направления.
Он родился в селе Креславка Витебской губернии. Окончил физико-математический и историко-филологический факультеты Петербургского университета, впоследствии стал профессором этого университета. Был выслан из Советской России в 1922 г. Из его сочинений наиболее известны «Обоснование интуитивизма» (1906), «Мир как органическое целое» (1917), «История русской философии» (1951). Умер в 1965 г. во Франции, похоронен на русском кладбище Сенг-Женевьев-де-Буа.
Идеал-реализм, согласно Лосскому, это философия, которая полагает в основе пространственно-временного бытия бытие идеальное «в точном платоновском смысле слова», т. е. бытие сверхпространственых и сверхвременных начал. Но идеал-реализм бывает разным. Существует абстрактный, отвлеченный идеал-реализм, который усматривает начала бытия в неких общих понятиях, отражающих абстрагированные в мышлении качества объектов или их отношения. Подобный идеал-реализм лишь внешним образом связывает в класс предметы, которые остаются «равнодушными к друг другу и целому, без дифференциации и организации», поэтому он «не способен осуществить органическое миропонимание»[55]. Другое дело — конкретный идеал-реализм, который, во-первых, кладет в основание мира органическое единство всех возможных объектов со всеми их качествами и отношениями, и, во-вторых, рассматривает это единство как некое «живое и деятельное существо». Такой идеал-реализм, элементы которого Лосский обнаруживает и в каб;
балистическом учении об Адаме Кадмоне, и в гегелевской философии Объективного Духа, ведет к постижению целесообразности бытия, творчества и свободы. Но, с точки зрения абстрактного идеал-реализма, конкретный идеал-реализм есть миф, так как «живое существо», содержащее в себе «органическое единство мира», не подвластно дискурсивному мышлению и не может быть выражено в понятиях.
Лосский начинал свою философскую деятельность с разработки теории познания. В работе «Обоснование интуитивизма» он, подвергнув критике практически все традиционные гносеологические учения, пришел к выводу, что ни одно из них не может обосновать возможность соответствия мысли действительности (т. е. возможность истины), не сделав каких-либо догматических, метафизических допущений. Сам Лосский поставил перед собой цель создать некую беспредпосылочную гносеологию. В результате им была предложена оригинальная версия интуитивизма, согласно которой мы обладаем неким «бессознательным» знанием объекта «в подлиннике» еще до процесса познания.
«В знании присутствует не копия, не символ, не явление познаваемой вещи, а сама эта вещь в оригинале«'.
Познание же есть серия интенциональных (целевых) актов — внимание, дифференциация и т. п., в результате которых происходит опознание и осознание объекта. Разумеется, такая гносеология оставляла множество вопросов. Наиболее загадочным представлялось утверждение о присутствии в сознании объекта познания до самого познания, да еще и «в подлиннике». И все последующее творчество Лосского — как в России, например, в работе «Мир как органическое целое», так и в эмиграции, где были написаны такие работы как «Ценность существования», «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», «Бог и мировое зло», «Условия абсолютного добра» и др. — представляло собой разработку онтологического объяснения интуитивистской гносеологии, т. е. как раз поиск тех самых метафизических оснований теории познания, которые философ отверг в начале своего творческого пути.
Метафизика Лосского являлась своеобразным соединением монадологии Лейбница и учения славянофилов о соборности. Мир, согласно этому мировоззрению, представляет собой органическое единство неких внепространственных и вневременных духовных[56]
сущностей, наделенных творческой активностью и свободой воли, которые именуются «субстанциальными деятелями». Причем каждый субстанциальный деятель, являясь элементом универсума, содержит в себе полноту всего целого, так что в мире «все имманентно всему». Единство и целостность субстанциальных деятелей обеспечивается Сверхмирным Началом, невыразимом в понятиях Абсолютом, который постигается лишь особой мистической интуицией. Субстанциальные деятели относятся к «тварному бытию». Однако Бог творит их неопределенными.
«Из рук Божьих тварь выходит лишь как потенция личности, но еще не действительная личность»[57].
Формы своей актуальной жизни субстанциальные деятели создают сами, она есть результат их собственной активности.
Такой подход можно рассматривать как попытку преодоления противоречия между экзистенциалистской абсолютизацией творческой свободы и софиологическим провиденциализмом.
Наделенные способностью к «творческой эволюции», субстанциальные деятели, соединяясь друг с другом, образуют более высокие уровни бытия и стремятся к абсолютному состоянию, именуемому Царством Божьим. Впрочем, возможен и обратный процесс разложения и редукции к более низким уровням бытия, который и есть путь греха и зла. Но, в конечном итоге, «всеобщая победа добра обеспечена строением мира»". Лосский считает, что такая философия вполне согласуется с православным мировоззрением, теоретически объясняет смысл и назначение церкви (как высшего субстанциального деятеля) и научно обосновывает требования христианской морали.
б) Сам Лосский, написавший в конце жизни на английском языке «Историю русской философии», указывает мыслителя, который, по его мнению, наиболее близко подошел к его собственной концепции идеал-реализма. Этим мыслителем оказался Семен Людвигович Франк (1877−1950).
Родился Франк в Москве. Учился на юридическом факультете Московского университета, изучал философию и социальные науки в университетах Германии. В 1922 г. был выслан из Советской России. Жил в Германии (до 1937 г.) и во Франции (до 1945 г.), последние го- [58]
ды провел в Англии. Из философских работ Франка наиболее значительными являются «Предмет знания» (1915), «Душа человека. Опыт введения в философскую психологию» (1917) и «Непостижимое» (1936). Много занимался изучением русской философии.
Как и Лосский, Франк начал свою творческую деятельность с вопросов теории познания, развив гносеологию, согласно которой наше познание объективного мира возможно лишь потому, что мы «слиты с ним не через познание, а в самом нашем бытии»1. В период эмиграции он углубил преимущественно онтологические аспекты своей доктрины. Согласно Франку, только благодаря исходной интуиции Всеединства возможно как формально-логическое мышление, абстрагирующееся от конкретного содержания понятий, так и общество, являющееся по своей природе сверхиндивидуальным образованием. Само же исходное Всеединство не может быть постигнуто рациональным мышлением, т. е. является Непостижимым. Однако, «поскольку вообще возможно осмысленно говорить о „Непостижимом“, оно, очевидно, должно быть в какой-либо форме нам доступно и достижимо… Непостижимое постигается через постижение его непостижимости»[59][60]. Такое «постижение непостижимости Непостижимого» и составляет, согласно Франку, суть всякого религиозного опыта.
Наша онтологическая слитность с предметом нашего знания означает, что к сфере Непостижимого относится не только Бог, но и сущность человеческого я. Это, согласно Франку, и провозглашает христианство с его свидетельством о богочеловечсствс Христа. Поэтому «христианство есть религия не поклонения Богу в его противоположности человеку… Христианство есть религия человечности»[61]. В этом смысле христианство не имеет ничего общего ни с пессимистическим мироощущением экзистенциализма, ни с оптимистической верой в историческую необходимость софиологии. Подобно тому, как к постижению Непостижимого следует стремиться, несмотря на его непостижимость, к Царству Божьему следует стремиться, невзирая на его неосуществимость. Стремление к идеалу не зависит от надежды на успех.
«Где утрачено это основоположное для всей нашей жизни, осмысляющее всю нашу жизнь сознание, там жизнь становится бессмысленным, слепым прозябанием»1.
6. Философия русского духовного ренессанса исчезла вместе с уходом из жизни основных ее представителей. К сожалению, русские мыслители не оставили после себя ни учеников, ни последователей. Их учения оказались ненужными ни Советской России, ни Западу, ни последующим поколениям русских эмигрантов. В наши дни философия русского духовного ренессанса хотя и пользуется значительным пиететом в России, является преимущественно предметом историко-философских и культурологических исследований, а не отправной точкой актуального философского творчества. Однако все это не означает, что труды русских философов-эмигрантов вообще не обладают никаким потенциалом, который мог бы быть востребованным в будущем. Самым важным в них было то, что они, в отличие от европейской философии Нового времени, были ориентированы нс столько на синтетическое осмысление сущего, сколько на профстическое конструирование возможного. Эта тенденция проявилась в самых различных направлениях русской философии: от идеи «продолжения творения мира» Бердяева до концепции «становящейся Софии» Булгакова. Мессианские установки русской философии духовного ренессанса явно усилились. Однако именно эти черты могуг сделать ее весьма актуальной в наши дни.
- [1] Милюков П. Н. Разложение славянофильства // Вопр. филос. и психол. 1893.Кн. 18(3). С. 92.
- [2] Соловьев В. С. Три силы // Избранное. — М., 1990. С. 44.
- [3] Там же. С. 47.
- [4] Там же. С. 55.
- [5] Там же. С. 56.
- [6] Там же. С. 58.
- [7] Соловьев В. С. Славянофильство и его вырождение // Соч. В 2 т. Т. 1: Философская публицистика. — М., 1989. С. 441.
- [8] Соловьев В. С. Жизненная драма Платона // Соч. Изд. 2-е. В 2 т. Т. 2. — М., 1988. С.586−587.
- [9] Соловьев В. С. Чтения о Богочсловсчсствс // Соч. В 2 т. Т. 2. — М., 1989. С. 47.
- [10] Там же. С. 67.
- [11] Там же. С. 97.
- [12] Там же. С. 20.
- [13] Соловьев В. С. Идея человечества у Августа Конта // Соч. Изд. 2-е. В 2 т. Т. 2. -М., 1990. С. 577.
- [14] Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соч. В 2 т. Т. 1. — С. 340.
- [15] Там же. С. 341.
- [16] Там же. С. 255.
- [17] Там же. С. 478.
- [18] Там же. С. 467.
- [19] Там же. С. 260.
- [20] Соловьев В. С. Русская идея // Соч. В 2 т. Т. 2. — М., 1889. С. 229.
- [21] Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. — С. 93.
- [22] Апокатастасис (грсч.) — восстановление.
- [23] Соловьев В. С. Оправдание добра. — С. 478.
- [24] Лосский II.О. История русской философии. — С. 175.
- [25] Достоевский Ф. М. Н. Д. Фонвизиной // Собр. соч. В 15 т. Т. 15. — СПб., 1996.С. 96.
- [26] Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Там же. Т. 9. — СПб., 1991. С. 281.
- [27] Там же. С. 289.
- [28] Толстой Л. Н. Ответ на определение Синода от 20−22 февраля и на полученные мной по этому поводу письма // Собр. соч. В 22 т. Т. 17. — М., 1984. С. 206.
- [29] Розанов В. В. Метафизика христианства // Розанов В. В. Религия и культура. -М., 1990. С. 570.
- [30] Несмелое В. И. Наука о человеке. В 2 т. Т. 1. — Казань, 1994. С. 348−349.
- [31] Там же. Т. 2.-С. 177, 178.
- [32] Тареев М. М. Основы христианства: Система религиозной мысли. В 4 т. Т. 1. -Сергиев Посад, 1908. С. 7.
- [33] Там же. С. 68.
- [34] Бердяев Н. А. Смысл творчества // Бердяев II.A. Философия свободы. Смыслтворчества. — М. 1989. С. 241.
- [35] Бердяев Н. А. Самопознание. Л. 1991. — С. 277.
- [36] Бердяев Н. А. Смысл творчества — С. 327.
- [37] Бердяев НА. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // Бердяев Н. А. Опыт парадоксальной этики. — М., 2003. С. 406.
- [38] Там же. С. 407.
- [39] Бердяев Н. А. Смысл творчества — С. 328.
- [40] Бердяев НА. О назначении человека. — С. 195.
- [41] Бердяев Н. А. Смысл истории. — Берлин, 1923. С. 236.
- [42] Бердяев Н. А. О назначении человека. — С. 405.
- [43] Шестов Л. На весах Иова// Соч.: В 2 т. Т. 2. — М., 1993. С. 27.
- [44] Шестов Л. Афины и Иерусалим //Там же. Т. 1. — М., 1993. С. 331.
- [45] Там же. С. 331.
- [46] Булгаков С. Н. Свет невечерний. — М, 1917. С. 221.
- [47] Булгаков С. Н. Философия имени. — Париж, 1953. С. 23.
- [48] Булгаков С. Н. Философия хозяйства. — М., 1990. С. 126.
- [49] Братство Святой Софии. Материалы и документы. 1923;1939. — М.; Париж, 2000. С. 142.
- [50] Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи // Соч.: В 2 т. Т. 1.4. 1. — М, 1990. С. 36.
- [51] Там же. С. 48.
- [52] Там же.
- [53] Там же. С. 78.
- [54] Там же. С. 350.
- [55] Лосский И. О. Отвлеченный и конкретный идеал-реализм // Мысль. ЖурналПетербургского философского общества. 1922. № 1. С. 3.
- [56] Лосский НО. Обоснование интуитивизма // Избранное. — М. 1991. С. 77.
- [57] 2 Лосский НО. Бог и мировое зло. — Париж, 1941. С. 21.
- [58] Там же. С. 79.
- [59] Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. -Пг., 1915. С. 177.
- [60] Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии //Соч.-М., 1990. С. 196, 559.
- [61] Франк С. Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. — Париж, 1956. С. 233.