Суть социально-экономических перемен
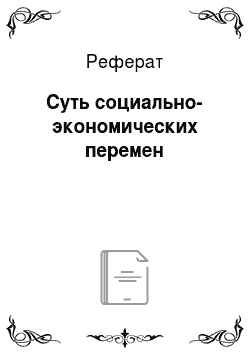
Американский историк Джозеф Гренвилл писал о рейганомике: «Еще до президентства Рейган стал сторонником учения профессора Артура Лаффера о переносе приоритета на стимулирование производства и предложения товаров и услуг. Рецепт Лаффера обещал чудесные результаты: сокращение налогов приведет к увеличению доходов. Согласно теории Лаффера, чем ниже налоги на монополии, тем выше прибыль, тем больше… Читать ещё >
Суть социально-экономических перемен (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Суть перемен в характере социально-экономического развития Запада после «просперити» состояла в том, что после беспрецедентного роста европейская экономика попала в фазу стагнации — первую (1973) и вторую (1979). Их причина — абулия, так медики называют болезненное безволие, отсутствие побуждений к деятельности, активности, потерю или недостаточность силы воли без какихлибо видимых причин. На деле оказалось, что абулия может охватить не только отдельного человека вследствие болезни или неудач, но и общество в целом. Такое состояние общества порой нельзя исчерпывающе объяснить ясными социальными, экономическими или политическими причинами. В одних случаях проблемы вызывают стремление к противостоянию им, в другом — уныние и нежелание предпринимать что-либо позитивное.
Первыми отметили падение тонуса ученые-экономисты — сторонники возрождения радикальной рыночной идеологии, они набирали силу и влияние постепенно, развивая наступление на социал-демократическую идеологию общества «просперити». В 1974 г. Нобелевскую премию по экономике получил убежденный «рыночник» австриец Фридрих фон Хайек, а два года спустя — американец Милтон Фридмен, столь же неистовый приверженец свободного рынка. Рынок и связанное с ним неравенство они прямо связывали с развитием, неравенство, по Хайеку, вполне терпимо, поскольку даже сегодня беднейшие слои обязаны своим относительным благосостоянием действию неравенства прошлого.
Уже с середины 1970;х гг. развернулось наступление сторонников свободного рынка на правительства, но оно не имело эффекта до 1980;х гг. Исключением стала республика Чили, где военный режим, свергнувший законного президента Сальвадора Альенде в 1973 г., позволил американским советникам внедрить неограниченную рыночную систему, ставшую довольно эффективной, что позволило Чили выйти из экономического кризиса.
На рубеже 1970—1980;х гг. западное общество постигло состояние абулии: если раньше имела место непоколебимая вера в общество всеобщего благосостояния, «просперити», в котором царит полная занятость и благополучие, то теперь настала пора разочарований. Одной из причин проблем можно считать то, что социальная политика прежде строилась на весьма значительных налогах на производителей, что не способствовало их активности, ибо государство само ничего не производит, оно лишь может отобрать у того, кто производит, и отдать тем, кто не производит. Со временем выяснилось, что такие лозунги, как «справедливое распределение», «социальное благосостояние», звучат сладко, а их плоды оказались горькими: по мере того как внеэкономический напор на собственников крепчал, подрывались рыночные механизмы накопления, росли налоги во имя общественного благосостояния, осуществлялась программа полной занятости в ущерб росту производительности труда и тормозилась технологическая перестройка промышленности — в такой же мере ухудшалось экономическое положение, падали темпы роста, разбушевалась инфляция. Все эти процессы были усугублены энергетическим (нефтяным) кризисом, повлекшим значительное ухудшение конъюнктуры.
Экономические проблемы рубежа 1970—1980 гг. отразились прежде всего на социальных расходах западных стран, поскольку эти расходы на определенном этапе развития стали тормозом экономики. Основная статья бюджетов развитых западных стран — социальные расходы: в США в 1982 г. — 50% годового бюджета, это в два раза больше военных расходов. Чтобы поддерживать социальные расходы на прежнем уровне, а при возможности их повышать, нужно было расширять налогообложение. Его расширение в значительной мере снизило эффективность производства. При этом работающие хотя и были социально обеспечены с младенчества до старости, но собственными средствами не располагали. Тэтчер называла эту систему «обществом карманных расходов», поскольку за вычетом налогов на многочисленные социальные программы у работающих оставались деньги только на карманные расходы. Иными словами, они не были в состоянии распорядиться собственными средствами — завести свое дело, попробовать себя в бизнесе и т. д.
Тэтчер поставила задачу сократить налоги, урезав при этом социальную помощь, чтобы активизировать предпринимателей. Разумеется, и речи не могло быть о широком демонтаже государства благоденствия, трудящиеся не допустили бы ликвидации своих социальных завоевании, но определенная тенденция к сокращению социальной помощи, а также уточнение ее адресации имели место.
Кроме того, обширная социальная помощь породила колоссальный рост бюрократии, вызывавшей неудовольствие: человек превращался в объект постоянной опеки государства, что подкашивало свободу, отучало от самостоятельности и предприимчивости. Исстари на Западе повелось, что плохо работающий беден, а хорошо работающий богат, теперь же у богатого просто отбирали в пользу бедного: в итоге богатый терял повод к напряженному труду (все равно отберут), а бедному работать и не надо (все равно дадут). Зато появился и третий — служащий «министерства справедливости», который ничего не производит, а только перераспределяет, не забывая о себе при этом.
Благодаря эффективной налоговой политике экономика Запада получила мощный стимул роста. Он был особенно заметен в США. «Рейгономика» придала США невиданный со времен Эйзенхауэра динамизм: за 6 лет (1982—1987) ВНП вырос на 27%, производство — на 12% (в отличие от уменьшения в 1970;е гг. на 10,5%). Было создано 20 млн рабочих мест. После неуверенности 1970;х гг. Рейган смог убедить общественное мнение, что США снова стали динамичным и преуспевающим государством.
Американский историк Джозеф Гренвилл писал о рейганомике: «Еще до президентства Рейган стал сторонником учения профессора Артура Лаффера о переносе приоритета на стимулирование производства и предложения товаров и услуг. Рецепт Лаффера обещал чудесные результаты: сокращение налогов приведет к увеличению доходов. Согласно теории Лаффера, чем ниже налоги на монополии, тем выше прибыль, тем больше средств высвобождается для капиталовложений в экономику. На самом деле рейгономика не была столь революционной программой, но американцы, не колеблясь, вновь в 1984 г. отдали свои голоса „старому демагогу“». До конца своего пребывания в Белом доме Рейган оставался одним из самых популярных в истории страны президентов. Экономика переживала подъем, безработица не поднималась выше 7%, люди стали жить лучше.
Кроме социальной политики объектом реформирования стала и активная роль государства в экономике. Выяснилось, что само сильное государство является препятствием для экономического роста, ибо государство — это не только администрация, но и распространитель обширной системы правил и инструкций, сковывающих инициативу и обновление, его вмешательство в экономику вызывало в этот период только недоразумения и вызывало стагнацию. К тому же рост государственной бюрократии увеличивал непроизводительные расходы, способствовал росту аппарата распределения, власть все больше концентрировалась в аппарате, а гражданские свободы сокращались.
В Великобритании и США была осуществлена программа жилищного строительства, которая привела к уменьшению в 5 раз числа сдаваемых дешевых квартир, появлению жилищного дефицита, к уменьшению свободы выбора места жительства, к взяточничеству среди чиновников, ведающих распределением.
Одним из основных путей увеличения эффективности народного хозяйства неоконсерваторы считали денационализацию, лидером в революции приватизации была Великобритания. Волна приватизации прокатилась по стране в начале 1980;х гг. и имела целью не только поднятие эффективности народного хозяйства, но и подрыв сильных позиций профсоюзов, которые, на взгляд Тэтчер, были главным препятствием на пути поднятия эффективности экономики. За 6 лет около трети занятых в производстве (600 тыс. рабочих мест) в Великобритании было переведено в частный сектор. Эти меры в сочетании с полученной прибылью от продажи государственного жилого фонда принесли британскому казначейству прибыль 26 млрд долл, и сократили долю государства с 10 до 6%. Некоторым государственным предприятиям было предложено распродать или раздать акции своим рабочим и служащим. В 1979 г. лишь 5% англичан владели акциями, а в конце 1986 г. — 16%.
Само присутствие больших государственных фирм удушает дух предпринимательства и обновления. Государственные предприятия лишь опустошали казну, со временем большинство из них превратилось в агентства, но найму, обеспечивающие работой политических союзников, неудавшихся политиков и отставных военных. Вслед за Англией и в других странах Запада денационализация не заставила себя долго ждать, ее главными мотивами были: исправление положения в экономической сфере, закрытие дыр в бюджете посредством продаж государственных предприятий, примирение труда и капитала посредством создания акционерных обществ, куда входили бы и рабочие, а также поощрение предпринимательства. Даже в ФРГ, где экономика довольно эффективна, в 1985 г. было решено оставить государственные предприятия лишь там, где они «необходимы для общественной пользы», как говорилось в одном заявлении правительства канцлера Гельмута Коля. Во Франции Национальное собрание и Сенат одобрили в августе 1986 г. закон, разрешавший денационализацию 65 государственных компаний и банковских групп. Вырученная сумма составила 50 млрд долл., а количество акционеров во Франции поднялось с 2 млн до 5 млн человек.
Примечательным был способ приватизации — путем выпуска акций и их продажи через фондовую биржу для стимуляции мелких вкладчиков к их покупке.
Число акционеров в Великобритании выросло в 1980;е гг. с 2,5 млн до 10 млн, что стало воплощением идеи демократического капитализма. Быстрое сокращение потерь в государственном секторе позволило правительству сократить налогообложение, ставки которого были снижены с 37,5 до 25%, а также сократить свыше 1/5 национального долга. Приватизация стала одним из наиболее успешных процессов в 1980;е гг. и нашла много последователей — даже Япония, которая сама многому научила Запад, последовала примеру Великобритании и приватизировала свою железнодорожную сеть.
Тэтчеризм в 1980;е гг. оказал большое влияние на весь мир, что включало в себя не только новую моду на приватизацию и сокращение государственного сектора, но и появление нового политического климата. 1980;е гг. были неоконсервативным десятилетием — даже в тех странах, где у власти стояли социалистические правительства.
Перемены в Европе стали ориентиром для самых больших по населению стран — Китая и Индии. О Китае уже говорилось выше, а в Индии эти перемены были не менее важными. В Индии, когда Неру пришел к власти, в его руках была огромная страна и никакого опыта в деле управления. Поскольку США были заняты Европой и Японией, Неру обратил свой взор к СССР и послал туда команду экономистов. Вернувшись, они рассказали, как поразил их Советский Союз. Там распределяют ресурсы, выдают лицензии, страна не стоит на месте. По советскому примеру, как в Индии его поняли, частный сектор окружили стеной правил и регламентации. С 1947 по 1991 г. в руках государства находилась вся индийская инфраструктура. Груз госсобственности почти довел страну до банкротства.
Три года спустя после реформы 1991 г. ежегодный индийский рост в 3% был уже 8%! Весь период социалистического регулирования довел Индию до точки, когда в стране оставался валютный запас 1 млрд долл., а в начале XXI в. — 118 млрд.
То же происходило и в Латинской Америке в 1980;е гг.: окончательно обанкротилась экономическая модель, которая имела много общего с социализмом. Постепенно дорогой реформ (кроме Мексики) пошли Чили, Боливия, Перу, с 1991 г. — Аргентина. Реформы включали стабилизацию денег, либерализацию внешней торговли, ликвидацию барьеров для иностранного капитала, приватизацию государственного сектора, изживание интервенционизма государства.
Особенно ярким является пример Мексики, испытавшей влияние культуры свободного предпринимательства. В Мексике в 1940—1970 гг. имел место рост, давший повод президенту сделать страну социальным раем при помощи «большого правительства» (т.е. правительства, обладающего чрезвычайно большими полномочиями). Для этого он увеличил государственный сектор на 50% — результат был предсказуем: гиперинфляция и кризис платежного баланса. В 1976 г. к власти пришло новое правительство и повернуло страну к рынку. В 1980;е гг. президент Карлос Салинас продолжил кардинальное переопределение мексиканских ценностей и ориентиров. Это была самая мощная попытка перемен со времен Мексиканской революции 1910 г. Салинас выступил за экономический либерализм, не приветствуя политическую демократию. Он сократил инфляцию, приватизировал большинство государственных предприятий, привлек западные инвестиции, сократил тарифы и субсидии, бросил вызов власти профсоюзов, увеличил производительность труда и включил Мексику в Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), куда входят США и Канада. Салинас стремился сделать из Мексики не латиноамериканскую, а североамериканскую страну. Таким образом, мексиканская экономика повернула к либерализации, сделав возможным историческое торговое соглашение с США. Мексиканская экономика действительно слилась с тихоокеанской, образованной западными штатами США, западной Канадой и Аляской.
Таким образом, даже периферийные государства были захвачены неоконсервативными преобразованиями социально-экономической сферы.
Однако крайне сложно обобщать экономическую ситуацию на обширных территориях третьего мира в период неоконсервативной волны, поскольку в странах складывались различные положения. Позитивные перемены смешались с негативными. Для третьего мира огромную проблему составляли долги: в 1990 г. в число должников входило три страны с гигантским внешним долгом, составлявшим от 60 до 110 млрд долл.: Бразилия, Мексика, Аргентина. Долги были обузой, поскольку развитые капиталистические страны решили не иметь дело с многими должниками из числа стран третьего мира. В 1970 г. в 19 из 42 стран третьего мира вообще не поступали инвестиции. К 1990 г. первая цифра выросла до 26. Значительные внешние инвестиции (более 500 млн долл.) поступали только в 14 из 100 неевропейских стран с низким и средним уровнем доходов.
Понятно, почему основным итогом развития третьего мира к концу XX в. можно считать увеличение экономического разрыва между бедными и богатыми странами.