Философия культуры.
Психоанализ.
Истоки и первые этапы развития
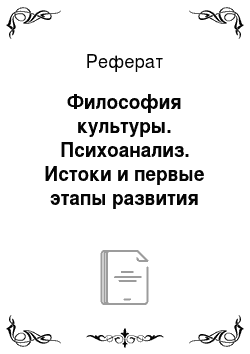
Понятие сублимации вообще является самым загадочным в психоанализе — влечение отклоняется от цели и так «возгоняется», что эротическое стремление становится произведением искусства или философской системой. М. Шелер сравнивал сублимацию с «Великим деянием» алхимика, поскольку из «свинца» инстинктивных побуждений Фрейд желал получить «золото» высших творений человеческой души. Художник у Фрейда… Читать ещё >
Философия культуры. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Оппозиция природного и культурного присутствует уже в первобытной мифологии, а вместе с появлением первых государств древности она дополняется оппозицией «цивилизованного» и «естественного» человека. Древнейшие письменные источники свидетельствуют и об «остром ощущении противопоставленности, даже несовместимости этих двух миров» — городской цивилизованности и первобытной дикости; и о своеобразной идеализации простоты и неиспорченности удаленного от зол цивилизации человека[1]. В различных философских учениях древности воспроизводится эта оппозиция: споры даосов и конфуцианцев, диатрибы киников и стоиков, проповеди некоторых апологетов христианства связаны с противопоставлением естественного и искусственного, природного и культурного. Философия Нового времени заговорила об «естественном состоянии», находя в нем то «борьбу всех против всех», то свободного от пороков цивилизации дикаря.
Конечно, Руссо не призывал нас «встать на четвереньки», а Ницше — уподобиться хищному зверью, но так или иначе на протяжении последних двух столетий эта тема принадлежала не только научным трактатам, но делалась актуальной в массовом сознании европейцев особенно в критические, переломные моменты истории. С одной стороны, мы видим картину бедствий, которые несет с собой цивилизация, слышим голоса тех, кто говорит о «жизни по природе», о «естественности» или даже «опрощении». С другой стороны раздаются голоса противников: «Вглядитесь и вдумайтесь в естественное, в поступки и желания человека, не тронутого цивилизацией, и вы отпрянете в ужасе. Все прекрасное и благородное является плодом разума и расчета»[2]. В начале века получили самое широкое хождение «культуркритицизм» и «культурпессимизм», противопоставление «жизни» и «культуры» стало общим местом европейской философии.
Многие положения Фрейда напоминают идеи Шопенгауэра и Ницше, а вышедшую в 1930 году главную работу Фрейда по этим проблемам — «Недовольство культурой» — можно сравнить с появившимися одновременно книгами, скажем, с «Двумя источниками морали и религии» Бергсона и «Человеком и техникой» Шпенглера. При всех различиях, обнаруживается сходство исходных предпосылок, анализ тех или иных социальных институтов начинается с «жизни», «инстинктов», «души»; современная культура критикуется как «больная» и т. д. При всех сходствах с «философией жизни», Фрейд все же далек от нее в силу своего «прогрессизма» — в развитии науки, техники, цивилизации (ее он вообще не отличает от культуры, уходя от распространенного в немецкой мысли противопоставления) он видит несомненный прогресс. Он не идеализировал и жизнь первобытных племен, поскольку за несколько меньшие запреты в области сексуальной их представители платят дорогую плату.
Фрейд смотрит на историю человеческого рода без особого оптимизма, не видит в ней никакого «воспитания рода человеческого»[3]. Культурный процесс для него есть часть биологической эволюции, он подчинен общим для всего живого законам. Поэтому у него отсутствует всякая «культурнабожность» (Kulturfrommigkeit) — как и повсюду, в культуре правит Ананке, необходимость, нужда. Ей мы обязаны всеми успехами культуры. Этот круг идей принадлежит вполне определенной философской традиции. Похвальное слово цивилизации в книге «Недовольство культурой» чуть ли не дословно совпадает со стихами Лукреция:
Судостроенье, полей обработка, дороги и стены, Платье, оружье, права, а также и все остальные Жизни удобства и все, что способно доставить усладу: Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй —.
Все это людям нужда указала, и разум пытливый Этому их научил в движеньи вперед постепенном.
Нужда и стремление к счастью — вот силы, побуждающие к развитию и индивида, и общество. Теория влечений Фрейда, в принципе, вполне совместима с традиционным учением об общественном договоре, который кладет конец борьбе всех против всех и налагает первые запреты — табу. В открытом письме Эйнштейну «Почему война?» Фрейд прямо ссылается на общественный договор: ему мы обязаны уменьшением роли насилия и произвола. Но он же несет с собой страдания и недовольство людей. Общая тональность и здесь совпадает с Лукрецием, у которого род людской «игу законов себя подчинил и стеснительным нормам… страх наказаний с тех пор омрачает все жизни соблазны». Такова плата за учреждение права и ограничение насилия и раздора. Фрейд добавил к этому учение об инстинкте агрессивности или разрушительности, подавление которого оказывается важнейшей задачей культуры. Природа человека не меняется, в любой момент из-под маски цивилизованного человека может вырваться хищный зверь. Homo homitii lupus, — повторяет Фрейд за древними и Гоббсом и спрашивает: «У кого хватит смелости оспаривать это суждение, имея весь опыт жизни и истории?»[4]
Удовлетворение «диких, необузданных влечений» — вот к чему стремится человек по самой своей природе, тогда как все заменители, предлагаемые культурой, способны дать лишь сублимированное, а тем самым ослабленное удовольствие. Они годятся, скорее, как средства защиты от страданий. Природа безмерно сильнее человека, наслаждения краткосрочны, тяготы и боль сопровождают нас до самой смерти. Различные «техники», то есть методы избегания страданий — искусство и наркотики, йогические упражнения и половая любовь, религия и «возделывание своего сада» по совету Вольтера — все они уравнены Фрейдом в правах. Религия в этом смысле плоха только тем, что она претендует на исключительность, предлагая самое иллюзорное из возможных решений конфликта между природными влечениями, социальными нормами и равнодушной, даже беспощадной к человеческим чаяниям внешней реальностью.
Критика религии Фрейдом в основном совпадает с тем, что писали по этому поводу просветители. Я уже упоминал, что в юности Фрейд прочитал полное собрание сочинений Фейербаха и очень высоко его ценил. «Будущее одной иллюзии» так часто сравнивали с «Сущностью христианства» Фейербаха[5], что я не стану проводить подобные сопоставления или пересказывать основные положение главного труда Фрейда о религии. Его нововведения сводятся к тому, что религия является не просто иллюзией, но иллюзией, коренящейся в желаниях раннего детства, а образ Бога замещает образ земного отца. Религия есть исполнение этих желаний, проекция на весь мир отцовского образа, иллюзорная надежда на помощь в страшном мире.
Конечно, в религии мы часто сталкиваемся с идолопоклонством. Сотворение кумиров, будь оно религиозным или идеологическим, обязательно предполагает механизм проекции; в религии можно встретить «исполнение желаний», принятие желаемого за действительное. Такая критика идолопоклонства вполне законна, она соответствует не только строгой научности, но и религиозной заповеди, запрещающей творить себе кумиров. Однако, даже научное мышление, столкнувшись с ограниченностью наших знаний и бесконечностью мира, вынуждено умерять свой познавательный оптимизм и, говоря словами Канта, «освобождать место вере». Мы соотносимся с тем, что лежит за горизонтом всякой возможной мысли, что никогда не становится для нас объектом.
Верой мы наделены уже потому, что лишены всезнания. Объективация наших ограниченных познаний происходит в соответствии с верой. Эти объективации всегда неокончательны, относительны, а потому в религии, как и в науке, всегда имеется человеческое, иногда «слишком человеческое». Это относится и к религии откровения, поскольку та же Библия написана людьми, говорившими на каком-то языке, наделенными такими, а не иными, умственными способностями, познаниями, культурой — все это принадлежит времени. Идолопоклонство — это принятие относительного за абсолютное, смешение частного и универсального. Полностью избежать этого не в силах ни один человек, а потому необходима критика идолов. Для этого человеку дан разум, тогда как веруем мы для того, чтобы понимать.
Фрейду нельзя отказать в последовательности. Когда Р. Роллан, согласившись с критикой существующих религий в «Будущем одной иллюзии», заметил, что это не относится к мистическому опыту, названному им «океаническим», принадлежащему человеческой природе, то Фрейд в «Недовольстве культурой» ответил на это редукцией «океанического чувства» к опыту раннего детства. Ощущение единства своего «Я» с Вселенной, лежащее в основе многих теистических и пантеистических доктрин, выводится Фрейдом из слитости «Я» и «He-Я» в первые месяцы жизни. Все тайны религии он желает «разоблачить», найдя корни в индивидуальной психологии.
Сходным является взгляд Фрейда на искусство. Пишущие сегодня об отношении Фрейда к искусству часто грешат против истины, модернизируя его взгляды и обходя стороной «режущие глаз» суждения[6]. Исходным пунктом для Фрейда и в случае искусства является психопатология, ее роль в биографии творца. Фрейд далек от романтического культа человека-художника, но он разделяет с романтиками и их сегодняшними подражателями исходный пункт: произведение нужно понять через психологию гения. Не с фрейдовского жизнеописания Леонардо да Винчи начинаются попытки обнаружить истоки творчества в патологии. Неиссякаемый интерес к биографическому жанру способствует тому, что произведение искусства становится моментом автобиографии художника[7]. Особенностью психоанализа являются только настойчивые поиски конфликтов раннего детства и неврозов в генезисе художественного творчества.
Уже в ранних работах Фрейда по проблемам искусства — толкованиях творчества Леонардо, «Градивы» Йенсена — показывают, что Фрейд применяет к произведениям искусства ту технику, которая была им выработана для толкования сновидений. Сновидение является парадигмой всех шифров, уловок влечений; в сновидении происходит регрессия психического аппарата к архаичному, изначальному. Главные человеческие проблемы связаны именно с бессознательными влечениями, а потому настоящее искусство всегда поражает и потрясает, когда оно затрагивает важнейшие для нас темы. Трагедия, разыгравшаяся однажды в первобытной орде, неизменно повторяется на протяжении жизни каждого человека; история Эдипа и история Моисея возобновляют эту древнейшую пьесу. В этом эстетическая сила античной трагедии или библейской истории — они воспроизводят в душе каждого самые глубинные устремления. «Братья Карамазовы» для Фрейда представляют собой великий роман именно потому, что Достоевский обращается к теме отцеубийства[8]. Шекспировский «Гамлет» должен стать для нас понятнее, если мы заменим дядю на отца и увидим в трагедии ту же тему отцеубийства. Как язвительно заметил Честертон, психоаналитик «наделяет Гамлета комплексами, чтобы не наделить совестью»[9].
Ни древние греки, смотря «Царя Эдипа», ни современники Шекспира, впервые увидевшие «Гамлета» в театре «Глобус», ни читатели Достоевского не знали, что сильное впечатление на них оказывала именно вечная тема отцеубийства, а все сомнения Гамлета («Быть или не быть…») или спор братьев в главе «Pro и contra» проистекают из вытеснения и сублимации базисного конфликта.
Понятие сублимации вообще является самым загадочным в психоанализе — влечение отклоняется от цели и так «возгоняется», что эротическое стремление становится произведением искусства или философской системой. М. Шелер сравнивал сублимацию с «Великим деянием» алхимика, поскольку из «свинца» инстинктивных побуждений Фрейд желал получить «золото» высших творений человеческой души. Художник у Фрейда напоминает свободно играющего ребенка, беспрепятственно реализующего свои фантазии, но в замещенной форме. Как и невротик, художник бежит от реальности, ибо не находит удовлетворения своим потаенным влечениям в действительности; от прочих его отличает способность воплощать фантазии в произведения искусства. Сам этот дар остается в психоанализе необъяснимым: совершенно непонятно, почему тот или иной «комплекс» не вызывает невроза, но реализуется именно в такой повести (а не в поэме, картине или скульптуре). Единственное, что проясняет психоанализ, это производность прекрасного от эротики («прекрасное и возбуждающее, — пишет Фрейд, — таковы изначальные свойства сексуального объекта»). С этим хотя бы отчасти нельзя не согласиться: творческую силу отождествляли с Эросом многие мифологические и философские учения; эротика была и остается одним из важнейших предметов искусства, будучи постоянной и важнейшей стороной человеческого существования. Однако угол зрения психоанализа изначально узок. Даже самое широкое понимание эротики не позволяет приблизиться к содержанию большинства произведений искусства. Психоанализ ничем не поможет, когда я стремлюсь понять музыку Баха, поэзию Рильке или пейзажи импрессионистов. Такого рода интерпретации не нужны и там, где поэт или живописец создает именно эротическое произведение; они потребны лишь в том случае, если мы имеем дело с психопатологическим фактором. Но последний принадлежит не сущности искусства, а биографии художника, причем узнаем мы о наличии психопатологии, как правило, не из созданного произведения, а из иных источников. Даже в том случае, когда воздействие психопатологии не оставляет сомнений, например, в случаях Врубеля или Ван Гога, трудно связать это воздействие с предполагаемыми конфликтами раннего детства. Биографии творцов, живших до эпохи Возрождения, нам почти неизвестны, поскольку в те времена биография художника вообще мало кого интересовала. Попытки домыслить что-нибудь о «комплексах» Шекспира, о жизни которого мы крайне мало знаем, — задача явно непосильная даже для самого умелого психоаналитика. Ему остается только одно: писать о «вечных» бессознательных побуждениях, которые известны психоаналитику по лечению невротиков и которые он смело отыскивает в любом произведении искусства.
Иногда последователи Фрейда дают связную картину жизни того или иного писателя, но в большинстве своем штудии такого рода производят убогое впечатление. Один и тот же набор слов применяется к творцам всех времен и народов, и подобное чтение заставляет вспомнить слова Гумилева: «Дурно пахнут мертвые слова». Причина этого проста: психопатологии редко способствуют созданию значимых произведений искусства, а семейная драма Эдипа находится в центре внимания немногих художников, даже если брать всевозможные замещенные формы. Сравнение поэм или картин со сновидениями и галлюцинациями тоже не достигает цели. По Фрейду, созерцание произведения искусства доставляет нам наслаждение, подобное легкому наркозу, погружает нас в кратковременный сон, уводящий от повседневных проблем и тягот. Конечно, стихия сновидчества так или иначе входит в нашу жизнь, и в современном искусстве тому можно найти множество подтверждений. Но все же символы сновидений отличаются от символики искусства, да и не всякое искусство следует именовать символическим (хотя всякий образ в известном смысле является символом). Сновидения дают беглые, преходящие, запутанные образы: они обогащают нас лишь после перевода их на язык сознательных представлений, а такой перевод уже является осознаваемым творческим актом, преобразующим сырой материал сновидения. Даже если картина создана под несомненным влиянием сновидений, она обогащает нашу жизнь новыми смыслами. Искусство — это самопостижение человека, творчество не является регрессией в архаическое прошлое рода. Искусство представляет собой прогрессию, движение самого художника, а через него читателя, зрителя к новому осмысленному видению мира. Даже если мы принимаем не предельно узкую трактовку искусства, предложенную Фрейдом, освобождаемся от навязчивых поисков эдипова комплекса и толкуем главные темы искусства как архетипические образы, как вечные символы мифологии, как это предлагал Юнг, мы все равно исключаем из искусства самое главное — творческий акт художника.
Психоаналитическое учение представляет собой способ истолкования знаков, семиотику или даже симптоматику культуры. Взгляд Фрейда на искусство, религию, мораль, социальные институты — это взгляд врача, определяющего по симптомам причины, характер и протекание заболевания. «Разумность» человека весьма ограничена, за ясными и отчетливыми идеями и образами сознания скрываются темные и спутанные бессознательные стремления. Предметом психоанализа являются те случаи, когда у больного эта «тьма» берет верх над сознательной жизнью. Если эти случаи принимаются в качестве парадигмы, если такова природа человека, то исчезают всякие ограничения для аналогий между вытесненными влечениями, сновидениями, произведениями искусства, социальными институтами. Поле применения психоанализа тогда беспредельно, равно всей культуре, всему человеческому бытию. Вся культура рассматривается по образу и подобию «работы сновидения», превращающей запретное влечение в представление, допустимое цензурой «Сверх-Я». Вслед за Ницше и Марксом, создатель психоанализа выводит высшие проявления человеческого духа из элементарных стремлений: эти три мыслителя стали главными авторитетами для сегодняшних «разоблачителей» культуры, разыскивающих за всеми идеалами и ценностями экономический интерес, волю к власти или инстинктивное желание. Культура в этих учениях «эры подозрения» является либо невинной иллюзией, либо злонамеренным обманом.
Такой взгляд на многие явления культуры отчасти оправдан. Нам хорошо знакомы призывы создавать образ «положительного героя» по канонам социалистического реализма, ссылками на мораль слишком часто оправдывались далеко не моральные дела. Фрейд цитировал в связи с этим известное стихотворение Гейне:
Я знаю мелодию, знаю слова, Я авторов знаю отлично;
Они тайком тянули вино, Проповедуя воду публично.
Сам метод Фрейда — сведения сложного к простому, примитивному и архаичному — нельзя назвать вообще неверным. Любой ученый анализирует сложное явление, разлагая его на простые составляющие. Односторонность тоже не всегда можно отнести к порокам. Психоаналитический способ видения дает нам возможность разглядеть некоторые особенности работы человеческой фантазии, открывает механизмы проекции, которые не осознаются теми, кто переносит на внешний объект свои неосознаваемые переживания. Есть немало примеров удачного применения психоаналитического инструментария. Я мог бы сослаться даже на работы в области истории философии[10], скажем, на книгу Э. Доддса «Греки и иррациональное», которая неожиданно высветила те стороны душевной жизни древних греков, мимо которых проходили предшественники Доддса. Картина, которую мы получаем, зависит от способа «чтения». Сквозь призму фрейдовской культурологии мы что-то можем увидеть лучше, но стоит нам принять такое «зеркало» за универсальный ключ к любому шифру, и мы получаем вместо удобного инструмента исследования набор сбивающих с толку «идолов театра». Более того, мы сталкиваемся с мифологией, которая приходит на место всего того, что успел «разоблачить» психоаналитик.
- [1] Вейнберг И. П. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. М.: Наука, 1986.С. 22—24.
- [2] Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 308.
- [3] Я не затрагиваю здесь важную тему — применение психоанализа в историческихисследованиях. Фрейд написал по этому поводу мало, а единственная заслуживающаяупоминания работа — написанная совместно с У. Буллитом биография президентаВильсона — является слабой даже по признанию большинства психоаналитиков. В предыдущей лекции я уже упоминал «психоисторию» Эриксона как одну из наиболее плодотворных моделей соединения психоанализа и исторической науки, а ранее — на историческую социологию Н. Элиаса, в которой «процесс цивилизации» осмысляется подявным влиянием психоанализа.
- [4] Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. С. 106.
- [5] Например, это сравнение проводится в содержательной работе М. А. Поповой"Фрейдизм и религия". М.: Наука, 1985.
- [6] В качестве примера я могу привести книгу S. Kofmann L’enfance de 1'art. Uneinterpretatin de l’esthetique freudienne. Paris, Gaiilee, 1985, в которой благородная цель —реконструкция фрейдовской «эстетики» — оправдывает средства: все сделавшиесясегодня архаичными или даже нелепыми тезисы Фрейда либо «не замечаются», либопрепарируются таким образом, чтобы Фрейд стал напоминать нам Деррида.
- [7] Художественное творчество в иных цивилизациях, даже в Античности и в Средние века, никогда не привязывалось к биографии с такой настойчивостью, как в последние века. Перемены начинаются с эпохи Возрождения, но только с XIX века главнымключом к пониманию произведения искусства становится биография творца. См.:Coomaraswamy А. К. Christian and Oriental Philosophy of Art. N. Y., 1956.
- [8] Я не стану пересказывать ни очерк Фрейда «Достоевский и самоубийство», нидругие его работы по проблемам искусства. В связи с этим очерком следует сказатьнесколько слов лишь потому, что он дает неплохое представление об «игре на понижение», свойственной всем экскурсам Фрейда в область литературы и искусства. Фрейдохотно поверил клевете Страхова на Достоевского, поскольку ему очень хотелось найтипатологию; известная всем и хорошо описанная эпилепсия Достоевского не случайнопревратилась у Фрейда в истерию — в таком случае он мог применить свой понятийный аппарат к истолкованию романов Достоевского. Если о Шекспире мы практическиничего не знаем, а о личной жизни Леонардо сведения обрывочны, что дает «пространство» для умозрительных истолкований, то Достоевский был старшим современникомФрейда. Будь у него желание, он мог бы найти достоверные источники — но ему онине были нужны. Зато он охотно рассуждал о «русской душе», находя в ней «наследиежизни примитивного человека, сохранившееся однако гораздо лучше и в более доступном сознанию, чем у других народов, виде» (Фрейд 3. «Я» и «Оно», кн. 1. С. 395). По егособственному признанию, судил Фрейд по одному своему русскому пациенту, не замечая того, что он просто пользуется уже имевшимися стереотипами. Одной из самыхсомнительных — если не сказать больше — областей применения психоанализа является этнопсихология. Рассуждения о присущей русским «амбивалентности», в принципе, ничуть не лучше обнаружения у всех немцев «анального характера» в силу пунктуальности и любви немцев к чистоте и порядку. С той разницей, что последователи Фрейданаписали немалое число работ с явно антирусской направленностью.
- [9] Честертон Г. К. Гамлет и психоаналитик // Самосознание европейской культурыXX века. М.: Политиздат, 1991. С. 221. Я позволю себе привести большую цитату из этогоэссе Честертона: «Психоаналитики сильно озабочены так называемой проблемой Гамлета. Их особенно интересует то, чего Гамлет не знал, не говоря уже о том, чего не зналШекспир. Раньше бились над вопросом: был ли Гамлет безумцем; теперь вопрос стоитиначе: безумен ли весь свет? …Изо всех сил пытаются доказать, что подсознательно Гамлет стремился к одному, сознательно — к другому. …И никому не приходит в голову, что не так уж приятно перерезать горло собственному отчиму и дяде. Мораль Гамлетаотличается от современной: он знал, что отмщение страшно, и все же считал, что обязанотмстить. Чтобы объяснить поведение Гамлета, не нужно психоанализа. Он сам объяснил свои действия, он даже слишком этим увлекся. Долг явился ему в отталкивающей О
- [10] Чаще всего эти работы полны нелепиц, вроде сведения всей философии Витгенштейна к гомосексуальному влечению, а «Бытия» Хайдеггера к его вытесненной любвик матери.