Лекция 2 Вещь, субстанция, материя и форма в свете идеи творения
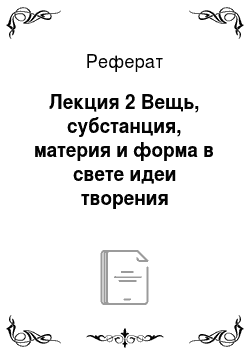
Таким образом, парадокс здесь заключается в том, что единственной несомненностью в отношении всех вещей сотворенного мира является то, что они есть, — иными словами, именно то, что «ухватывается» только верой, но не знанием. Любая же попытка конкретного описания вещи (ее исследования) должна здесь осуществляться «с поправкой» на то, что вещь могла бы быть и другой, а значит, мы имеем дело только… Читать ещё >
Лекция 2 Вещь, субстанция, материя и форма в свете идеи творения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Эта своеобразная «расколотость» характеризует и те понятия, посредством которых выстраивается образ мира в рамках онтологии творения. Следует, однако, отмстить, что в значительной степени тот онтологический «инструментарий», который был выработан в античной философии, сохраняется и в богословскофилософской традиции христианского Средневековья. Вместе с тем то радикальное переосмысление категории бытия, о котором шла речь выше, с необходимостью влечет за собой и серьезную трансформацию смысла остальных онтологических категорий. Попробуем прояснить характер этих изменений, не забывая о том, что основная онтологическая задача остается неизменной применительно к любому способу мышления-бытия: она заключается в том, чтобы понять мир как целое. Однако в контексте онтологии творения мыслящий опирается не на интуицию исходного единства мира, нуждающегося в смысловом прояснении, но на интуицию изначальной «расколотости» — как мира (на сам мир и на его «внемирный» источник), так и себя самого (на «природный» и «личностный» аспекты своего существования). Это означает, что путь осмысления мира в качестве точки отсчета имеет здесь нечто уже данное — не в мысли, но в непосредственном опыте. Такой опыт являет мне не какую-то единую основу всего существующего («то, из чего»), но — отдельные вещи.
Здесь наконец необходимо прояснить (хотя бы предварительным образом) понятие вещи, имеющее особое значение в контексте онтологии творения. В самом общем (можно сказать, обыденном) смысле этого слова вещь — нечто, существующее выделенным образом, отдельно от всего остального. В этом смысле под «вещью» подразумевается не только некий чувственно воспринимаемый предмет, но и любое явление, которое выделяется нами на неопределенном фоне всего остального. Так, например, мы можем говорить как о «вещах» о любви или дружбе, о страхе или предательстве и т. п. Очевидно, что подобный — предельно широкий — смысл этого понятия применим к любому способу мышления-бытия: понятие вещи оказывается задействованным ровно постольку, поскольку осмысление мира как целого предполагает выделение отдельных фрагментов этого мира.
Однако применительно к сотворенному миру категория вещи приобретает особый смысл: вещь — это то, что дано, вручено мне Богом, то, что необходимо признать и принять еще до всякого исследования и осмысления. Эта встреча с тем, что мне дано, и есть то, что в этом контексте обозначается выражением «непосредственный опыт». Очевидно, что этот опыт обязательно должен содержать чувственный элемент, опираться на телесные ощущения: будучи сам сотворенным существом, наделенным плотью, человек встречается в сотворенном мире с вещами как 126.
воплощенным замыслом Творца. Однако одними ощущениями этот опыт не исчерпывается. Встреча с сотворенными вещами требует не просто опоры на ощущения, но и прямо противоположного действия: восприятия вещи как того, что никогда не сводится к простой сумме ощущений, соответственно как того, что не воспринимается никакими ощущениями. Эта мыслительная операция характеризуется В. П. Гайденко и Г. А. Смирновым следующим образом: «…Прежде чем выделить многообразие свойств, присущее вещи, необходимо указать на „то, что есть“, выделить существующую вещь как нечто целое и в целом различить два момента: его бытие и то, что бытием обладает. У „того, что есть“, лишенного свойств, нет никаких позитивных определений, поэтому незаконным является вопрос, что оно собой представляет. Его определенность исчерпывается указанием его отличия от факта бытия, всегда сопутствующего „тому, что есть“»[1].
Итак, вещь — некое таинственное «что», о котором мы говорим «есть» до обнаружения каких-либо его конкретных свойств, что и означает, по сути дела, полагание актом веры. Отсюда, собственно, и следует то обстоятельство, что в своей «сердцевине», в сокровенной сути, вещи для человека непостижимы, будучи открытыми только божественному замыслу. Для человека, мыслящего (существующего) в контексте онтологии творения, вещь — апофатическая категория, указывающая одновременно на данность и непознаваемость (в полной мере) всего того, что охватывается понятием «сотворенный мир». Собственно, само это понятие гоже скорее относится к человеческому мышлению, которое всегда, для того чтобы воспринимать отдельную вещь, должно выделить ее на фоне некоего целого, именуемого «миром». Для Бога-Творца же, в силу совершенства его знания, нет необходимости в таком выделении: в каждой сотворенной (творимой) вещи сосредоточена вся мощь божественного ума, и именно поэтому вещь существует в отдельности, опираясь не на «мир», но непосредственно на творящую силу Бога. «Стало быть, — замечает А. В. Ахутин в отношении христианской онтологии, — чтобы узнать, что есть такая-то вещь, нужно узнать, каким образом она уподобляется и причаствует Богу, который превосходит совокупность этих способов, во-первых, как абсолютная полнота бытия, а во-вторых, как субъект бытия, т. е. как творец и создатель, создавший мир из ничего»[2].
Очевидно, что знание такого рода — исключительная прерогатива самого Творца. Помимо всего прочего эта мысль предполагает еще одну установку, весьма необычную как для мыслительных привычек современного человека, так и для античного мышления. Уже Аристотелем, как отмечалось выше, формулируется тезис о том, что знание всегда есть знание общего, единичные же вещи (именно в их единичности) знать нельзя. Именно на этом основывается и другой тезис — о преимуществах «эпистеме» (научного знания) над прочими его видами. Онтология творения «переворачивает» это соотношение: знание общего рассматривается как приблизительное, не затрагивающее в вещи самого главного, того, что и делает ее именно этой вещью. Эта тайна индивидуальности и есть то, что существует и рождается (в данном случае это одно и то же) только в творящем акте Бога. Именно поэтому человек может лишь принимать существование вещей на веру, а Бог знает каждую вещь в ее отдельности, как это утверждает, например, Фома Аквинский: «Все, что Бог знает, он знает совершеннейшим образом: ведь в нем, как абсолютно совершенном, есть всякое совершенство. Но то, что познается только в общем, познается несовершенно: остается неизвестным то, что свойственно данной вещи по преимуществу, то есть ее самые последние совершенства, которыми совершается ее собственное, [особенное] бытие: поэтому такое общее познание познает вещь скорее в потенции, чем в действительности. Значит, если Бог, зная свою сущность, знает все [вещи] в целокупности, он должен знать также [помимо этого] все вещи в особенности»[3].
Итак, называя нечто вещью в рамках онтологии творения, мы признаем одновременно два момента: ее данность, «неотменимость» — в силу сотворенности и ее непознаваемость, «непрозрачность» для человеческого разума. Последнему доступны только какие-то отдельные свойства, характеристики вещи, которыми он ее наделяет в процессе познания. «Ядро» же вещи есть нечто недоступное для человека. Именно это недоступное для полного знания «ядро» и получает в средневековой онтологии имя субстанции (от лат. substantia — подлежащее). Собственно, понятие субстанции важную роль играет уже в философии Аристотеля (греческий эквивалент этого термина — hypostasis) как одна из десяти категорий, посредством которых, согласно Аристотелю, мы «высказываемся о вещах». Раннесредневековый мыслитель, богослов и философ VI в. Северин Боэций в одном из своих трактатов, воспроизводя этот аристотелевский перечень («субстанция, качество, количество, отношение, место, время, обладание, положение, действие, страдание»[4]), ниже поясняет главное различие между этими понятиями: «Одни из них указывают как бы на саму вещь, а другие — как бы на сопутствующие вещи обстоятельства; одни, будучи высказаны о вещи, показывают, что она есть нечто, напротив, другие ничего не [высказывают] о бытии, но только связывают ее каким-либо образом с чем-то внешним»[5]. Очевидно, что категория субстанции занимает здесь особое место, не просто «указывая на саму вещь», но выделяя в вещи то, что делает ее именно этой вещью, иными словами — выделяя в ней то самое «ядро», которое доступно только божественному всеведению. Поэтому категория субстанции, подобно категории вещи, также имеет преимущественно апофатический смысл, указывая па границу между свойствами вещи (акциденциями) и самой вещью, которая может быть маленькой или большой, черной или белой, полезной или бесполезной, оставаясь во всех случаях именно этой вещью.
Таким образом, различие между понятиями вещи и субстанции заключается преимущественно в том, что субстанция есть не просто нечто выделенное, существующее в силу сотворенности, но — именно это, т. е. нечто уже названное, конкретная вещь, получившая наименование, но от этого не ставшая менее загадочной. Скорее наоборот: выделяя нечто в качестве субстанции, мы утверждаем это «нечто» как восходящее непосредственно к БогуТворцу, а значит существующее прежде всего в этой связи со своим трансцендентным началом, независимо от всего остального: «Категория субстанции констатирует замкнутый, самодовлеющий характер того, к чему она относится. Быть субстанцией — значит быть значением отдельного слова, принадлежащего по своим грамматическим признакам к классу имен существительных; каждое существительное указывает не на другое существительное, а на свое значение. Значения, соответствующие разным именам, будут поэтому столь же обособленными, независимыми друг от друга, как и обозначающие их имена.
Как имени существительному в предложении могут приписываться те или иные предикаты, так и субстанция может становиться носителем акциденций"[6].
Сама идея творения, однако, не позволяет рассматривать вещи как субстанции в подлинном смысле слова: ведь уже в силу своей сотворенности ни одна вещь не является по-настоящему «самодовлеющей». Поэтому само понятие субстанции несет в себе ту двойственность, которая неизменно характеризует мышление в контексте онтологии творения: рассматривая что-либо в качестве субстанции, мы утверждаем одновременно и неустранимость, данность, независимость этого «чего-либо» от других вещей и его несамодостаточность. Отсюда понятно, что субстанцией в подлинном смысле слова можно назвать только начало всякой субстанциальности, т. е. Бога, на что и указывает Боэций: «…Когда мы говорим «субстанция» — будь то о человеке или о Боге, — мы говорим это так, будто то, о чем мы это говорим, само есть субстанция.
«человек» или субстанция «Бог». Однако есть разница: ведь человек не есть целиком только человек как таковой, а потому не есть и [только] субстанция; тем что он есть, он обязан также и другим [свойствам], отличным от человека как такового. Бог же, напротив, есть именно сам Бог как таковой, и в Нем нет ничего, кроме того, что Он есть, и именно поэтому Он и есть Бог"[7].
Итак, субстанция в подлинном, собственном смысле слова — это Бог, и только Он. Таким образом, сотворенные вещи называются субстанциями именно в силу своей сотворенности — иными словами, называя вещь субстанцией, мы указываем, во-первых, на присутствие в ней божественного (а значит, непознаваемого) действия и, во-вторых, на несовпадение характеристик вещи (акциденций) и ее субстанциальной основы. Поэтому субстанция — это то, что всегда скрыто, присутствует «за» или «под» всеми свойствами и проявлениями вещи, которые могут ее характеризовать. В другом своем трактате — «Против Евтихия и Несгория» — Боэций дает именно такое, по сути своей апофатическое, определение субстанции: «…субстанция — это то, что служит неким подлежащим для других акциденций, без чего они существовать не могут; она „стойт под“ акциденциями как их подлежащее»[8].
Таким образом, общим для понятий вещи и субстанции является то, что посредством каждого из этих понятий утверждается — в опоре на веру — существование чего-либо или кого-либо (как непознаваемого в своей основе). Отличаются же эти понятия, так сказать, степенью сложности, соответствующей степени нашего продвижения по пути познания сотворенного сущего: как уже было сказано, субстанция — это не просто вещь, но названная вещь, с одной стороны, не познаваемая полностью, а с другой — имеющая свойства, которые могут и должны быть выделены в дальнейшем исследовании. Категория субстанции, таким образом, «схватывает» ту двойственность, которая отличает мышление в рамках онтологии творения: одной своей «стороной» она обращена к непознаваемости Творца, другой же — к возможностям человеческого познания сотворенного мира. Поэтому, выделяя различные свойства, отличительные признаки вещи, мы всегда должны помнить об этой ее непознаваемой «изнанке», рассматривая те или иные свойства вещи в конечном счете только как сопутствующие ей.
Таким образом, парадокс здесь заключается в том, что единственной несомненностью в отношении всех вещей сотворенного мира является то, что они есть, — иными словами, именно то, что «ухватывается» только верой, но не знанием. Любая же попытка конкретного описания вещи (ее исследования) должна здесь осуществляться «с поправкой» на то, что вещь могла бы быть и другой, а значит, мы имеем дело только с акцидентальными (привходящими, в какой-то мере — случайными) свойствами вещи. В трактате «Каким образом субстанции могут быть благими?» Боэций указывает именно на этот разрыв между тем, что утверждается актом веры (а мы утверждаем таким образом не только то, что нечто есть, но и то, что это существующее — благо, поскольку благо, бытие и Бог-Творец — одно и то же), и тем, что обнаруживается нами в непосредственном соприкосновении с вещью, т. е. в акте познания. Все, что утверждается о Боге в опоре на веру, это то, что Он — источник бытия и блага, и поэтому все остальное в вещах — условно, как, например, цвет: «Иначе обстоит дело с [вещами, например] белыми: они не будут белыми только потому, что существуют, ибо бытие их проистекает из воли Бога, а белизна — нет. В самом деле, быть и быть белым не одно и то же, потому что тот, кто вызвал вещь к бытию, сам благ, но не бел. Следовательно, то, что [существующие вещи] благи постольку, поскольку существуют, соответствует воле благого создателя; но чтобы существующая вещь была белой постольку, поскольку она существует, — такое не может соответствовать воле создателя, который сам не бел; а вещи проистекли не из воли [кого-то] белого. Таким образом, поскольку не был белым тот, кто захотел, чтобы существовали эти белые вещи, то они белы всего лишь по совпадению (peri accidens); но чтобы они были благими, захотел тот, кто сам благ, и поэтому они благи уже постольку, поскольку существуют»[9].
Откуда же мы знаем о том, что Бог не бел? Мы обнаруживаем это в том «прыжке веры», который переносит нас за предел всякой ограниченности, иными словами — просто за предел. Именно этот предел и разделяет субстанцию и акциденции. Можно ли, однако, ограничиться в процессе познания и осмысления мира этим разделением вещи на непознаваемое основание и случайные свойства? В таком случае мы просто не смогли бы действовать в сотворенном мире, вступать в какие бы то ни было отношения с вещами: ведь случайный характер свойства, строго говоря, не позволяет даже надеяться на то, что это свойство останется тем же самым в следующий момент времени — после того, как мы его выявили и отметили. Следовательно, задача осмысления сотворенного мира требует сделать очередной «возвратный шаг» к истоку всего сущего — для того, чтобы выразить утверждаемую актом веры сотворенную единичность (вещь и субстанцию) уже на уровне знания. И здесь вновь оказываются необходимыми категории материи и идеи (формы), играющие столь значительную роль в онтологии Единого.
Очевидно, однако, что в свете установки «Быть — значит быть творимым» эти понятия существенно меняют свою смысловую окраску. И материя, и идея здесь тоже, подобно понятиям вещи и субстанции, вынуждены как бы «раздвоиться»: материю и идею вещи, которые мы выделяем в процессе познания (неизбежно ограниченного), сопровождает как бы апофатическая «тень», свидетельствующая о непознаваемости Творца. Именно благодаря этой «тени» мы и опираемся на веру как на важнейшее условие нашего познания: выделяя в вещи какую-то определенность, доступную моему разуму (идею или форму), и тот «субстрат», который эта форма содержит, я тем самым оказываю доверие Творцу, его разумному замыслу. Именно этот замысел и есть та апофатическая «тень» понятия формы, в которой только и может «работать» это понятие в контексте человеческого — всегда ограниченного — мышления и познания.
Поэтому говорить о форме применительно к Богу мы можем тоже только в опоре на веру, а не на знание. Так, Фома Аквинский дает следующее разъяснение понятия «божественная идея»: «Поскольку мир возник не случайным образом, но сотворен Богом через посредство активного интеллекта, как-то будет показано ниже, необходимо, чтобы в божественном уме была форма, по подобию которой сотворен мир. А в этом и состоит понятие „идеи“»[10]. Слова, «как то будет показано ниже», казалось бы, обещают некоторое доказательство, опирающееся на какое-либо знание, но по сути дела речь здесь идет о разъяснении «истин веры», которые просто утверждаются: сам выход за пределы мира к его трансцендентному истоку есть утверждение этого истока как разумного (точнее, сверхразумного) основания мира. Признавая в акте веры сотворенность мира, я гем самым признаю и его разумность, а следовательно — непознаваемую идею (форму) творения.
Тем же самым актом веры полагается и материя — как-то, что подлежит оформлению, материя как чистая возможность. На первый взгляд, понятия идеи (формы) и материи здесь практически совпадают по смыслу с аналогичными понятиями в онтологии Единого. Однако именно то, что в онтологии сотворенного мира они относятся в первую очередь к трансцендентному Творцу, и позволяет выявить те новые смысловые оттенки, о которых говорилось выше. Тайна творения не перестает быть тайной оттого, что мы пытаемся понять сотворенные вещи посредством обращения к категориям формы и материи: и то и другое мыслится теперь только «по аналогии» в силу несоизмеримости человеческого ума и божественного основания всего существующего. Фома Аквинский говорит об этой несоизмеримости, в частности, следующее: «…что же до способа обозначения, то всякое имя ущербно [будучи применено к Богу]. В самом деле, именем мы выражаем вещь так, как понимаем ее умом. Но наш ум, берущий начало познания из чувств, не выходит за пределы той степени [бытия или совершенства], какая имеется в чувственных вещах, а в них форма — одно, а имеющее форму — другое, потому что все они сложены из формы и материи. Форма в этих вещах хоть и простая, но несовершенная, потому что не существует самостоятельно; а имеющее форму хоть и самостоятельно, но не просто, ибо обладает слитностью. …Таким образом, во всяком имени нашего языка, в том, что касается способа обозначения, обнаруживается несовершенство, и поэтому оно не достигает Бога, хотя сама обозначаемая вещь, будучи взята в превосходной степени, присуща Богу»[11].
Все приведенное выше рассуждение строится именно в опоре на тезис о несоизмеримости человеческого и божественного и — шире — тварного и Творца. Последнее предложение здесь особенно показательно, поскольку наглядно демонстрирует ту двойственность, которая присуща способу мышления в рамках онтологии творения. Признавая то, что никакое «имя нашего языка… не достигает Бога», мы как бы «удерживаем вместе» разделенные онтологической пропастью тварный мир и его трансцендентный источник, а утверждая, что «сама… вещь, будучи взята в превосходной степени, присуща Богу», мы преодолеваем эту пропасть «прыжком веры», используя слова, но понимая при этом все их несовершенство. Это и есть «заключение по аналогии» в том смысле, в котором это выражение употребляется средневековыми богословами и философами.
Таким образом, осознавая задачу «понять мир как целое», мыслящий в рамках онтологии творения, с одной стороны, опирается на свое непосредственное восприятие сотворенных вещей, с другой же — на апофатическое положение о непознаваемости Творца. Возвращаясь к понятиям формы и материи, можно заключить, что эти категории применяются к Богу, также будучи доведенными до «превосходной степени», очищенными от всяких «здешних», посюсторонних примесей. Именно таким путем форма и становится чистым разумным замыслом и одновременно творящим действием, а материя — тем, что подвергается этому действию. Именно постольку, поскольку в форме совпадают разумность и актуальность (действенность или действительность), это понятие оказывается в наибольшей степени приложимым к Богу, в то время как материя — вовсе не приложимым. Положение о том, что Бог есть «чистая актуальность», — просто переформулированный тезис о сотворенности мира: «…первое действующее, то есть Бог, не имеет примеси потенции, но есть чистый акт [т. е. действительность]»[12]. Но и то, что «чистый акт» есть одновременно «чистая идея» или «форма», т. е. разумное начало, мы заключаем опять же по аналогии, как об этом говорит сам Аквинский: «…Приходится предполагать превыше человеческой умопостигающей души бытие некоторого высшего интеллекта, от которого душа получает способность умопостижения. Ведь все участвующее в чем-либо, что движимо и несовершенно, требует ранее себя нечто иное, что обладало бы этим свойством по своей сущности и было бы неподвижным и совершенным»[13].
Таким образом, понятие «чистой формы», которое прилагается к Богу-Творцу, возникает у нас ровно постольку, поскольку мы обнаруживаем несамодостаточность нашей «умопостигающей души» и предполагаем ее трансцендентное основание, в котором бытие разумным, бытие действующим и просто бытие совпадают: «…только применительно к Богу умопостигающая деятельность совпадает с бытием. Поэтому только в Боге интеллект есть его сущность; во всех прочих умопостигающих существах интеллект есть некоторая потенция умопостигающего лица»[14].
Итак, «чистая форма» или «чистый акт» — это «имена Бога», которыми мы его наделяем, не забывая, однако, о том, что каждое из этих имен обретает смысл только в акте веры. Что касается материи, то по отношению к Богу мы можем лишь отрицать ее, т. е. рассматривать материю как нечто противоположное божественному творящему акту, как это утверждается Фомой Аквинским: «Что Бог не есть материя, явствует из следующего. Ибо в силу материи то, что существует, существует потенциально. И еще. Материя не есть начало действия, а потому действующее [начало] и материя в одной и той же [вещи] не совпадают, согласно Философу. Богу же подобает быть первой действующей причиной вещей, как было сказано выше… Следовательно, Бог — не материя»[15]. «Философ», на которого ссылается Аквинский в этом рассуждении, — Аристотель, выступавший высшим авторитетом для большинства представителей средневековой схоластической мысли. Казалось бы, в силу этого обстоятельства мы должны сделать вывод о прямой преемственности между материй как «субстратом» в онтологии Единого и материей как «тем, из чего» создаются сотворенные вещи в онтологии творения. Здесь, однако, скрывается существенное различие, коренным образом меняющее смысл понятия материи. Аристотель, как мы помним, отталкивается в своем учении от единичных вещей, рассматривая их при этом как вполне постижимые разумом, на основании чего и приходит к выводу о материи как о начале, «восприемлющем» формы. Фома Аквинский, отталкиваясь от тех же самых единичных вещей, рассматривает их — в контексте идеи творения — как непостижимые. Именно поэтому материя здесь есть нечто немыслимое и не существующее в подлинном смысле слова, т. е. ничто — вне божественного творящего действия. О материи мы можем говорить только как о чем-то вторичном, о том, что есть благодаря форме: «…в форме надлежит искать основание, почему такова материя, а не наоборот»[16].
- [1] Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в Средние века.С. 137−138.
- [2] Лхутин А. В. Понятие «природа» в Античности и в Новое время («фюзис"и «натура»). С. 26.
- [3] Фома Аквинский. Сумма против язычников. Долгопрудный, 2000.С. 235−237.
- [4] Боэций. Каким образом Троица есть единый Бог// Боэций. Утешение философией. М., 1996. С. 121.
- [5] Там же. С. 124.
- [6] Гайденко В. II., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в Средние века.С. 144−145.
- [7] Боэций. Каким образм Троица есть единый Бог. С. 122.
- [8] Боэций. Против Евтихия и Нестория // Боэций. Утешение философией.С. 139.
- [9] Боэций. Каким образом субстанции могут быть благими? // Боэций. Утешение философией. С. 132.
- [10] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 836.
- [11] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 165.
- [12] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 99.
- [13] Цит. но: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 856−857.
- [14] Там же. С. 856.
- [15] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 100−101.
- [16] Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 851.