Лекция 3 Понятия тождества и различия, части и целого в механистической картине мира
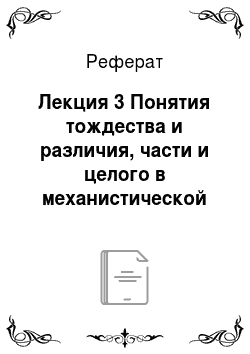
Несколько иначе этот парадокс преломляется в соотношении категорий «единичного» и «общего», обращение к которым в контексте любой онтологии связано с необходимостью ответа на извечный вопрос: «как помыслить многое в одном, как представить многообразие существующего в контексте единого мира?». В рамках онтологии субъекта ответ на этот вопрос осуществляется в том же напряженном противостоянии… Читать ещё >
Лекция 3 Понятия тождества и различия, части и целого в механистической картине мира (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Итак, только способность «необусловленного законодательства в отношении целей», т. е. способность действовать в соответствии с «идеями разума», нс зависящими от чего-либо внешнего, делает человека субъектом, т. е. тем, кто подчиняет себе объект. Но это означает, в свою очередь, что между понятиями «человек», «субъект», «разумное существо» нельзя однозначно ставить знак равенства. Условие, при котором это приравнивание допустимо, есть не что иное, как самотождественность разумного субъекта; здесь мы обнаруживаем тот момент, который связывает друг с другом категориальные пары «материя — идея» и «тождество — различие» в контексте онтологии субъекта.
Именно потому, что идеи разума субъект обнаруживает в себе — постольку поскольку совершает свободный акт познания-преобразования мира, — его самотождественность также утверждается действием, приобретает функциональный характер. Субъект равен себе только при условии своего осуществления в качестве субъекта. Точкой отсчета этого осуществления как раз и становится акт отличения себя — как мыслящего (действующего) от не-себя, например, души от тела в «методологии сомнения» Р. Декарта. Инстанция, гарантирующая сохранение тождественности субъекта (а это и есть Бог, которого, по Декарту, мы находим в душе, или «в идее»), обнаруживается только при условии решительного следования по пути этого разделения «моего» и «не моего».
Это различение, в свою очередь, возможно только тогда, когда оно осуществляется в свете исходного парадокса субъекта: я действую именно потому, что стремлюсь к благу, или к совершенству, однако сам факт этого стремления свидетельствует о том, что это совершенство уже есть. Иными словами, Бог мне открывается только в стремлении к нему, стремление же эго выступает оборотной стороной сомнения, связанного с моим несовершенством, моей конечностью. В познавательном акте само мое желание знать — как можно более достоверным образом — открывается мне как действие в моей душе идеи Бога: «А так как мы знаем, что нам присущи многие недостатки и что мы не обладаем высшими совершенствами, идею которых имеем, то отсюда мы должны заключить, что совершенства эти находятся в чем-то от нас отличном и действительно всесовершенном, которое есть Бог, или что по меньшей мере они в нем некогда были, а из того, что эти совершенства бесконечны, следует, что они и ныне там существуют»[1].
Парадоксальным образом именно «ясное и отчетливое», говоря словами Декарта, осознание своего несовершенства позволяет мыслящему субъекту обнаружить совершенное основание своей неизменности — идею Бога, к которой в конечном счете восходят все остальные «идеи разума». Следовательно, тождество теперь не гарантируется «самой по себе» идеей, как это имеет место в рамках онтологии Единого, и не обеспечивается Богом, догматически принимаемым человеком в опоре на авторитетное знание («букву»); в контексте онтологии субъекта тождество человека и мира имеет только одну опору: действие конечного разума на свой страх и риск, или — «Бога в душе».
Именно в акте отказа от внешней гарантии субъект обретает внутреннюю точку опоры. Этот парадокс cogito отчетливо формулируется М. К. Мамардашвили в его лекциях, посвященных Декарту: «…то „я“, которое должно сотворить себя, сотворится „действием естественного света“, как скажет Декарт. Или силой, большей, чем сам человек. Человек что-то с собой делает, чтобы открыть в себе действие какой-то другой силы, и называет ее потом или она себя называет — Богом. Декарт замечает, что мы не могли бы назвать ее Богом, если бы уже не имели Бога, его идею в себе; т. е. если бы не попали, другими словами, в круг тавтологий»[2].
«Круг тавтологий», таким образом, — то место, которое создает и в котором находит себя субъект, постольку поскольку осуществляет действие познания. Основную схему этого кругового вопросно-ответного движения мысли можно представить следующим образом: «что есть мир?» — «что во мне заставляет задаваться этим вопросом?» — «на чем основана моя уверенность в возможности ответа?» — «каким должен быть мир, чтобы ответ оказался возможным?». Этой замкнутой на себя цепочке вопросов соответствует столь же замкнутая цепочка ответов, которые могли бы выглядеть следующим образом: «мир — то, что противостоит мне, спрашивающему о нем» — «спрашивать о мире меня заставляет.. сам вопрос (= сомнение = мысль = декартовское cogito)» — «уверенность в возможности ответа основана на моем стремлении к полноте и совершенству знания, которое можно объяснить только присутствием идеи Бога в моей душе» — «мир, о котором я могу что-то знать, может быть только чем-то радикально отличным от меня как субъекта познания, т. е. протяженной субстанцией в противоположность субстанции мыслящей, или, говоря языком И. Канта, „областью возможного опыта“, тем миром, который противостоит мне, мыслящему, в качестве источника моих ощущений и наглядных представлений».
Характеризуя субстанцию как понятие, «отвечающее» за устойчивость (= тождественность) всего существующего, Кант указывает на тавтологичность, неизбежно связанную с употреблением этого понятия: «Собственно, положение, что субстанция устойчива, есть тавтология. Признак устойчивости именно и есть то основание, благодаря которому мы применяем к явлениям категорию субстанции…»[3]. Иными словами, «признак устойчивости» мы находим не «снаружи», в самих явлениях, напротив, вещи выступают в качестве явлений только при том условии, что мы рассматриваем их как неизменную основу этих явлений. В свою очередь, это условие оказывается осуществимым лишь в силу того, что сохраняет (точнее, постоянно воспроизводит) свою устойчивость, сам познающий разум, в той неизменной форме, которая Декартом обозначается как «когито», а Кантом — как «трансцендентальное[4] единство апперцепции»: «Должна существовать возможность того, чтобы „я мыслю“ сопровождало все мои представления; в противном случае во мне представлялось бы нечто такое, что вовсе не может быть мыслимым, иными словами, нечто такое, что, как представление, или невозможно, или по крайней мере для меня вовсе не существует. Представление, которое может быть дано до всякого мышления, называется наглядным представлением. Все многообразие наглядного представления имеет, следовательно, необходимое отношение к представлению „я мыслю“ того самого субъекта, в котором это многообразие находится. Но это представление есть акт самодеятельности, т. е. оно не может рассматриваться как принадлежащее чувственности. Я называю его чистой апперцепцией, чтобы отличить его от эмпирической апперцепции; оно есть самосознание, производящее представление „я мыслю“, которое должно иметь возможность сопровождать все остальные представления и быть тождественным во всяком сознании; следовательно, это самосознание не может сопровождаться никаким дальнейшим представлением „я мыслю“, и потому и называю его также первоначальной апперцепцией. Единство его я называю также трансцендентальным единством самосознания, чтобы обеспечить возможность априорного[5] познания благодаря ему»[6].
Итак, сказано предельно ясно: тождественность познающего разума самому себе поддерживается (воссоздается) в акте самодеятельности, который, таким образом, обеспечивает и тождественность того мира-объекта, который этому разуму является. Как в этом контексте следует понимать «различие», инаковость? Очевидно, что, так же как и в античной и средневековой онтологии, различие здесь выступает в качестве вторичной категории по отношению к тождеству; но теперь этот подчиненный характер различия вытекает из признания онтологической первичности субъекта, который, как было показано выше, может существовать, только постоянно воспроизводя себя в своей самотождественности. Таким образом, все вещи тождественны друг другу именно в качестве объектов познающего разума и отличаются друг от друга тоже в соответствии с гем набором характеристик объекта, который задается все тем же разумом. Так, упомянутая выше основная познавательная операция, которую субъект осуществляет в отношении объекта, — измерение — приобретает фундаментальное значение именно потому, что объект заранее дан субъекту как некая величина, на что со всей определенностью указывает И. Кант: «…сознание многообразного однородного в наглядном представлении вообще, поскольку посредством него впервые становится возможным представление объекта, есть понятие величины (Quanti). Следовательно, самое восприятие объекта, как явления, возможно лишь посредством того именно синтетического единства многообразия данного чувственного наглядного представления, посредством которого мыслится единство сложения многообразного однородного в понятии величины«[7].
Итак, заранее рассматривая объект как некую величину, мы оказываемся в состоянии различать виды объектов в соответствии с этим признаком, выявляя те закономерности («законы природы»), которые управляют этими различиями или, напротив, управляются ими. В конечном счете все возможные различия между вещами (как объектами) могут быть в этом контексте сведены к различию величин; иными словами, познающий субъект — в полном соответствии с декартовским проектом «всеобщей математики» — видит в качестве своего познавательного идеала выведение формулы всех возможных различий (и соответственно связей и отношений) между существующими в рамках «объективной реальности» вещами.
Отсюда понятно, что принципиальных, качественных различий в контексте мира-объекта не существует, здесь отсутствуют непроницаемые, недоступные взгляду познающего субъекта онтологические «перегородки». Объект уже дан познающему разуму, он — весь, полностью, — как бы «распростерт» перед субъектом, несмотря на то, что в реальном процессе познания познающий всегда сосредоточен на отдельных предметах и явлениях. Но в силу того что именно субъект — в своей самотождественности — выступает условием тождественности мира, характеристики последнего, во всем их разнообразии, заранее заданы неизменным «устройством» познавательных способностей субъекта.
Отсюда и та убежденность в однородности «объективной реальности», которая лежит в основании возникающего в XVII в. естествознания. Наиболее отчетливым образом эта необходимость мыслить мир-объект как нечто непрерывное и однородное, вытекающее из особенностей нашего познавательного процесса, проговаривается И. Кантом. В «Критике чистого разума» философ следующим образом поясняет эту позицию в отношении материи как объекта познания: «В нашем опыте нетрудно заметить, что только непрерывные влияния во всех местах пространства могут руководить нашими чувствами при переходе от одного предмета к другому; что свет, разливающийся между небесными телами и нашим глазом, устанавливает косвенным путем общение между ними и нами и доказывает сосуществование их; что мы не могли бы эмпирически переменить своего места (воспринять эту перемену) без того, чтобы материя не делала для нас повсюду возможным восприятие нашего места, и только посредством своего взаимного влияния материя может обнаружить свое сосуществование и вместе с тем (хотя и косвенным путем) сосуществование самых отдаленных предметов»[8].
Таким образом, все, что мы можем знать о различиях между вещами и явлениями, встречающимися нам в мире, определяется той способностью различения, которая принадлежит нам, говоря кантовским языком, «до всякого опыта». Реализуя эту способность в познавательном действии, мы, соответственно и противостоящий нам объект, или материю (как протяженную субстанцию), мыслим как совокупность различных действий, или движений, в основе своей однородных и именно поэтому выступающих предметом единой науки о природе. Все многообразие мировых явлений сводится тем самым к тем различиям, которые порождаются движением «внутри» однородной материи. Набросок картины мира, формирующейся в свете этой установки, дается в «Системе природы» Поля Гольбаха: «Вселенная, это колоссальное соединение всего существующего, повсюду являет нам лишь материю и движение. Разнообразнейшие вещества, сочетаясь на тысячи ладов, непрерывно получают и сообщают друг другу различные движения. Различные свойства веществ, их различные сочетания и разнообразные способы действия, являющиеся необходимыми следствиями этих свойств и сочетаний, составляют для нас сущность всех явлений бытия, и от различия этих сущностей зависят различные порядки, ряды или системы, в которые входят эти явления, в совокупности составляющие то, что мы называем природой«[9].
Отсюда понятно, что выявить «сущность всех явлений бытия» (что, собственно, и выступает конечной целью познавательной деятельности субъекта) означает не что иное, как выявить как можно более простые, фундаментальные закономерности, в соответствии с которыми осуществляется «сочетание разнообразнейших веществ». Эти закономерности соответственно призваны объяснить все, что угодно, — вплоть до таких явлений, которые представляются совершенно отличными от материи как таковой. Эта методологическая позиция, возникшая в контексте новоевропейской философии и науки, получила название редукционизма[10], яркий образ которого являет собой следующее утверждение автора цитированной выше «Системы природы»: «…во всех своих исканиях человек должен прибегать к опыту и физике: их советами он должен пользоваться в своей религии и морали, в своем законодательстве, в своей политике, науках и искусствах, в своих удовольствиях и страданиях. Природа действует по простым, единообразным, неизменным законам, познать которые нам позволяет опыт»[11].
Это «единообразие законов природы» простирается, таким образом, и на человека, который тем самым оказывается вынужденным мыслить себя, с одной стороны, тождественным другим носителям разума (субъектам познания), с другой же стороны тождественным другим объектам («вещам природы»). Это двойное тождество, отражающееся одно в другом, заслоняет собой то принципиальное, неустранимое различие между вещами, которое порождает ощущение уникальности каждой вещи в рамках онтологии творения. Мир, который конструирует и в котором существует человек-субъект, — эго мир без различий, мир всеобщей унификации, именно потому, что, будучи миром-объектом, он сам состоит из вещей-объектов, имеющих в конечном счете одно назначение: существовать для субъекта.
Эта тенденция унификации всего существующего наиболее очевидной становится в XIX в., а в первой половине XX в. немецкий мыслитель К. Ясперс описывал ее следующим образом: «Все становится просто материалом, который можно в любую минуту получить за деньги; в нем отсутствует оттенок лично созданного. Предметы изготовляются в огромном количестве, изнашиваются и выбрасываются; они легко заменимы. От техники ждут создания не чего-то драгоценного, неповторимого по своему качеству, независимого от моды из-за его ценности в жизни человека, не предмета, принадлежащего только ему, сохраняемого и восстанавливаемого, если он портится. Поэтому все связанное с удовлетворением потребности становится безразличным; существенным только тогда, когда его нет»[12].
Унификация вещей-объектов дополняется унификацией субъектов — постольку, поскольку они действуют от имени «мыслящей субстанции», формулируя всеобщие правила и руководствуясь этими правилами в своем существовании. В этом мире-объекте, который в конце концов становится сугубо техническим миром, «все существующее направлено в сторону управляемости и правильного устройства. Безотказность техники создает ловкость в обращении с вещами, легкость сообщения нормализует знание, гигиену и комфорт, схематизирует то, что связано в существовании с уходом за телом и эротикой. В повседневном поведении на первый план выступает соответствие правилам. Желание поступать как все, не выделяться создает поглощающую все типизацию, напоминающую на другом уровне типизацию самых примитивных времен»[13].
Означает ли, однако, все сказанное выше исчезновение «полюса различия» в рамках онтологии субъекта? Разумеется, нет: любой способ мышления-бытия реализуется только в напряженном противостоянии философских понятий, составляющих категориальные пары, и мысль, стремящаяся охватить полноту и целостность бытия, с исчезновением этого напряжения сразу же разрушится. Отсюда понятно, что различие в контексте онтологии субъекта, сохраняя свою значимость, присутствует в «замаскированном виде». Собственно, моментом различия здесь выступает как раз первичный момент, определяющий собой существование мира-объекта, а именно: свободный, ничем не обусловленный акт «когито» или «я мыслю» как точка рождения субъекта. Только решимость признать себя («Бога в себе» или, что-то же самое, голос разума в себе) источником всех суждений о мире, иными словами, решимость осознать себя в своей полной отделенное™ от мира, раз-личить себя и мир, выступает условием принятия мира в качестве «объективной реальности».
Таким образом, различие, «скрываясь» за тождественностью, в конечном счете только и делает ее возможной. Это реальное отличие разума как «внутренней инстанции» от всего того, что выступает предметом осмысления для этой инстанции (в том числе и человеческих, природно обусловленных стремлений и желаний), наиболее последовательным образом осмысляется в учении И. Канта о практическом и теоретическом применении разума. Именно практический разум, т. е. тот голос во мне, который побуждает меня к действию (в том числе и к действию познавательному) без всяких условий, до всякого знания, обладает, согласно Канту, безусловным приоритетом; он выступает истоком и целью всех действий субъекта как раз в своей совершенной отделенности, независимости от любых внешних («объективных») воздействий. В работе «Основание метафизики нравов» Кант следующим образом утверждает эту независимость: «…так как разум недостаточно приспособлен для того, чтобы уверенно вести волю в отношении ее предметов и удовлетворения всех наших потребностей, (которые он сам отчасти приумножает), а к этой цели гораздо вернее привел бы врожденный природный инстинкт, и все же нам дан разум как практическая способность, т. е. как такая, которая должна иметь влияние на волю, — то истинное назначение его должно состоять в том, чтобы породить не волю как средство для какой-нибудь цели, а добрую волю саму по себе»[14].
Эта «добрая воля», совершенно бесполезная с точки зрения каких-то ограниченных, повседневных целей и потребностей, и есть то, что может возникнуть только уникальным образом — в акте практического разума, который совершается каждый раз заново и независимо от сплошной тождественности «объективной реальности». Последняя, таким образом, существует — во всей своей объективности — только при условии постоянного самовоспроизводства субъекта как носителя практического разума.
Тем самым действие разума оказывается и единственным гарантом целостности мира-объекта, задает тот алгоритм, на основе которого выстраивается отношение «части» и «целого» в рамках онтологии субъекта. Постольку поскольку целое мираобъекта выступает производным от целостности познающего разума, последний определяет также и характер отношений между частями этого мира. Именно в качестве объекта познания и преобразования мир предстает перед субъектом в качестве механизма, совокупности тел, связанных друг с другом внешним образом. В силу этого часть в контексте онтологии субъекта представляет собой не что иное, как фрагмент той самой однородной протяженной субстанции, или материи, который в конечном счете не отличается от любого другого фрагмента.
Не что иное, как однородность частей «объективной реальности», является условием возможности той универсальной науки, которую Декарт называет «всеобщей математикой». Мы можем, таким образом, уточнить основную задачу этой науки: она заключается в том, чтобы обнаружить и сформулировать (в идеале — на языке математики) характер связей и отношений между этими однородными фрагментами «объективной реальности» — связей, порождающих все видимое многообразие существующих вещей и явлений. Именно поэтому одной из важнейших составляющих познавательной деятельности субъекта выступает анализ — как разделение сложных явлений на предельно простые элементы. В конечном счете этот анализ оказывается не чем иным, как поиском наиболее простых элементов деятельности самого познающего разума, на что со всей определенностью указывает, например, Декарт, утверждая, что «…вещи должны быть рассматриваемы по отношению к нашему интеллекту иначе, чем по отношению к их реальному существованию. Ибо если, например, мы рассмотрим какое-нибудь тело, обладающее протяжением и фигурой, то мы без труда признаем, что оно само по себе есть нечто единое и простое и в этом смысле его нельзя считать составленным из телесности, протяжения и фигуры как частей, которые реально никогда не существуют в отдельности. Но по отношению к нашему интеллекту мы считаем данное тело составленным из этих трех естеств, ибо мы мыслим каждое из них в отдельности прежде, чем будем иметь возможность говорить о том, что они все находятся в одной и той же вещи. Поэтому, говоря здесь о вещах лишь в том виде, как они постигаются интеллектом, мы называем простыми только те, которые мы познаем столь ясно и отчетливо, что ум не может их разделить на некоторое число частей, познаваемых еще более отчетливо. Такими частями являются фигура, протяжение, движение и т. д. Все же остальное мы представляем себе как бы составленным из этих частей (курсив мой. — Е. Б.)»214-
Итак, мир, «составленный из простых частей», мир-механизм, есть, по Декарту, не что иное, как «предположительный мир», если воспользоваться выражением Николая Кузанского, коль скоро между миром «самим по себе» и нашим представлением находится[15]
неустранимое «как бы». Иными словами, необходимость мыслить мир-объект как механизм есть не что иное, как условие самой познаваемости мира. Этот условный характер механистического представления о мире (как единственно возможного для субъекта, опирающегося в процессе познания на деятельность рассудка) утверждается и в критической философии И. Канта. В работе «Критика способности суждения» Кант следующим образом поясняет неизбежность подобного понимания природы познающим субъектом: «…если я говорю: о всех событиях в материальной природе, стало быть, и обо всех формах как ее продуктах, если иметь в виду их возможность, я должен судить только по механическим законам, — то этим я еще не говорю: они возможны только по этим законам (исключая всякий другой вид каузальности); этим я хочу только сказать, что мне следует всегда рефлектировать о них по принципу одного лишь механизма природы и, стало быть, насколько возможно исследовать этот механизм, так как если не полагать его в основу исследования, никакое действительное познание природы будет невозможно»[16].
Познание природы, таким образом, должно опираться на представление о природе как о «целом механического типа», состоящем из отдельных, связанных сугубо внешним образом частей именно потому, что «познавать» в понимании Канта означает опираться на рассудок, упорядочивающий данные опыта. Характер самой рассудочной деятельности, собственно, и ставит познающего субъекта перед необходимостью «судить только по механическим законам». Опираясь в процессе познания на «схематизм рассудка», субъект обретает знание об устройстве объекта и тем самым — знание о возможных способах его (объекта) создания. Так, согласно Канту, последовательность в осуществлении механистического подхода к познанию природы нужна, «…чтобы при изучении природы по ее механизму твердо держаться того, что мы можем подчинить нашему наблюдению или экспериментам, так, чтобы мы могли сами произвести это подобно природе по крайней мере по сходству законов, ведь полную ясность имеют только тогда, когда возможно создание и осуществление согласно понятиям»[17].
Если же вспомнить о том, что понятия рассудка, по Канту, предназначены для того, чтобы служить для о-формления чувственного материала как чего-то сугубо внешнего по отношению к субъекту, то становится понятным, что «объективную реальность», или природу, невозможно познавать иначе, как выделяя в ней — согласно понятиям — отдельные фрагменты и связывая их затем согласно правилам рассудка. Результатом этой деятельности в идеале должна оказаться своего рода «схема разборки и сборки» того или иного природного объекта, что, собственно, и означает знание его механизма.
На этой предпосылке строится не только познавательная деятельность человека-субъекта, но и вся новоевропейская культура в аспекте отношения «человек — природа». «Понять механизм» того или иного явления означает здесь для субъекта — получить возможность разлагать это явление на простые элементы и комбинировать последние уже в соответствии с собственными целями и задачами. Именно в этом контексте искусственно созданный механизм начинает рассматриваться как нечто более предпочтительное по отношению к природному объекту (вспомним еще раз андерсеновских соловья и розу).
Между тем для человека-субъекта механистический взгляд на мир не ограничивается только природой, коль скоро последняя в рамках онтологии субъекта совпадает по смыслу с понятием «объект вообще». Таким образом, все, что оказывается в поле зрения познающего и действующего субъекта, автоматически начинает рассматриваться как механизм, состоящий из простых и, в силу этого, взаимозаменяемых частей. Собственно, и сам человек, и все то, что принято относить к «человеческой реальности», — духовные явления, социальные отношения и т. п., в той степени, в которой они становятся объектом познания, — также начинают рассматриваться в свете этой механистической установки.
Именно поэтому познание закономерностей своего телесного существования человек не может осуществлять иначе, как отождествляя свое тело (как объект познания) с материей вообще — как с чем-то сугубо внешним, а значит лишенным жизни и сознания. Иными словами, человеческое тело в контексте последовательно осуществляемой установки механицизма — машина или «агрегат», выражаясь языком мыслителей XVII—XVIII вв. Предельно отчетливым образом эта установка формулируется в учении Р. Декарта. В трактате «Страсти души» Декарт формулирует методологическое правило, в соответствии с которым следует различать «внутреннее» и «внешнее» в самом человеке: «…то, что мы испытываем в себе таким образом, что сможем допустить это и в телах неодушевленных, должно приписать нашему телу; наоборот, все то, что, по нашему мнению, никоим образом не может относиться к телу, должно быть приписано нашей душе»[18].
Итак, с одной стороны (со стороны объекта познания и преобразования) — лишенный жизни механизм, с другой же (со стороны субъекта) — душа как активное начало, неделимое в противоположность механистически мыслимому объекту. Та же двойственность сопровождает и взгляд человека-субъекта на общественные отношения. В качестве объекта общество не может быть чем-то иным, кроме как суммой «человеческих единиц», подчиняющихся в своих отношениях (сугубо внешних) все тем же механическим закономерностям, согласно которым, например, оказывается неизбежной борьба этих «единиц» за то или иное место или за ту или иную вещь. Подобная борьба характеризует так называемое «естественное состояние» человека, еще не связанного общественными нормами, в концепции происхождения государства, принадлежащей Т. Гоббсу. Равенство людей понимается английским мыслителем прежде всего как некая однородность «устройства» или равенство способностей: «Из этого равенства способностей возникает равенство надежд на достижение наших целей. Вот почему, если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. На пути к достижению их цели (которая состоит главным образом в сохранении жизни, а иногда в одном лишь наслаждении) они стараются погубить или покорить друг друга. Таким образом, выходит, что там, где человек может отразить нападение лишь своими собственными силами, он, спасая себя, строя или владея какимнибудь приличным имением, может с вероятностью ожидать, что придут другие люди и соединенными силами отнимут его владение и лишат его не только плодов собственного труда, но также жизни или свободы. А нападающий находится в такой же опасности со стороны других»[19].
Разумеется, стремление «естественного человека» к сохранению жизни или к наслаждению невозможно напрямую отождествить с движением «тела в пустоте», однако характер той целостности, которую представляет собой совокупность людей в их естественном состоянии (и которое Гоббс называет «войной всех против всех»), вполне сопоставим с сугубо внешним характером связей между «частицами вещества» в природе, выступающей объектом механистического естествознания Нового времени. И подобно тому как познание «законов природы» в онтологии субъекта оборачивается упорядочиванием хаоса чувственных ощущений действием познающего разума, познание законов общественной жизни выступает здесь действием упорядочивания хаотических связей между людьми — как выявления механизма, лежащего в основе этих связей. В своем отношении к обществу человек-субъект следует тому же бэконовскому тезису «Знание — сила», что и в отношении к природе: создание теоретической (в основе своей — механистической) схемы объекта выступает одновременно условием преобразования этого объекта на началах разумности. Так, в учении Т. Гоббса само создание государства трактуется как действие, направленное на рационализацию связей между людьми, не способными сосуществовать друг с другом в их естественном состоянии: «…при установлении государства люди руководятся стремлением избавиться от бедственного состояния войны, являющегося… необходимым следствием естественных страстей людей там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, принуждающей их к выполнению соглашений и к соблюдению естественных законов…»[20].
Избавиться от «бедственного состояния», таким образом, для человека невозможно иначе, как разделившись в самом себе, отделив себя в качестве разумного начала от того природного, что и порождает «войну всех против всех». В приведенной выше цитате из гоббсовского трактата «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» это разделение выступает в виде противопоставления «естественных страстей» «естественным законам», таким, как «справедливость, беспристрастие, скромность, милосердие…»[21], иными словами — законам, основанным на разуме. Применительно к категориям части и целого это означает, что механицизм как та неизбежная установка, в свете которой только и возможно представление об объекте, имеет своим условием неразложимую целостность, неделимое единство субъекта — как носителя разума. Акт «когито», или, по Канту, «трансцендентальное единство апперцепции», частей не имеет, он всегда осуществляется во всей своей полноте.
Именно эта целостность и позволяет разумному субъекту отличить себя от мира-объекта, в том числе и от тех сторон своего существа, которые можно представить в виде механизма. Только реализация целостного акта познания дает субъекту возможность понять природу, общество и, наконец, себя как часть того и другого в качестве простой суммы однородных фрагментов материи, которые в рамках «объективной реальности» вполне способны заменить друг друга. Эта установка распространяется и на человеческое тело, которое представляется возможным разложить на простые взаимозаменяемые элементы, и на общество, в котором человек выступает в качестве «винтика» в большом слаженном механизме. Иными словами, последовательно действовать в качестве маленькой частицы целого человек может, только выступая в другом отношении, в точке реализации самого действия, — в качестве неразложимой целостности сознания. Именно это условие лежит в основе такого нравственно-методологического требования, предъявляемого субъектом к самому себе, как научная объективность, предполагающая способность беспристрастно анализировать любую реальность и признавать все последствия этого анализа. Эта же целостность человека-субъекта дает ему то «мужество быть частью», о котором писал в середине XX столетия немецкий философ и теолог Пауль Тиллих: «Мужество быть частью — это мужество утверждать свое собственное бытие в соучастии. Человек соучаствует в том мире, которому он принадлежит и от которого он в то же время обособлен. Но соучастие в мире становится реальным через соучастие человека в тех составляющих мира, которые образуют жизнь человека… Итак, тот, кто обладает мужеством быть частью, обладает мужеством утверждать себя как часть сообщества, в котором он участвует. Его самоутверждение составляет часть самоутверждения социальных групп, формирующих общество, к которому он принадлежит»[22].
Это «утверждение себя как части сообщества» осуществляется человеком вне зависимости от так называемого «политического режима»: и сформировавшееся в XVII—XVIII вв. буржуазное демократическое общество (у истоков которого и находится, в частности, учение Т. Гоббса), и тоталитарные общества XX столетия основаны на этой парадоксальной способности человекасубъекта осуществлять целостное действие «встраивания себя» — в качестве части — в общественный механизм.
Несколько иначе этот парадокс преломляется в соотношении категорий «единичного» и «общего», обращение к которым в контексте любой онтологии связано с необходимостью ответа на извечный вопрос: «как помыслить многое в одном, как представить многообразие существующего в контексте единого мира?». В рамках онтологии субъекта ответ на этот вопрос осуществляется в том же напряженном противостоянии познающего разума и объективной реальности, которое определяет этот способ мышления-бытия в целом: только единство сознания, «я мыслю», может послужить здесь основой осмысления той распадающейся, хаотической множественности, которую представляет собой мир-объект до и вне упорядочивающего действия субъекта. Последнему необходимо «стянуться в точку» неделимого акта мышления для того, чтобы обеспечить тем самым единство противостоящего ему мира. Это «стягивание в точку» и есть открытие в себе того неустранимого ядра, которое мы обозначили выше как «Бог во мне». Это ядро, в частности, выступает в философии Канта под именем идеала чистого разума, в соответствии с которым познающий субъект рассматривает многообразие всего существующего, тем самым сводя это многообразие к безусловному единству: «Все многообразие вещей есть лишь многообразие способов ограничивать понятие высшей реальности, составляющее общий субстрат вещей, подобно тому как все фигуры возможны лишь как различные способы ограничения бесконечного пространства. Поэтому предмет идеала разума, находящийся только в разуме, называется также первоначальным существом (ens originarium), или, поскольку он стоит выше всего, высочайшим существом (ens summum), а также существом всех существ (ens entium), поскольку все подчинено ему как обусловленное. Но все это означает не объективное отношение действительного предмета к другим вещам, а отношение идеи к понятиям, и мы остаемся в совершенном неведении относительно существования предмета с такими исключительными преимуществами»[23][24].
Приведенное выше кантовское высказывание как нельзя лучше демонстрирует тот способ, которым Кант решает свою основную задачу, сформулированную им в предисловии к «Критике чистого разума»: «…я должен был ограничить область знания, чтобы дать место вере…»ш. Вера здесь — то самое ядро несомненности, которое не дано человеку как некое неотъемлемое свойство, но производится актом мышления, опережающим всякий опыт, всякое воздействие на субъект со стороны материальной реальности. Это первичное движение, опирающееся на идеал чистого разума, оказывается одновременно и действием доверия этому идеалу («Богу во мне»), и действием доверия миру, который — при всей своей недоступности для полного (окончательного) познания — должен быть соотносимым с этим идеалом. Таким образом, реальность, распадающаяся на бесконечное число «фрагментов вещества», обретает свое единство только в качестве «объективной реальности», т. е. будучи отнесенной к единому понятию объекта познания или, говоря кантовским языком, к «области возможного опыта». Одним из следствий этого парадокса (субъект, познающий независимую от него реальность, находит основание ее единства в себе) выступает, в частности, стремление к системности знания как характерная черта новоевропейской культуры. Разумеется, требование упорядоченности предъявляется к теоретическому знанию вне зависимости от его культурной принадлежности, однако только в рамках онтологии субъекта эта упорядоченность, по сути дела, оказывается теми «скрепами», на которых держится «объективная реальность».
- [1] Декарт Р. Начала философии // Декарт Р. Соч. С. 478.
- [2] Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 144.
- [3] Кант И. Критика чистого разума. С. 150.
- [4] В «Критике чистого разума» Кант дает следующее определение трансцендентального: «Я называю трансцендентальным всякое знание, занимающееся не столько предметами, сколько нашей способностью познания предметов, поскольку оно должно быть возможным a priori» (Кант И. Критика чистогоразума. С. 44).
- [5] Априорное — доопы гное (от лат. a priori — до опыта).
- [6] Кант И. Критика чистого разума. С. 98−100.
- [7] ш Кант И. Критика чистого разума. С. 138.
- [8] Кант И. Критика чистого разума. С. 165.
- [9] Гольбах П. Система природы // Гольбах П. Избр. произв. М., 1963. Т. 1.С. 66.
- [10] «Редукционизм (от лат. reductio — отодвигание назад, возвращение к прежнему состоянию) — методологический принцип, согласно которому высшиеформы материи могут быть полностью объяснены на основе закономерностей, свойственных низшим формам, т. е. сведены к низшим формам (напр., биологические явления — с помощью физич. и химич. законов; социологические —с помощью биологических и т. д.)» (Философский энциклопедический словарь.2-е изд. С. 518−519).
- [11] Гольбах П. Система природы. С. 62.
- [12] Ясперс К. Власть массы (из книги «Духовная ситуация времени») //Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. М., 2007. С. 37.
- [13] 2,2 Ясперс К. Власть массы (из книги «Духовная ситуация времени»). С. 39.
- [14] Кант И. Основание метафизик нравов // Кант И. Лекции по этике. М., 2000. С. 231.
- [15] Декарт Р. Правила для руководства ума. С. 63.
- [16] Кант И. Критика способности суждения. С. 309.
- [17] Кант И. Критика способности суждения. С. 306.
- [18] Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Соч. С. 563.
- [19] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 2. С. 334−335.
- [20] Циг. по: Антология мировой философии. T. 2. С. 337.
- [21] Цит. по: Там же. С. 337.
- [22] Тиллих П. Мужество быть. М., 2011. С. 113−114.
- [23] Кант И. Критика чистого разума. С. 345−346.
- [24] Там же. С. 26.