Экскурс в настоящее
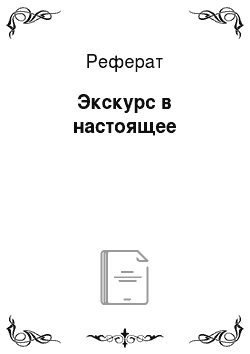
Не задаваясь вопросом о правомерности или адекватности этой интерпретации библейского текста, выделим в ней главное — в контексте нашей попытки показать универсальную, общечеловеческую природу веры: сама апелляция к Богу как к источнику смысла оказывается единственно возможным действием человека именно в случае «потери всего». Иными словами, «потеряв все», т. е. все конкретное, частичное… Читать ещё >
Экскурс в настоящее (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Если точка, из которой разворачивается мысль в онтологии Единого, — момент перехода от Единого к множественности мира, то в онтологии творения движение мысли, как было показано, начинается с фиксации разрыва между миром и тем, благодаря чему (точнее, Кому) он существует. В начале разговора о способе онтологического мышления, сформировавшемся в культуре европейского Средневековья, мы попытались продемонстрировать неявное присутствие этого разрыва и в античной философии, основанной на интуиции Единого. Попробуем, однако, с учетом нашей попытки воспроизвести тот способ мышления, который делает этот разрыв очевидным, задаться вопросом: а можно ли вообще избежать этого разрыва в контексте основной (и, собственно, единственной) онтологической задачи — воссоздания полноты смысла как условия всего существующего?
Собственно, парадоксальный характер самой этой задачи (находясь в мире, я стремлюсь понять его целиком, т. е. оказаться тем самым «вне» мира) предполагает признание неизбежности такого разрыва — между существующим и источником существования. Именно поэтому вопрос о бытии (и соответственно тот способ мыслить и действовать, который формируется в контексте этого вопроса) в любой своей «модификации» может быть задан только в опоре на веру или при условии признания внемирного (трансцендентного) смысла мира. Это признание, скрытым или явным образом обосновывающее любой человеческий поступок, любую мысль, оказывается наиболее очевидным именно в тех ситуациях, когда за событиями, происходящими в мире, человек перестает видеть смысл. Как раз в эти моменты и обнаруживается трансцендентная природа смысла любого, сколь угодно частного и повседневного события.
Своего рода архетипом подобной ситуации может служить история библейского Иова в той интерпретации, которая предлагается отечественными мыслителями Н. Л. Мусхелишвили и Ю. А. Шрейдером: «В чем суть ситуации Иова? В книге Иова описаны страдания праведника и не просто страдания праведника, а страдания человека, который по человеческим меркам, по меркам человеческой справедливости, этих страданий не заслужил. И тут главный момент — не сами страдания, потому что есть много примеров из истории, из человеческой жизни, когда стардания осмыслены и у человека не возникает вопрос: „За что мне эти страдания?“. И у него есть ответ на другой вопрос: „Для чего даны эти страдания ему?“. Но ситуация Иова характерна тем, что эти ниспосланные ему страдания вводят его в мир абсурда, когда человек теряет осмысленность существования. Поэтому основной мотив книги Иова не сами страдания, не их безмерная тяжесть — Иов потерял сначала имущество, потом детей и, наконец, был поражен проказой так, что был вынужден усесться в пыли и расчесывать свои язвы кусочком черепицы, — вот все, что ему осталось в жизни. Но дело не в физических страданиях и не в боли об утраченном, а в том, что он жаждет и не может понять смысла происходящего. Он обращается к Богу с требованием объяснить ему смысл происходящего с ним. Часто говорят о бунте Иова, но здесь дело не в бунте, не в сопротивлении Богу — дело в дерзости Иова, который апеллирует к Богу как к источнику смысла, потому что в этот момент он уже потерял вес»[1].
Не задаваясь вопросом о правомерности или адекватности этой интерпретации библейского текста, выделим в ней главное — в контексте нашей попытки показать универсальную, общечеловеческую природу веры: сама апелляция к Богу как к источнику смысла оказывается единственно возможным действием человека именно в случае «потери всего». Иными словами, «потеряв все», т. е. все конкретное, частичное, существующее «внутри» мира, человек обнаруживает свою нужду не столько в этих «частичных» вещах, сколько в том, что делает эти вещи значимыми для него, не совпадая ни с одной из них. Эта нужда и есть своего рода «изнанка» того, что мы называем верой. Последняя, как уже говорилось, неделима, и именно поэтому даже вера в сугубо «земные» вещи есть в конечном счете вера в трансцендентный смысл этих вещей. Речь идет именно о вере, лишенной всякого содержания, — в силу того, что какое бы то ни было содержание (то, что оформляется словом или в слове) как раз и утверждается действием веры. Таким образом, любой случай утверждения какой-либо мысли без всякого дальнейшего обоснования есть не что иное, как воспроизведение основного алгоритма онтологии творения.
Удивительным образом и «Иов-ситуация», связанная с полной потерей смысла, и ситуация догматического утверждения какойлибо истины (несомненного присутствия смысла) совпадают здесь в своем формальном аспекте: и в том и в другом случае мы имеем дело с открывшимся перед нами зазором между частичным, относительным — и абсолютным. В «Иов-ситуации» этот зазор обнаруживается в силу нехватки смысла, в ситуации догматического утверждения — в силу его избыточности: я настаиваю на абсолютном характере какой-либо вещи или явления, невзирая на их частичность, неполноту. И нехватка, и избыточность смысла обусловлены одной установкой: бытие чего бы то ни было (или кого бы то ни было) осуществляется в преодолении «просто-существования», простой данности, наличествования вещи или явления. Полнота бытия (смысла) обретается здесь в отказе от любой частичности.
Этот отказ, прежде всего в его «позитивном варианте», как утверждение тех или иных положений в качестве абсолютных, выступает основанием в том числе и такой «антидогматической» формы рационального познания, как наука. Речь идет о явном или неявном присутствии момента веры в любом познавательном акте, осуществляемом ученым-исследователем. Любой вопрос, на который пытается ответить исследователь в той или иной области научного познания, опирается на некое «знание», которое не может быть подвергнуто сомнению, в противном случае разрушится сама структура познавательного акта. Эта, догматическая по своей сути, опора и есть тот акт веры, который так или иначе всегда апеллирует к Абсолюту, к тому, что не имеет отношения к изменчивости и неполноте всего, что происходит в мире. Даже в том случае, когда исследователь отчетливо видит условность, относительность тех положении, на которые он опирается в процессе познания, он тем не менее должен действовать так, как если бы эти положения были абсолютно истинными.
Еще более очевидной опора на веру является в ситуации, когда научное знание — уже в виде продукта — должно быть усвоено массовым сознанием, «встроиться» в культуру. Приведем в связи с вышесказанным достаточно радикальное суждение одного из современных представителей философии науки: «Научные высказывания явно требуют согласия, поскольку преподносят себя в качестве знания. Предположим, мы вставляем вводное предложение со скрытым смыслом, „Я знаю (Мы знаем…)“ в начале каждого такого утверждения. Какой же речевой акт этим вводится в действие? Мое предположение, на котором строится весь анализ в настоящей работе, состоит в том, что это вводное предложение неизменно должно пониматься как „Верьте мне (нам)…“ или „даю вам слово…“. Но почему такое высказывание будет действительно порождать доверие? Я полагаю, потому, что лектор или автор очевидным образом принадлежат к эзотерическому ордену, „общине святых“, научному сообществу, от членства в котором и зависит действенность этого требования. Если смысл (illocutionary force) научного высказывания — это „верьте мне…“, то его убеждающее воздействие (perlocutionary effect) должна составлять вера»[2].
Очевидно разоблачительный, полемический характер данного высказывания не лишает его убедительности: действительно, имея дело со знанием как продуктом, результатом, а не живым процессом разворачивания мысли, не остается ничего иного, кроме принятия суждения (или системы суждений), утверждаемого в качестве знания, на веру. Совершенно не случайно автор приведенной выше цитаты прибегает к религиозному языку, характеризуя научное сообщество, и фиксирует внимание именно на «передаче знания посредством речи»: любая вера в конечном счете есть вера в Абсолют, а полюсом, неизбежно дополняющим любой акт веры, выступает утверждаемое этим актом содержание мысли, выраженное словом. Именно поэтому авторитетный характер тех положений, которые лежат в основании научных концепций, и авторитетное знание в контексте онтологии творения есть явления одного порядка. В суждении, выступающем в качестве авторитетного, движение живой мысли прерывается, фиксируя определенное ее (мысли) содержание, которое необходимо просто «принять к сведению».
Однако этот момент, отмечающий «перерыв постепенности» в непрерывном процессе разворачивания мысли, не может быть устранен в силу конечности человеческого мышления. Тот аспект мышления, на котором останавливает внимание онтология Единого, — предпонимание мира, «схватывание» его мыслью как некоего Целого — неизбежно должен дополняться признанием принципиально иного аспекта, связанного с невозможностью для человека охватить своей мыслью Целое мира, — именно потому, что человек осознает себя в качестве части этого мира. Именно этот аспект — парадоксальный характер человеческого мышления, ставящего перед собой невозможную задачу: понять мир путем преодоления собственной «помещенности» в мир — выделяет в качестве основного онтология творения. Вера здесь как раз и выступает в качестве единственного способа преодоления своей конечности, «включенности» в мир путем выхода, прорыва к трансцендентному, а слово служит средством разделения, разграничения мира (с которым я связан в своем предпонимании) и — условия его существования.
Именно поэтому опора на «изреченную мысль», или слово, позволяет человеку открыть и осмыслить «второй план» своего существования, заняв позицию, «внешнюю» по отношению к миру. С этим связаны и те особенности языка науки, на которые указывает автор упомянутого выше высказывания: «Из речи удаляется все личностное. Выступая как условность повествования, этот грамматический выбор позволяет автору выступать, я бы сказал, воплощением не просто Одного из Людей, но самой Логики. Именно с помощью безличной силы методологии и логики были получены крупицы истины. Запустите машину науки, и с неизбежностью, если только не произойдет некомпетентного вмешательства человека, она начнет выдавать положительные результаты. Теперь доверие подверглось более высокой степени обобщения, чем просто обязательство человека перед человеком, оно стало безличным отношением между читателем и методом. Это напоминает доверие к веревке и крючьям, а не к альпинисту, работающему с ними»[3]. Дело, однако, заключается в том, что это «доверие к методу», обусловливающее безличный характер языка науки, есть в конечном счете не что иное, как доверие к тому, что выступает условием всякого метода и человеческого познания в целом: в силу неделимости веры любой акт доверия есть жест вручения себя тому условию бытия всего сущего, которое в средневековой христианской философии именуется Богом.
Этот жест лежит в основе любой попытки осуществления человеком жизненной стратегии, которую можно обозначить как «посвящение себя» (кому-либо или чему-либо). При этом, разумеется, далеко не всегда речь идет о существовании в опоре на те или иные религиозные положения (установки). Любой опыт человеческой жизни, связанный с отказом от себя (в качестве только природного существа, включенного в мир естественных связей) и с переносом всей человеческой активности на нечто, зафиксированное словом (и тем самым утвержденное в своей «внемирности»), есть в конечном счете опыт «посвящения себя» — другому человеку, тому или иному делу, своему отечеству, какому-либо сообществу и т. п.
Подобно тому как любой акт доверия основан на вере в трансцендентное, любая попытка зафиксировать смысл своего существования на чем-либо или на ком-либо опирается на тот смысл, который больше мира в целом и благодаря которому мир есть целое. Иными словами, посвящая себя чему-то или кому-то, мы тем самым обожествляем это «что-то» или «кого-то», перемещая тот предмет, дело или человека, на которых фиксируется смысл нашего существования, за пределы мира. Именно поэтому библейская заповедь.
«Не сотвори себе кумира»[4] может быть понята в том числе и как указание на невозможность посвятить себя чему-то находящемуся в мире: любое посвящение есть выход к трансцендентному. Отчетливое понимание этой истины «всего лишь» предохраняет человека от разочарования, связанного с подменой абсолютного смысла относительным, который, строго говоря, не может быть назван смыслом.
Между тем эта подмена осуществляется всякий раз, когда мы упускаем ту самую двойственность, которая обнаруживается и осмысляется в рамках онтологии творения: безусловно принимая какое-либо суждение, делая его абсолютным основанием своих действий, мы тем самым утверждаем Абсолют, или — трансцендентное. Наиболее парадоксальную форму это утверждение принимает в том случае, когда в качестве такого абсолютного основания человеческих действий выступает нечто сугубо вещественное, материальное. Любая идеология, выдвигающая в качестве основной цели социальной или политической борьбы материальное благополучие человека или общества, претендуя на абсолютную истинность своих положений, тем самым неявно апеллирует к духу, к той составляющей человеческого существования, которая не зависит ни от какой вещественности. Способность пожертвовать этой вещественностью, и даже собственной жизнью, в борьбе за достижение сугубо материальных целей есть та же самая способность совершить «прыжок веры», движение к трансцендентному, которая «обеспечивает» самосозидание человека в рамках онтологии творения.
Эта энергия трансцендентного выступает движущей силой везде, где осуществляется действие, которое, будучи осмысленным, тем не менее «опережает» всякое рассуждение, всякую логическую аргументацию. Любой пример нерассуждающей верности есть в этом смысле образец действия в контексте онтологической установки «Быть — значит быть творимым». Эту способность человека осознанно отождествлять себя с чем-то большим, нежели он сам (с нацией, семьей, любой другой общностью), теолог, философ и психолог середины XX столетия Пауль Тиллих назвал «мужеством быть частью». То, что принято называть «феноменом тоталитаризма XX века», объясняется не только человеческим страхом перед грубой силой или властью средств массовой информации: в значительной степени этот феномен есть проявление того «мужества быть частью», о котором говорит Тиллих, действие той силы стремления к абсолютному, которая здесь принимает псевдорелигиозную форму. В этой ситуации свою свободу и уникальность человек утверждает парадоксальным образом — посредством преодоления своей частичной, относительной воли и индивидуальности. Это преодоление по форме совершенно совпадает с тем действием «встраивания» в неизменную иерархическую структуру мира, которое является алгоритмом осмысленного существования человека в онтологии творения.
Этот алгоритм неизбежно воспроизводится всякий раз, когда все возможности обретения смысла «внутри мира» оказываются исчерпанными, когда человек стоит перед альтернативой: слепое, автоматическое следование своим частичным, «маленьким» желаниям и влечениям — или обретение полноты смысла путем преодоления этих желаний. Выбор смысла в противовес своеволию, в свою очередь, неизбежно перемещает человека в ту «систему координат», которая формируется в онтологии творения так называемыми категориями детерминизма. Так, отказ от эгоистических желаний, практикуемый в рамках стратегии «посвящения себя», есть нс что иное, как акт смирения, т. е. принятия некоей необходимости без каких-либо попыток сопротивления, без надежды изменить ход событий. Точкой отсчета любого действия здесь становится принятие некоего факта или события, признание того, что это так и не может быть иначе.
При этом речь идет не о покорности слепой судьбе, характеризующей поступки античного героя: принятие данности как прорыв к трансцендентному смыслу всегда есть признание человеком этой данности как наказания, награды или задания по отношению лично к себе. Смирение — это форма осмысленного диалога с источником трансцендентного смысла как с личностью, именно поэтому акт смирения есть одновременно акт свободы: отношение между человеком и Богом не может определяться внешней необходимостью, оно по определению свободно. Подобное свободное принятие некоей данности открывает перед человеком тот зазор между возможным (как только предполагаемым или желаемым) и действительным, как существующим независимо от того, приятно оно нам или не приятно, огорчает или, напротив, радует. И вновь речь здесь идет не о чисто рациональном, «умственном» признании того, что есть, но о слиянии воли человека с принимаемой им свободной и благой волей абсолютной Личности.
На уровне обыденного, повседневного сознания подобная установка выражается, например, в известной поговорке «Все, что ни делается, — к лучшему»: принимая происходящее, человек изначально предполагает позитивный смысл события, даже в том случае, если этот смысл скрыт от него. Именно эта установка позволяет рассматривать явления и события в контексте целевой причинности, выделяя прежде всего абсолютный смысл происходящего. Вопрос «для чего?», направляющий здесь рассуждение, фиксирует внимание мыслящего непосредственно на вещи, событии или явлении, возводя их к абсолютной причине, выступающей одновременно целью. Всякий раз когда свои неудачи или успехи мы рассматриваем как испытание, наказание или награду, нашим рассуждением руководит принцип целевой причинности.
Последний — чаще всего неявным образом — действует и в науке, в тех случаях, когда связи между явлениями и процессами рассматриваются в контексте той цели, которой они служат. Разумеется, чаще всего исследователь использует этот принцип в «усеченном варианте», ограничиваясь объяснением отдельного факта или явления. Однако, так или иначе, за любой попыткой объяснить некое явление, сообразуя его с той или иной целью, стоит неявное предположение целесообразности всего мироустройства. Так, объясняя яркую окраску растений-медоносов или, напротив, способность маскироваться, характеризующую некоторых животных — потенциальных жертв хищников, мы можем не остановиться на этих локальных ответах, и тогда в конце цепочки, состоящей из ответов на вопрос «зачем?», неизбежно встанет фигура БогаТворца. Именно поэтому наука, пытающаяся объяснить природу и мир в целом как нечто самодостаточное, без опоры на идею творения, относилась и относится к принципу целесообразности с некоторым подозрением и пытается по возможности избегать подобного способа объяснения.
Между тем, даже выстраивая цепочки чисто внешних, механических причинно-следственных связей, мы так или иначе всегда «имеем в виду» целевую причинность: за вопросом «как устроено?» или «как происходит?» всегда «маячит» вопрос «зачем?». Неявное присутствие этого вопроса «на заднем плане» нашего сознания свидетельствует, в свою очередь, о том, что в нашем существовании присутствует и то неизмеримое «измерение вечности», которое было глубоко осмыслено в средневековой христианской онтологии. Речь идет о той же неделимости веры как движения к трансцендентному смыслу, которая направляет и «обеспечивает» любой акт утверждения какой-либо истины. Сам факт утверждения свидетельствует о том, что данная истина признается в качестве вечной, даже если об этом не говорится прямо.
Замечательно точным образом эту неразрывную связь понятий истинности и вечности выразил испанский мыслитель середины XX столетия Хосе Ортега-и-Гассет: «…истины не имеют никакой — ни малой, ни большой — длительности, они не обладают никаким временным атрибутом, их не омывает река времени… Если непреходящее длится столько же, сколько время в целом само по себе, то вечное существует до начала времени и после его конца, хотя и положительно включает в себя все время; это гиперболическая длительность, сверхдлительность. В этой сверхдлительности длительность сохраняется и вместе с тем уничтожается; вечное существо живет бесконечно, т. е. жизнь его длится мгновение, или не длится, ему присуще «совершенное обладание сразу всей полнотой бесконечной жизни». Однако отношение истин ко времени не позитивно, а негативно, они просто ни в каком смысле не имеют ко времени никакого отношения, они 206.
полностью чужды любому временному определению, они всегда строго ахроничны"[5]. То, что в приведенном выше высказывании выглядит как противопоставление «бесконечной жизни вечного существа» и «ахроничности», т. е. вневременного характера любой истины, представляет собой, по сути дела, парадокс, лежащий в основании категории истины: мы можем квалифицировать какое-либо суждение как истинное в конечном счете только путем апелляции к «вечному существу». А коль скоро любое осознанное действие человека так или иначе опирается на некое знание, представляющееся истинным, то следует признать, что всякая, пусть даже и сугубо «посюсторонняя» человеческая жизнь, всегда имеет и «второй план», обозначенный выше как «измерение вечности».
Именно поэтому отчасти сохранившийся в жизни современного человека качественный подход к осмыслению пространства и времени (мы по-прежнему наделяем отдельные места и отрезки времени неким особым смыслом, хотя и не всегда — религиозным: это могут быть, например, места или даты, связанные с какими-то значимыми историческими событиями) не является просто «пережитком прошлого», — эти особые места и даты и сегодня имеют то же символическое значение, которое придается им в контексте онтологии творения: они есть не что иное, как «окна в вечность», или способы приобщения человека к вневременной реальности.
В полном соответствии с вышесказанным попробуем наконец выделить имеющие вневременное значение основные моменты того «способа самосозидания человека», который характеризует средневековую христианскую онтологию:
- 1) лежащее в основании этого способа мышления положение о вторичности, несамодостаточности мира;
- 2) вытекающий из этого положения основной алгоритм осмысления вещей и явлений, обозначенный выше как «прыжок веры»: все, что человек находит в мире, имеет иной, «внемирный» смысл, превосходящий возможности человеческого разумения;
- 3) преодоление человеком своих частных, эгоистических желаний и стремлений, подчинение себя творящему трансцендентному началу (в опоре на авторитетное знание) как единственный способ обретения бытия (полноты осмысленного существования).
- [1] Мусхелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Иов-сигуация Йозефа К. // Вопр.философии. 1993. № 7. С. 172.
- [2] Харре Р. Социальная эпистемология: передача знания посредством речи //Вопр. философии. 1992. № 9. С. 49.
- [3] Харре Р Социальная эпистемология: передача знания посредством речи.С. 59.
- [4] Вторая книга Моисеева — Исход, 20: 4−6.
- [5] Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991. С. 55.