Проблема предвидения.
Большие циклы конъюнктуры.
Избранные работы
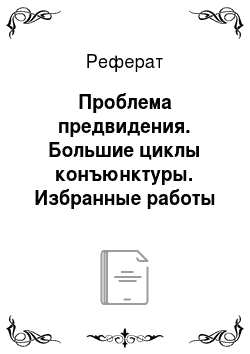
Мы уже упоминали, что возможность однозначного выражения причинных связей предполагает, помимо прочих условий, идею однозначности самих этих связей. Сущность этой идеи состоит в том, что данной причине В всегда соответствует определенное следствие, А и, обратно, данное следствие, А всегда предполагает определенную причину В. Заметим, что, А и В понимаются здесь в том смысле, как это было разъяснено… Читать ещё >
Проблема предвидения. Большие циклы конъюнктуры. Избранные работы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Стремление человека приподнять завесу грядущего и предвидеть ход событий имеет такую же длинную историю, как и его попытки понять окружающий мир. Очевидно, что в основе интереса к прогнозу лежат достаточно сильные жизненные мотивы. Эти мотивы имеют двоякий характер: теоретический и практический. Однако удельный вес их, как это будет показано ниже, различен.
В 1682 г. Галлей наблюдал прохождение одной кометы, получившей позднее его имя, и определил ее орбиту. В 1705 г. он издал «Очерк кометной астрономии», в котором вычислил не менее 24 кометных орбит. При этом Галлей был поражен сходством между орбитами комет, наблюдавшихся в 1531,1607 и 1682 гг., и приблизительным равенством промежутков времени (75−76 лет), через которые они появлялись. Галлей допустил, что это была одна и та же комета, и, зная законы ее орбиты, предсказал вероятное новое появление ее около 1758 г., т. е. через 76 лет1. В конце 1758 г. Клеро объявил, что прохождение кометы через перигелий[1][2] можно ожидать, с вероятностью ошибки на месяц, около 13 апреля 1759 г. Весь ученый астрономический мир ожидал, оправдаются ли эти предсказания Галлея и Клеро. В день Рождества 1758 г. комета была замечена Георгом Паличем, и она прошла через перигелий ровно за месяц и один день до срока, предсказанного Клеро[3]. Таким образом, прогноз Галлея и Клеро подтвердился блестяще и тем самым оправдал как гипотезу Галлея о тождестве наблюдавшейся кометы, так и то, что законы орбиты этой кометы им были определены достаточно верно.
Этот классический случай удачного прогноза с исключительной наглядностью вскрывает теоретическое значение предвидения, значение его для развития науки: совершенно ясно, что прогноз выступает в качестве метода проверки научных теорий и гипотез.
Но как бы ни было велико это теоретическое значение прогноза, какой бы самодовлеющий характер это значение ни приобретало порой, с точки зрения генезиса кудельного веса оно является производным. С точки зрения генезиса основное значение прогноза, как и всякого знания, лежит в том, что оно отвечает настоятельным запросам нашего практического действия в процессе жизненной и социальной борьбы[4].
" Философы, — писал К. Маркс в одиннадцатом тезисе о Людвиге Фейербахе, — лишь объясняли мир так или иначе. Но дело заключается в том, чтобы изменить его«[5]. В этих немногих словах с исключительной определенностью подчеркнуто основное значение задачи практического действия. Но всюду, где ставится вопрос о действии, т. е. о том, чтобы так или иначе изменять окружающий мир, тем самым ставится и вопрос о знании и прогнозе. Всякое стремление изменять окружающий мир неизбежно связано с представлением о том, в каком направлении следует его изменять и можно ли изменить его в этом направлении. Мы можем сознавать эти вопросы отчетливо или смутно, мы можем давать верный или неверный ответ на них. Но самая постановка этих вопросов, какая бы она ни была, и ответ на них заключают в себе явное или скрытое разрешение проблемы прогноза, ясное или смутное предвидение хода событий.
В процессе жизненной и социальной борьбы вопрос об изменении окружающего мира, о его приспособлении или о приспособлении к нему мы ставим перед собой всюду, ще сталкиваемся с явлениями, в той или иной степени поддающимися нашему воздействию. Но с особенной настойчивостью этот вопрос выдвигается перед нами именно в социально-экономической жизни.
Мы хорошо знаем, что процесс социально-экономической жизни в основе имеет стихийный характер и что ход истории шел не по указке науки и знания. Но тем не менее нв истории общества действуют люди, одаренные сознанием, движимые убеждением или страстью, ставящие себе определенные цели"[6]. И если они ставят себе цели воздействия на природу, то еще настойчивее они ставят цели воздействия на саму социально-экономическую среду. Больше того, задачи воздействия на природу в конечном счете имеют производный характер и вытекают из целей изменения и улучшения все той же социально-экономической жизни. Эти цели могут быть великими или малыми, высокими или низкими. Но выдвигается ли проект социальной реформы, предлагается ли та или иная мера экономической политики, строится ли тот или иной план регулирования народного хозяйства, проводится ли задача организации частного предприятия и т. д., всюду ставится вопрос об активном вмешательстве в ход событий окружающей социальноэкономической среды и вопрос о предвидении хода последующих событий. Вот почему в социально-экономической жизни проблема прогноза имеет особенно глубокое практическое значение.
Но еще никогда в истории она не приобретала столь большого и актуального значения, как в наше время у нас. Мы являемся свидетелями эпохи, когда на очередь практического осуществления в грандиозном масштабе поставлена задача овладения стихийными силами социально-экономической жизни и подчинения ее сознательному, планомерному руководству со стороны государства. Эта задача предполагает не только знание, видение упомянутых сил, но и предвидение их действия. Только на основе этого знания и предвидения возможно построение реального плана и перспектив сознательного организационно-регулирующего действия. Совершенно очевидно, что проблема планового руководства социально-экономической жизнью органически связана с проблемой предвидения. План, конечно, — не только предвидение стихийно развертывающихся событий. План одновременно есть и программа сознательных действий. Но план без всякого предвидения — ничто.
Если огромное значение прогноза очевидно, то проблема прогноза здесь еще только начинается. Она слагается по крайней мерс из следующих основных вопросов: 1) в чем состоит сущность прогноза; 2) на какие предпосылки он опирается; 3) чем и как определяются пределы его возможности, в частности и в особенности в социально-экономической жизни и 4) каковы основные типы и формы прогноза.
Из самой постановки вопроса ясно, что в данной статье мы не занимаемся предсказанием тех или иных событий, а имеем в виду анализ проблемы прогноза с общей систематической точки зрения применительно к условиям социально-экономической жизни. Конечно, вопросы прогноза, как и все научные проблемы, находят свое фактическое разрешение прежде всего в лаборатории социального научного исследования и в опытах предвидения по существу. Поэтому и рассмотрение вопроса с общефилософской точки зрения может быть плодотворным лишь в том случае, если оно ориентировано на данных таких специальных исследований[7]. Это обязывает нас вести общий анализ проблемы прогноза с учетом опыта фактического предвидения. Но это нисколько не делает такой анализ излишним. Наоборот, едва ли можно спорить с тем, что дальнейшее развитие и уточнение опыта предвидения и применение его при решении практических задач требуют систематического освещения проблемы.
В настоящее время практические попытки прогноза в социально-экономической жизни, в частности в области хода конъюнктуры, получили широкое распространение[8]. Тем более настоятельной представляется потребность общего рассмотрения проблемы прогноза.
В чем же состоит сущность прогноза и какое место занимает он в системе нашего знания? Приведенный выше классический пример с предсказанием появления кометы Галлея облетает ответ на этот вопрос.
Допустим, что из коллективного опыта мы знаем события а, Ь, с, …, п и связи между ними. Причем событие здесь понимается в самом широком смысле. Допустим, далее, что на основании изучения этих событий мы с достаточным основанием заключаем о предстоящем выходе события или событий х, у, г … Такое обоснованное заключение от событий, уже данных в опыте, к возможному выходу событий, которые нам еще не даны и не наступили, мы называем прогнозом. Отсюда ясно, что для прогноза существенны три элемента: 1) переход от событий, данных в опыте, к событиям, которые еще не даны в нем; 2) переход к событиям, которые не даны не только потому, что они нам неизвестны, но и потому, что они еще не совершились; 3) переход не произвольный, а научно обоснованный, опирающийся на установленную достаточную для суждения вероятность выхода события или событий. Легко видеть, что именно эти элементы мы находим и в приведенном примере предвидения Галлея—Клеро.
Сказанное о существе прогноза дает возможность достаточно точно отграничить его от других видов знания и вместе с тем указать то место, которое он логически должен занять в общей системе нашего научного знания.
Психологически мы обычно отдаем себе полный отчет в том, что удачный прогноз означает высшее торжество знания. Но поскольку прогноз предполагает переход от событий, которые нам даны, к ссбытиям, которые еще не даны и даже не наступили, под влиянием сложности и многообразия этих событий мы, естественно, склонны относиться к нему с крайним недоверием. Для этого, как мы увидим ниже, имеются некоторые объективные основания. Однако в составе нашего научного знания имеются обширные области, которые по своей природе стоят весьма близко к прогнозу. И если мы ценим их, если мы считаем их составной частью научного знания, то принципиально мы должны отвести подобающее место и прогнозу.
Действительно, мы никогда не знаем во всех деталях хода событий прошлого. При изучении их мы исходим из посылки, что эти события протекали каким-то одним определенным образом. Но из каких основных составных элементов слагается наше знание об этих событиях?
Очень часто полагают, что наше знание о явлениях окружающего мира слагается из двух основных элементов: из описания явлений и объяснения их. В связи с этим часто различают науки описательные и объяснительные1. Некоторые идут еще дальше и думают, что по существу все наше знание сводится к описанию явлений и, следовательно, все науки в конечном счете имеют описательный характер[9][10]. О названиях можно не спорить. Однако в действительности описание понимается здесь слишком широко. Под именем описания здесь объединяются по крайней мере две разнородные категории знания.
Описание событий всегда есть фиксация их признаков, которыми они уподобляются другим событиям или отличаются от них[11]. Описание в чистом виде и в узком смысле поэтому предполагает, что само описываемое событие не проблематично и дано нашему непосредственному или посредственному опыту. В этом смысле мы описываем расстилающееся над нами звездное небо, различные виды растений и т. д. В этом смысле мы описываем и те или иные события прошлого, в частности исторические события. Но в случае описания событий прошлого, очевидно, необходимо, чтобы эти события нашли достаточное выражение в источниках, чтобы источники эти непосредственно изображали событие, были бы, так сказать, остатками интересующих нас событий прошлого*.
Однако легко показать, что в действительности содержание многих наук исторического характера, называемых часто описательными, описанием в только что изложенном узком смысле не исчерпывается. Весьма часто интересующие события прошлого в указанном смысле нам не даны и проблематичны. Весьма часто мы не знаем, имели они место в прошлом или нет и если имели, то в каком виде. Непосредственных, изображающих источников или остатков интересующих нас событий в нашем распоряжении нет. В таком случае, строю говоря, мы не можем просто описать эти события. Мы должны прежде по имеющимся косвенным данным или по источникам, лишь косвенно обозначающим событие[12][13], установить, имело оно место или нет и если да, то в каком виде. Конечно, в действительности событие это, наверное, или было, или нет, и если оно было, оно характеризовалось определенными признаками. Но нам это неизвестно. Для познания его мы должны ранее умозаключить от одних, данных нам событий а, Ь, с … п и т. д., к другим интересующим нас событиям х, у, z … и т. д., которые нам не даны и вопрос о реальности которых мы решаем.
Вступая на путь такого заключения, мы интерпретируем и синтезируем имеющиеся косвенные данные а, Ь, с … п и т. д. Интерпретируя же и синтезируя их, мы неизбежно опираемся на уже ранее установленные в данной области знания типологические обобщения, причинные связи, закономерности, общие понятия и т. д.[14] Только опираясь на них, мы умозаключаем о том, были события*; у, z и т. д. или нет и если были, то в каком виде. Таким приемом в самых широких границах пользуются история культуры[15], палеонтология, историческая зоология и ботаника, геология и др. науки. И такой прием, строго говоря, мы не можем назвать описанием. Его можно назвать воспроизведением или конструированием событий прошлого. Основное и принципиальное отличие этого приема от описания в узком смысле состоит в том, что здесь мы допускаем переход от данных событий к событиям искомым. Все построения, которые мы получаем таким приемом, имеют поэтому всегда характер лишь вероятных и потому гипотетичны.
Однако нетрудно видеть, что именно то, что отличает воспроизведение или конструирование от простого описания, сближает его с прогнозом, так как и в случае прогноза мы совершаем переход от событий данных к событиям неизвестным. Но между ними существует и различие. Основное отличие конструирования от прогноза сводится к тому, что в первом случае речь идет о событиях, которые уже имели (или не имели) место в прошлом, а во втором — о событиях, которые еще только наступят (или не наступят) в будущем. Различие это, несомненно, существенно. Не говоря уже о том, что события будущего имеют совершенно иное влияние на мотивы нашего поведения, проблема прогноза как проблема предвосхищения будущего представляется неизмеримо более сложной и трудной, чем проблема конструирования. В случае конструирования между исследователем и событием прошлою всегда существует как бы непрерывная нить промежуточных пережитых событий. Поэтому исследователь прошлого может пользоваться как косвенными данными эпохи, к которой относится изучаемое событие, так и данными промежуточного времени, если это ему нужно, для уяснения событий интересующего его периода. В случае прогноза между исследователем и предсказываемым событием всегда существует разрыв, который еще ничем не заполнен и который исследователю нужно преодолеть, умозаключая от данных ему событий к событиям будущего. Но как бы ни было велико это различие воспроизведения и прогноза, ясно, что между ними существует логическое родство. Воспроизведение есть своего рода ретроспективный прогноз.
Таким образом, в составе нашего знания обширное место занимают элементы, которые логически весьма близки к прогнозу. Это имеет огромное значение, так как по крайней мере в принципиальном отношении устраняет долю оснований для того недоверия, которое мы питаем к прогнозу, и ставит его на определенное место в системе нашего знания в каждый данный момент. И если мы видели, что проблема прогноза по сравнению с проблемой конструирования прошлого обладает своими специфическими трудностями, то одновременно мы не должны забывать другую основную ее особенность, рисующую ее в ином свете. События прошлого невозвратны. И единственный путь пополнить и уточнить наше знание о них лежит в нахождении новых источников и усовершенствовании методов их использования. Наоборот, в случае прогноза, самый ход времени и событий рано или поздно покажет, был ли этот прогноз верным или ошибочным. Отсюда в прогнозе мы имеем знание, которое всегда является как бы рабочей гипотезой, без которой мы, однако, нс можем обойтись в практике.
Если предыдущее изложение сближает прогноз с теми областями знания, где имеет место переход от событий данных к событиям неизвестным и не данным, то та отмеченная выше при определении прогноза третья черта, которая существенна для него, а именно — обоснованность перехода от данного к предполагаемому, проводит принципиальную грань между ним и квазипредвидением будущего, которое условно можно обозначить как пророчество. Пророчество мы рассматриваем как предвидение событий, вытекающее не из изучения действительности и связей между явлениями, а из особой сверхъестественной силы проницательности человека. Поскольку пророчество предполагает эту сверхъестественную одаренность прорицателя, оно является чудом. Так как с научной точки зрения чудо невозможно, то по существу невозможно и пророчество8. Все, что здесь возможно и что на первый взгляд приближается к пророчеству, — это случайное угадывание грядущих событий. Но если даже имеет место такое угадывание событий, оно возможно лишь на основе некоторого знания действительности, хотя бы и несистематизированного. Когда мы говорим о прогнозе, основанном на данных знаниях, то здесь не имеется в виду никакого чуда. Здесь имеется в виду предсказание событий, которое основывается на систематическом изучении действительности и потому возможно в той мере, в какой это изучение позволяет умозаключить от того, что существует, к тому, что наступит*. Это приводит нас к анализу предпосылок прогноза.
Нетрудно видеть, что все предыдущее изложение исходит из мысли, что предвидение в каких-то пределах возможно. Но если оно и возможно, то оно опирается на определенные предпосылки.
К чему же сводятся эти предпосылки? Поскольку прогноз состоит в обоснованном умозаключении от данных событий к событиям неизвестным и еще не наступившим, он возможен лишь в том случае, если между событиями действительности существует необходимая причинная связь[16][17].
Если бы между событиями не существовало необходимой связи, прогноз был бы невозможен, так как в этом случае мы не имели бы никаких оснований от данных нам событий а, Ь, с … п заключать о возможном возникновении событий х, у, z. Но вместе с тем стало бы невозможным и вообще знание о мире, в том числе и о мире социально-экономических явлений. Хотя, как будет видно ниже, наше фактическое знание и не сводится исключительно к установлению причинных связей между событиями, тем не менее оно или опирается на предпосылку этой связи, или стремится к ее установлению.
В то же время знание и развитие науки на основе признания причинной связи суть неоспоримый факт. И этот факт является лучшим аргументом в пользу того, что необходимая причинная связь между событиями существует и что, во всяком случае, мы имеем основание исходить из посылки существования этой связи[18]. Строгую причинную зависимость явлений исследователь выражает формулой: при прочих равных условиях всюду, где есть А, есть и В; причем, А может слагаться из а, Ь, с и т. д., а В — из х, у, z и т. д.; за, А может следовать только В, и В может последовать только за А[19]. Этой формулировкой в конечном счете исключается как множественность причин, так и множественность следствий[20][21]. Причинная связь имеет всеобщий характер: нет явления, которое не имело бы своей причины или своих причин. Тем самым отрицается существование случайных явлений, если под ними понимать, как это иногда делается, явления, возникающие в силу действия абсолюта — свободной воли, или воли, действующей без необходимости.
По вопросу о свободе воли философы спорили и продолжают спорить. Но одно совершенно бесспорно: там, где мы допускаем действие свободной воли, не остается места для научного исследования и научного прогноза[19].
Итак, возможность прогноза опирается на предпосылку существования всеобщей причинной связи событий. Но достаточно ли этой предпосылки? Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо несколько пристальнее всмотреться в характер причинной обусловленности событий.
Приведенная выше формула причинной связи, утверждая, что при прочих равных условиях за А всеща будет следовать В, совершенно не утверждает, что эти прочие условия остаются неизменными и что, следовательно, за А действительно всегда появляется именно В и только В. В действительности именно равенства этих прочих условий в строгом и точном смысле слова нет.
Все явления космоса в конечном счете более или менее близко связаны между собой. В противовес мнению Курно и др.[23] нужно признать, что независимых причинных рядов, независимых серий событий в действительности не существует. Не имея возможности подробного анализа этого вопроса, заметим, что, допуская причинную связь событий, нельзя достаточно последовательно обосновать идею независимых причинных рядов. Следовательно, нельзя и исходить из их существования. Отсюда допустить, что прочие условия остаются неизменными, — это значит допустить, что в два различных момента времени общая констелляция мировых событий в точности повторяет одна другую. Вероятность этого бесконечно мала и не может служить основанием для научных построений. Поэтому в действительности если однажды при данных условиях мы имеем событие А, то во всякий другой момент мы всегда имеем уже не просто событие А. а обязательно в каждом отдельном случае или А + А1, или АА где А1 обозначает совокупность изменений в окружающих условиях, связанных с А. Соответственно если в первом случае в качестве следствия А мы будем иметь В, то во всех других случаях мы будем иметь уже не просто В, а обязательно или В + Xх, или В-Xх, где Xх обозначает осложнения в следствиях в силу указанных осложнений в причинах.
Это не значит, что было неверно первое положение о причинной связи между А и В. Это значит лишь, что подверглись изменению условия, в которых рассматривается связь между А и В. Так как установить это изменение условий в точности, как правило, невозможно, то очень часто этот пробел в познании переносят на самую действительность и утверждают, что существует множественность причин и следствий[24].
В действительности причинная связь между явлениями всякий раз имеет строгий характер. Но ввиду неизбежно привходящих изменений в прочих условиях она всякий раз индивидуальна и в точности не повторима[25]. Это значит, что всякое единичное событие — говорим ли мы о крупном или элементарном событии — индивидуально. Индивидуальный характер явлений природы выражен менее резко, чем явлений культуры. Это дает возможность науке ближе и точнее подходить к установлению причинной связи явлений природы, чем явлений культуры. Но все же в отношении типичности между явлениями природы и культуры имеет место различие лишь количественного, а не качественного порядка[26].
Но если всякое единичное событие, строго говоря, индивидуально обусловлено и в той или иной степени своеобразно, если бы этим исчерпывалась характеристика действительности, то какое следствие проистекало бы отсюда для возможности прогноза?
При этих условиях прогноз был бы возможен лишь в том случае, если бы мы обладали полным знанием действия всех причин и расположения элементов действительности в какой-либо конкретный момент времени, если бы, иначе говоря, мы обладали способностями всемогущего разума, о котором более ста лет тому назад писал Лаплас: «Разум, который для некоторого данного мгновения знал бы все действующие в природе силы и взаимное расположение всех составляющих ее тел, если бы при этом он был достаточно мощным, дабы подвершуть эти данные вычислению, охватил бы в одной формуле движение величайших светил небесных и движение мельчайших атомов: ничто не было бы для него недостоверно, будущее, как и прошлое, было бы открыто его взору»[27][28].
Поскольку описанный Лапласом гипотетический всемогущий разум по предположению знал бы действие всех действующих причин, поскольку, далее, согласно предположению этот разум обладал бы способностью всем действующим причинам дать количественное выражение и охватить их действие единой формулой, поскольку, зная исходное расположение всех тел, мог бы действительно воспроизвести все события прошлого, предсказать все события будущего и, следовательно, читать книгу бытия во времени11.
Не будем говорить о том, существовали ли бы какие-либо границы к познанию и предвидению даже для этого всемогущего разума[29]. Но несомненно, что формула хода событий мира, которую имел бы всемогущий разум, была бы бесконечно сложна и была бы посильна лишь для мыслимого идеально-предельного случая, идеально мощного разума. Однако познающий разум человека фактически отделен дистанцией огромного размера от всемогущего разума, о котором писал Лаплас.
Мы не знаем действия не только всех причин, но даже и сколько-нибудь значительного числа их. Очень немногие из них мы можем выражать количественно. Мы не в состоянии охватить их действие единой формулой. Но если это так, то при наличии одной предпосылки причинной связи явлений мы были бы лишены не только идеальной, но и всякой возможности предвидения будущего. Действительно, если всякое событие индивидуально, то в таком случае всякое событие будущего представляет из себя нечто новое. Чтобы провидеть его в будущем, было бы необходимо мысленно построить весь ряд событий, который ведет к интересующему нас событию. Поскольку мы не обладаем знанием всех причинных зависимостей, мы были бы не в состоянии сделать это, а следовательно, не в состоянии были бы и предвидеть. Больше того, при этих условиях все наше знание вообще свелось бы к знанию и причинному объяснению лишь некоторых конкретных фактов. Такое знание не только было бы недостаточным для прогноза, но было бы в значительной мере, если не вполне, бесполезным и бездейственным вообще.
Итак, совершенно ясно, что при ограниченности наших познавательных способностей одной предпосылки причинной зависимости для возможности прогноза недостаточно. И если тем не менее прогноз, как мы видели, возможен, он возможен лишь при условии, что существует не только причинная связь явлений, но одновременно и закономерность их хода. Под закономерностью мы понимаем единообразие хода событий
Между понятием причинной связи и закономерности многие ставят знак равенства[30][31]. Однако с этим согласиться нельзя. Несомненно, в приведенной выше формуле причинной связи, что при прочих равных условиях за Л всегда следует В, потенциально как бы содержится указание на возможность единообразия и закономерности хода событий. Если бы прочие условия оставались неизменными или если бы они повторялись, то за А действительно закономерно следовало бы В[32]. Однако сама идея и формула причинной связи, как отмечалось уже выше, вовсе не утверждают действительного существования единообразия хода и повторения событий. Эта формула указывает лишь на необходимость связи событий.
Понятие закономерности, как мы увидим, точно так же, в каком-то, правда, несколько ином смысле, предполагает неизменность прочих условий[33]. Но то новое, что оно содержит в себе в отличие от понятия причинной связи, состоит именно в том, что понятие закономерности положительно опирается на действительное существование единообразия, повторяемости в окружающем мире.
Легко понять, что ближайшим образом именно существование закономерности в ходе событий открывает новые и широкие перспективы для их познания и предвидения. Именно закономерность позволяет нам по одним событиям предсказывать появление других[34]. Однако как раз в идее закономерности лежат значительные трудности, в которых необходимо дать себе точный отчет. Если верно, что конкретно мы всегда имеем дело с индивидуальными причинными связями, с индивидуальными и неповторимыми в точности событиями, то в каком смысле можно говорить о закономерности, т. е. о единообразии, т. е. о повторяемости событий? На первый взгляд кажется, что перед нами неустранимое противоречие. Однако это не так.
Допустим, что мы имеем событие/!, характеризующееся признаками а, Ь, с, d … п. В силу процесса непрерывного изменения тех или иных окружающих условий вероятность того, что это Л в точности где-либо и когда-либо повторится, ничтожно мала. Мы будем иметь в различных случаях либо a, b, с, d … п, либо а1, Ъ, с, d … п, либо a, b', с, d… п и т. д. Иначе говоря, событие, строго говоря, будет каждый раз индивидуально. Однако, как ясно из схем, оно будет не абсолютно индивидуально. Всякий раз в нем сохраняется какое-то центральное ядро признаков, которые являются общими для него и которые и позволяют нам утверждать, что мы имеем дело в общем с тем событием, что в основных чертах оно повторяется.
Так, если мы изучаем процесс ценообразования при товарно-капиталистическом строе в Англии, Германии, Соединенных Штатах или в различные моменты времени в одной Англии, то всякий раз этот процесс будет иметь свои отличительные черты. Но всякий раз в нем можно обнаружить и общие, повторяющиеся черты. То же самое имеет место, когда мы изучаем различные массы кислорода, различные виды животных и т. д.
Иначе говоря, если от индивидуального события абстрагировать особенные изменяющиеся черты, то остальные черты предстанут перед нами в различных случаях выхода этого события как общие[35]. Причем эти общие черты их являются столь же реальными, как и черты индивидуальные[36]. Именно на этой реальной структурной особенности событий основана возможность классификации их на роды и виды, возможность образования видовых и общих родовых понятий. Именно эта их особенность является внешним выражением единообразия и закономерности событий[37].
Однако теория абстрагирования сама по себе только констатирует факт существования общего ядра событий. Но не выясняя его характера, она не может в достаточной мере выяснить и природу закономерности. Уже по одному этому, помимо других соображений, разбором которых мы не можем заняться здесь[38], было бы трудно удовлетвориться теорией абстрагирования. Какое же в таком случае истолкование закономерности можно принять?
Когда мы говорим о единичном событии (вещи или явлении), то необходимо помнить, что самое понятие единичного события глубоко относительно. Каждое единичное событие (вещь или явление) никогда не дано как таковое. В действительности оно, с одной стороны, представляет из себя связную своеобразную совокупность составляющих его элементов, с другой — входит как элемент в связные совокупности более объемлющего характера. Иначе говоря, оно выступает одновременно и как целое, и как часть более широкого целого[39][40].
Опираясь на эту идею, строение конкретного мира можно представить себе в виде последовательно усложняющихся сфер событий: каждая следующая сфера или ее отрезок представляет из себя своеобразное целое, своеобразную совокупность большого числа элементов, каковыми являются события (вещи, явления) нижестоящих предшествующих сфер.
Так, атомы являются своеобразной совокупностью большого числа корпускул, материя — совокупностью атомов11, организм — своеобразной совокупностью клеток[41], общество — реальной совокупностью людей[42]. Отсюда ясно, что понятия элемента-части и совокупности-целого соотносительны. Вместе с тем необходимо особенно подчеркнуть, что каждая данная совокупность не является простой суммой составляющих ее элементов и не может быть понята из свойств отдельных элементов как таковых. Каждая совокупность представляет из себя нечто новое, своеобразное, которое лишь в конечном счете могло бы быть сведено к более элементарным явлениям.
Таким образом, каждая совокупность или ее отрезок является результатом сочетания и связи большого числа составляющих элементов. И если мы имеем перед собой совокупность того или иного порядка, если мы берем тот или другой элемент ее в отдельности, то его действия будут, конечно, как и все события, причинно обусловлены и необходимы. Но в отношении к событиям, наблюдаемым в самой совокупности, они будут относительно случайны. Мы рассматриваем их в качестве относительно случайных либо потому, что нам неизвестны все причины, которыми обусловлены элементарные события, либо потому, что нам неизвестны законы сочетания их в совокупность[43].
Иную картину представляют из себя эти единичные события, взятые и рассматриваемые в их совокупности. Существует мнение, что результат взаимодействия относительно случайных событий будет также случайным. Однако это не так[44]. Если в урне находятся 1 белый и 1 красный шар и мы вынимаем их один за другим, бросая их обратно после отметки цвета появившегося шара, то каждое отдельное появление шара будет предопределено индивидуально, но останется для нас относительно случайным. Однако мы знаем, что при большом числе появлений шара при отсутствии определенных преимущественных условий для выхода одного из них или при равновозможности их выхода частота появлений красного и белого шаров окажется вполне закономерным результатом: она будет весьма близка к теоретической вероятности выхода того и другого. В данном случае она будет весьма близка к ½ общего числа появлений шаров. Этот закономерный результат и выражает собой сущность так называемого закона большого числа[45].
Но то, что проявляется в случае с урнами, проявляется в действительности, в природе и обществе, всюду, где мы имеем дело с большим числом индивидуально-детерминированных относительно случайных событий. Конечно, в действительности события сложнее. В действительности нет столь строгих условий равновозможности единичных событий, как это наблюдается в играх или экспериментальных проверках закона большого числа[46]. Но все же общие результаты сочетания большого числа единичных событий и здесь оказываются закономерными.
Так, единичный случай самоубийства или преступности в сфере социальных явлений представляется относительно случайным. Однако изучение самоубийства и преступности как социального, массового явления обнаруживает удивительные закономерности[47]. То же самое мы имеем в области биологии, например в вопросах наследственности и изменчивости[48]. Аналогичные результаты дают и другие области знания, например кристаллография, астрономия и, наконец, физика[49]. Кинетическая теория газов, главным образом работы знаменитого физика Больцмана, показала, что законы состояния газов можно представлять как результат взаимодействия бесконечно большого числа отдельных молекул газа[50].
За последнее время сделаны попытки широко обобщить значение связи большого числа относительно случайных событий и истолковать его как общее основание для закономерности явлений природы и общества[51].
Если принять эту концепцию, то, с одной стороны, сравнительно легко разрешаются те трудности, которые связаны с идеей закономерности, с другой стороны, сама закономерность получает своеобразное и яркое освещение, имеющее огромное значение для возможности и пределов предвидения.
Закономерность событий есть результат взаимодействия боль-
того числа элементарных явлений, рассматриваемых как реальная совокупность.
Закономерность явлений в совокупности вытекает из того, что при наличии большого числа элементарных событий, составляющих данную совокупность, индивидуальные причины этих событий взаимно нейтрализуются, в силу чего выявляется действие наиболее общих и устойчивых причин. Действие этих общих причин и обусловливает среднее закономерное течение событий в данной совокупности[52]. Отсюда то устойчивое ядро, которое мы обнаруживаем в одном и том же событии в меняющихся условиях, о чем говорилось выше. Отсюда возможность абстрагирования от особенных привходящих признаков данного события.
Для того чтобы закономерность и единообразие событий действительно существовали, согласно развиваемому взгляду не требуется, чтобы было налицо повторение и полное тождество всех прочих условий. Достаточно, чтобы было налицо большое число элементарных явлений и чтобы основные условия течения этих явлений оставались лишь более или менее устойчивыми[53][54].
И обратно. Если в корне меняются упомянутые основные условия, то и линия хода событий в данной совокупности, оставаясь закономерной для каждой данной стадии изменения основных условий, на каждой этой стадии будет своеобразна, будет своя. В этом смысле, принципиально говоря, всякая закономерность относительна и имеет исторический характер. Однако практически это положение имеет значение лишь для тех областей мира, которые наиболее изменчивы, и прежде всего для общества13.
Сказанное выше об основаниях существования закономерности приводит к следующим важным выводам относительно ее свойств. Допустим, что мы имеем несколько однородных совокупностей, например несколько обществ или стран с однородным социальноэкономическим укладом. В каждой взятой совокупности как таковой в силу описанного механизма события будут иметь закономерный характер. Этот закономерный ход событий объективно будет необходим, так как он будет следствием действия общих причин. Но так как мы не знаем всей суммы обстоятельств, обусловивших этот ход событий, то с познавательной точки зрения мы можем характеризовать его для каждой совокупности как вероятный. Однако вероятностная характеристика закономерности не исчерпывается этими чисто познавательными основаниями, а имеет и объективные основания. Если мы сопоставим линию необходимого закономерного хода событий в различных взятых однородных совокупностях или в одной и той же совокупности, но в различные моменты времени, то эти линии никогда в точности не совпадут между собой. Однако при большом числе единичных событий и при отсутствии радикалыю-пертурбирующих условий будут существовать объективные основания для вероятности, что эти линии окажутся достаточно близкими между собой и что их можно в среднем рассматривать в качестве фактического проявления той же закономерности. В этом смысле закономерность можно характеризовать как линию необходимого и в то же время в среднем наиболее вероятного хода событий совокупности. Сказанное имеет силу не только для общественных совокупностей, но и для различных масс того же газа, для различных однородных организмов и т. д.
Такая характеристика закономерности не значит, что закономерности нет в действительности, что закономерность есть только категория нашего рассудка. Все предыдущее изложение говорит против этого и показывает, что «законы — это русло, по которому течет поток фактов; факты прорыли его, хотя они же ему и следуют[55].
Это значит лишь, что в действительности нет точной, математически тождественной закономерности. Закономерность, которая наблюдается в различных случаях однородной совокупности или совокупностей, лишь приблизительно остается одной и той же. Строго говоря, это относится решительно ко всем областям действительности, не исключая и физических явлений[56]. Однако между различными областями действительности в этом отношении существует огромная количественная разница. Там, где число элементарных явлений, слагающих данные совокупности, бесконечно велико и общие условия их существования мало изменчивы, фактические отклонения закономерности в отдельных случаях таких совокупностей будут бесконечно малы. Таковы физико-химические явления. Наоборот, там, где этого нет, закономерности будут иметь менее устойчивый характер. Таковы явления социальноэкономической жизни[57].
Однако мы хорошо знаем, что наука, в частности естествознание, формулирует строгие, математически точные законы. Это действительно так. Но по изложенным основаниям в природе нет ни одного явления, которое вполне подходило бы под эти законы. От этого, конечно, они не теряют своего значения, так как позволяют нам понимать мир. Однако необходимо помнить, и это важно, в частности, для предвидения, что в действительности они осуществляются всегда лишь с известным приближением[58].
На языке математической статистики эту мысль можно было бы выразить так: фактическая закономерность стоит в таком же отношении к идеальной, в каком частоты стоят к теоретической вероятности выхода событий.
Если в предыдущем изложении сделана попытка вскрыть общую природу закономерности, то для более точного выяснения возможностей предвидения необходимо далее установить две различные категории закономерности. Мы имеем в виду закономерности статическую и динамическую. Статическая закономерность сводится к единообразию в строении того или иного целого, или к единообразию консенсуса его элементов. Таковы законы равновесия в физике и химии[59], таковы законы строения кристаллов и организмов, таковы законы связи элементов социально-экономической жизни, например законы связи различных социальных институтов[60], законы равновесия рынка[61] и т. д. Наоборот, динамическая закономерность состоит в единообразии последовательности изменения явлений и их связи во времени.
Мы знаем, что эмпирически данная нам действительность по самому существу своему динамична, изменчива. Поэтому мы никогда не можем найти в ней статического состояния в чистом виде. Однако при всей своей изменчивости элементы действительности сохраняют между собою в зависимости от общих условий определенные закономерные связи. И если мы методологически отвлечемся от динамических процессов, то можем установить статические закономерности[62]. Они будут выражать те связи между элементами, которым последние подчиняются в течение процесса их непрерывной динамики. В этом смысле статика представляет из себя момент динамики, и формула статической закономерности будет формулой закономерности динамической, если в последней выключить элемент времени или приравнять его к нулю.
Значение статических закономерностей для возможности прогноза очевидно. Действительно, допустим, что мы знаем закон связи событий Aw В. Допустим далее, что тем или иным путем мы установили, что через некоторое время А превратится в А1. Тогда на основании упомянутого закона связи мы могли бы предвидеть превращение В в В1.
В этом примере мы допустили, что тем или иным путем нам стало известно о предстоящем изменении Л в Л1. Но как можем мы узнать это? Как можем мы в этом смысле преодолеть время, отделяющее нас от момента превращения/! в А1? Статические закономерности сами по себе не могут ничего сказать нам о предстоящем изменении/! и его направлении, а следовательно, одни они не в состоянии служить и основанием для предвидения, выраженного в определенной форме. Мы можем узнать об изменении А и о направлении этого изменения лишь на основе динамической закономерности явлений, состоящей в единообразии изменения событий во времени.
Это единообразие изменения событий в различных областях действительности может иметь различную природу. Оно может быть движение^ тел, например в сфере физических явлений, их ростом или развитием, например в сфере органической и социально-экономической жизни. Но о каком бы виде изменений ни шла речь, динамическая закономерность может иметь две формы. Она может выражать или единообразие изменения явлений (событий) А, В, С в соответствии с изменениями других явлений X, У, Z, или она может выражать единообразие изменения данных явлений Ку L, М самих по себе, т. е. единообразие внутренней динамики данного ряда или рядов[63]. Примером второй формы динамической закономерности может служить развитие ряда по формуле 2Л, где п принимает последовательно значения 1, 2, З… Х[64]. Примерами этой же формы динамической закономерности могут служить такие тенденции, как тенденции повышения органического состава капитала, его концентрации, тенденция нормы прибыли к понижению и др.
Предыдущий анализ закономерностей приводит нас к новым итогам в отношении проблемы предвидения. Выше мы пытались установить, что без существования закономерности хода событий даже при наличии причинных связей их предвидение событий было бы для нас невозможно. Но само собой очевидно, что возможность предвидения предполагает не просто объективное существование закономерностей. Она предполагает, что мы открыли и знаем эти закономерности. Допустим теперь, как мы это сделали выше в отношении причинных связей, что мы знаем все эти закономерности, не зная, однако, исчерпывающим образом всех причинных связей. Тогда наши возможности предвидения были бы почти безграничны. Однако в одном отношении они были бы все же ограничены. По самому существу закономерности, как это показано выше, она имеет в виду среднюю, наиболее вероятную линию течения событий данных совокупностей. Следовательно, отдельные конкретные события данной совокупности будут всегда в той или иной мере отклоняться от нее. Поэтому, даже зная закономерности, мы не могли бы предвидеть конкретных событий во всех их деталях[65]. Мы могли бы предвидеть лишь средние типичные события. Однако в соответствии с природой закономерности в некоторых областях естествознания, имеющих дело с максимально устойчивыми закономерностями, практически предсказание могло бы достаточно близко совпадать с конкретными событиями. Но этого не могло бы, как правило, быть в социально-экономических науках. Факты предвидения при современном, а не идеальном значении вполне подтверждают этот тезис. Мы знаем, что даже в области точных наук предвидение удается, как правило, всегда с некоторыми уклонениями от действительности. Таковы предсказания в области астрономии, в области таких явлений, как приливы и пр.[66] Еще неизмеримо большие ошибки были бы в сфере биологии и особенно социально-экономической. Однако при условии знания всех закономерностей, даже и при их вероятностной природе, мы могли бы довольно точно определить степень вероятной ошибки предвидения, особенно в естествознании. Это, конечно, значительно повышало бы ценность нашего прогноза. Но во всяком случае на основе знания всех закономерностей предвидение с практической точки зрения было бы идеальным.
Однако на самом деле мы далеки от этого идеала.
Уже из предыдущего изложения ясно, что необходимой предпосылкой предвидения является не только существование причинной связи явлений и закономерности их хода, но и существование третьей предпосылки, а именно знания этих связей и закономерностей, а также, разумеется, знания констелляции событий в какой-то исходный момент. Мы убедились, что при условии идеальной реализации точного знания всех причинных связей ограничивающие пределы прогноза исчезают. Но сделав такое допущение, мы сейчас же отметили его нереальность ввиду ограниченности нашего знания причинных связей. Тогда мы увидели, что возможности предвидения почти исчезают.
Введение
второй предпосылки, а именно закономерности хода событий, вновь существенно изменило положение дела, открыв новые горизонты для предвидения. Проанализировав природу закономерности и допустив, что нам идеально известны эти закономерности, мы убедились, что хотя возможности предвидения и не становятся безграничными, но все же с практической точки зрения они становятся почти безграничными. Однако допущение знания всех закономерностей исторически столь же нереально, как и допущение знания действия всех причин.
Отсюда совершенно ясно, что для получения более близких к действительности выводов о границах предвидения, в частности социально-экономического предвидения, мы должны теперь пристальнее всмотреться в характер третьей предпосылки прогноза, т. е. нашего знания причинных связей и закономерностей.
Поскольку первая и вторая предпосылки имеют объективный, характер, постольку, если так можно выразиться, они всегда даны. Наоборот, интересующая нас третья предпосылка имеет переменный характер. В каждую историческую эпоху она дана лишь в той или другой, но ограниченной мере в соответствии с уровнем развития самой науки. Третья предпосылка всегда находится как бы в минимуме, и потому степень возможности прогноза в каждое данное время выступает прежде всего в качестве функции от уровня развития нашего знания. Что знание прогрессирует и совершенствуется, это является неоспоримым фактом. Но столь же неоспоримым является и тот факт, что знание никогда не представляет из себя предельно завершенного идеального целого в различных отношениях.
Во-первых, хотя в каждый данный момент имеется определенная констелляция событий, но мы никогда не знаем ее полностью. Во-вторых, как указывалось уже выше, хотя явления мира причинно и обусловлены, тем не менее мы никогда не знаем всех причинных связей. В-третьих, хотя явления мира и представляются закономерными, тем не менее мы никогда не располагаем знанием всех этих закономерностей, в особенности закономерностей динамического порядка. Во всех трех отношениях в силу сложности самой социальной действительности мы обладаем наименьшим запасом знаний именно в социально-экономических науках.
Наше знание ограничено, таким образом, прежде всего количественно, по объему. Но этого мало. Оно ограничено и качественно. Некоторые зависимости явлений, установленные наукой, можно считать строго ми причинными зависимостями. Однако многие устанавливаемые наукой связи лишены этой строгости. Их можно было бы поэтому назвать эмпирическими.
То же самое имеет место и в отношении законов. Вскрывая закономерность хода событий, наука формулирует законы. Но необходимо различать два типа научных законов: законы каузальные и законы эмпирические. Всякий закон указывает на единообразие или в связи, или в последовательности явлений. Всякий закон стремится формулировать действие каких-то общих причин. Однако в одних случаях эти общие причины могут быть действительно вскрыты, хотя сама формула закона может и не содержать непосредственно указаний на эти причины1. В других случаях закон нс только не указывает на причины, обусловливающие формулируемую им закономерность, но он причинно и не истолкован. Это будут законы эмпирические[67][68].
Между строгой и эмпирической причинной зависимостью, между каузальным и эмпирическим законом существует глубокое различие. В то время как строгая причинная зависимость указывает на зависимость необходимую, эмпирическая зависимость лишена этой черты. В то время как каузальный закон для данных общих условий обладает общезначимостью, эмпирический закон лишен этой общезначимости.
Наряду с этим необходимо иметь в виду, что как каузальные, так и эмпирические законы в одних случаях получают точное количественное выражение, в других они лишены этой формы и получают характер приблизительных, суммарных формул. Именно таковы, как общее правило, законы в социально-экономических науках, где мы до сих пор не можем найти путей для точного измерения событий.
Совершенно очевидно, что степень количественного и качественного ограничения нашего знания имеет определяющее значение в отношении пределов возможности прогноза. Чем больше круг нашего знания о причинных связях и закономерности явлений, чем более строгий характер носят устанавливаемые нами связи этих явлений, чем большее число установленных закономерностей поддается причинному объяснению и количественному выражению, тем ширю наши возможности предвидения, тем точнее это предвидение. И наоборот.
Принципиально в любой области знания могут быть сформулированы строгие причинные связи и точные каузальные законы. Однако фактически и количественно в этом отношении между различными науками существует глубокое различие, которое кладет довольно резкую грань и между возможностями прюгаоза в различных областях знания. Это различие и эта грань обусловливаются различием природы изучаемого отдельными науками объекта и вытекающими отсюда особенностями употребляемых ими методов. Краткий анализ этих методов покажет, почему социально-экономические науки находятся здесь в относительно наименее благоприятном положении.
Как известно, основной метод нашего познания окружающего мира — это метод индуктивного исследования[69]. Однако точные причинные связи и законы мы можем вскрыть при помощи этого метода лишь в том случае, если соблюдены необходимые предпосылки строгости установки самой индукции.
Благодаря отмеченной выше устойчивости среды, а также возможности изоляции и эксперимента в наиболее полном виде эти предпосылки даны в области физико-химических наук[70]. Однако даже и здесь мы не можем обеспечить идеальных предпосылок индукции[71].
Отсюда можно утверждать, что вообще этих предпосылок в идеальном виде нет ни в одной отрасли знания. Поэтому во всех отраслях наше фактическое знание, полученное при помощи индукции, в сущности лишено абсолютной точности и имеет в свою очередь лишь вероятный характер. Но если в области математического естествознания наши индуктивные выводы достаточно приближаются к точным и практически могут приниматься за точные, то в других областях знания, в частности в социально-экономических науках, этого нет. Мы не можем сказать, что здесь совершенно нет условий для индукции[72]. Однако пределы возможности ее здесь весьма ограниченны. Вот почему социально-экономические науки широко пользуются иными методами познания.
Одним из таких методов является дедуктивный метод. Этим методом, конечно, пользуются и другие науки, в том числе и естествознание. Однако здесь он имеет явно вспомогательное значение.
Дедуктивный метод при отсутствии логических ошибок приводит к строгим выводам. В этом его сила. Однако он обладает такими чертами, которые делают его как таковой далеко не достаточным. Во-первых, верность дедуктивных выводов предполагает правильность исходных посылок. Но именно эти посылки уже не могут быть получены путем дедукции: они должны быть получены путем изучения реальной действительности[73]. Это делает дедуктивный метод как метод познания действительности зависимым. Во-вторых, дедуктивный метод не может дать ничего нового по сравнению с тем, что аналитически заложено в исходные предпосылки, на которые он опирается. Это ограничивает познавательную роль дедуктивного метода в смысле получения при его помощи новых зависимостей и законов. В-третьих, так как посылки, от которых отправляется дедукция, всегда носят общий характер и охватывают действительность лишь в некоторых самых общих разрезах, то и выводы, полученные при ее помощи, неизбежно имеют общий характер и не в состоянии охватить действительность достаточно полно. Это ограничивает значение дедуктивного метода как основы для уяснения действительности и предвидения событий, особенно в социальных науках, ще эти выводы лишены количественной формы.
Предыдущие замечания не уменьшают значения дедуктивного метода. Но совершенно ясно, что этот метод не дает возможности достаточно полно охватить действительность и делать точные и детальные предсказания.
Весьма ограниченные возможности применения индуктивного метода в строгом смысле и недостаточность дедуктивного метода заставляют социально-экономические науки широко пользоваться приемами, которые по своей общей природе имеют индуктивный характер, но в то же время имеют и совершенно своеобразные черты, которые отличают их от классической индукции.
Сюда относится, например, историко-сравнительный метод. По своей логической сущности историко-сравнительный метод имеет связь с методом индуктивного умозаключения по принципу сходства, различия или сопутствующих изменений. Однако об установке индукции в точном смысле слова здесь говорить нельзя. И хотя этот метод оказал, несомненно, очень большие услуги развитию социально-экономических наук[74], но очевидно, что сам по себе он может привести к установлению лишь эмпирических связей и эмпирических законов, не допускающих количественного выражения, не могущих служить основанием для точного предвидения[75].
Другой метод, который по своей общей природе является своеобразно индуктивным и к которому особенно социально-экономические науки прибегают все чаще и чаще, — это метод статистический. Статистический метод исходит из положения, что единичные события относительно случайны. Опираясь, далее, на положение, что при большом числе равновозможных единичных событий частные причины нейтрализуются, выступает действие общих причин и обнаруживается закономерность в ходе событий, он берет в качестве предмета анализа совокупности. Так как при большом числе единичных событий эмпирические частоты выхода событий весьма близко совпадают с их теоретической вероятностью, доступной определению на основе теории вероятностей, то в наиболее совершенной форме статистический метод выступает как метод статистико-математический[76][77].
Нетрудно видеть, что в своих исходных основаниях статистический метод как бы воспроизводит действительную онтологическую модель строения мира и закономерности событий, как она была охарактеризована выше. В этом нужно видеть основную причину все растущего успеха статистического метода и его применения в самых различных отраслях знания: в астрономии, физике, химии, биологии, но больше всего в социально-экономических науках11.
Однако, схватывая в своих исходных принципиальных положениях наиболее адекватную онтологическую модель хода событий, статистический метод все же не гарантирует, что при своем применении он всегда воспроизводит действительный ход этих событий и вскрывает совершенно точно их связи и закономерности. Статистический метод есть все же только метод нашего познания, встречающий при своем применении ряд трудностей, которые лишают его возможности выявить строго и точно связи и закономерности действительности. Эти трудности лежат не только в сложности действительности, но и в качестве материала, в невозможности иметь то количество единичных наблюдений, которое необходимо, и, наконец, в наших субъективных ошибках.
Отсюда хотя статистический метод и позволяет нам вскрывать статические и динамические связи и закономерности между различными событиями данной совокупности, хотя математическая статистика и выражает эти связи даже количественно при помощи коэффициентов корреляции, дисперсии и т. д., однако на основе только статистического метода мы никогда не можем сказать, что вскрытые нами связи являются действительно причинными связями, что найденные нами закономерности являются действительно строгими каузальными законами явлений[78].
Находимые при помощи статистического метода связи и правильности и их математическое выражение сплошь и рядом могут оказаться мнимыми, ложными. Статистический метод даже и в математической форме лишь более или менее совершенно систематизирует тот эмпирический материал, который мы имеем, помогая вскрыть эмпирические связи и закономерности. Но всегда необходимы иные дополнительные приемы, чтобы определить, что перед нами действительные причинные связи и закономерности. Так как другие приемы, такие, как индукция и дедукция, проще и доступнее в областях естествознания, так как здесь устойчивее и проще сами закономерности, так как, наконец, самые данные для статистической обработки здесь могут быть более полны, то и статистический метод в этих областях приводит нас к более точным и строгим выводам, чем в обществоведении.
Анализ третьей предпосылки предвидения приводит нас к следующему выводу. Как в силу количественной ограниченности, так и в силу качественного несовершенства нашего знания мы всюду лишены возможности абсолютно тонного прогноза; однако в различных областях действительности фактические возможности предвидения весьма различны. В этом отношении можно наметить два крайних полюса возможностей. Область наибольших возможностей прогноза — это область тех отраслей естествознания, где мы, как в физике, химии, астрономии, располагаем достаточно большим числом установленных и выраженных в количественной форме причинных связей и закономерностей. Согласно предыдущему изложению и здесь мы не располагаем возможностями абсолютно точного предвидения событий во всей их полноте. Однако на основе большого числа количественно выраженных связей и законов здесь имеется возможность достаточно точного предвидения не только общих тенденций в ходе событий, но времени, места и интенсивности их проявления с определением вероятной ошибки прогноза. С практической точки зрения эти возможности прогноза представляются высокосовершенными. Именно они дают нам основания сообразовать здесь свои действия с ходом космических событий, таких, как приливы, затмения, процессы химических реакций и т. д., именно они дают нам основания для точных расчетов при различных технических сооружениях и действиях.
Другой крайний полюс возможностей предвидения лежит в тех областях, в которых мы опираемся на такие науки, как метеорология[79], социально-экономические дисциплины, психологические науки и т. п., где не только весьма ограниченно число установленных причинных связей и закономерностей, но где они в большинстве случаев имеют приблизительный эмпирический характер и пока не поддаются точному количественному выражению. Поэтому здесь мы не только не в состоянии точно предвидеть грядущие события во всей их полноте, но или вовсе не в состоянии фиксировать время, место, а также интенсивность проявления событий и должны удовлетворяться предсказанием общих тенденций их хода, или можем фиксировать время, место и интенсивность событий лишь весьма приблизительно, часто не имея возможности определить степень вероятной ошибки прогноза.
Между этими полярными областями располагаются в известной градации все другие области действительности, где нам приходится прибегать к прогнозу.
Однако предыдущий анализ третьей предпосылки предвидения вскрыл перед нами пределы его возможности лишь в самой общей форме.
Опираясь на полученные выводы, продолжим теперь этот анализ и посмотрим, как преломляется ограничительное влияние третьей предпосылки прогноза при различных специальных условиях. При этом мы остановимся не на всех возможных условиях, а лишь на тех, которые имеют наибольшее значение в практике предвидения, особенно в социально-экономической жизни.
Степень недостаточности нашего знания, или роль третьей предпосылки прогноза, выступает с большей или меньшей силой, во-первых, в зависимости от характера тех задач, которые мы ставим предвидению, или, иначе, от степени тех претензий, которые мы предъявляем к прогнозу, во-вторых, в зависимости от особенностей природы событий той области действительности, в сфере которой мы применяем прогноз.
Если сосредоточить внимание на первом случае, то можно формулировать следующее положение: чем более сложную задачу ставим мы предвидению, тем менее точным и достоверным оно может быть. При этом основное значение для усложнения или, наоборот, для упрощения задачи прогноза имеют два условия: насколько конкретным, исчерпывающим хотим мы сделать свой прогноз и насколько отдаленным во времени является то событие или события, которые мы предсказываем.
Что касается первого условия, то, как правило, чем в более конкретном и индивидуализированном виде хотим мы предсказывать событие или события, тем менее возможным и точным, хотя одновременно и тем более богатым по содержанию, становится наш прогноз.
Примерная схема убывания точности прогноза при этом такова. Допустим, что мы предсказываем наступление промышленноторгового кризиса в условиях капиталистической системы хозяйства, но не указываем точно ни времени, ни места его наступления, ни тех конкретных его особенностей, которыми он будет сопровождаться. На основании имеющегося знания законов и особенностей капиталистической системы организации хозяйства мы можем считать это предсказание достаточно точным и почти достоверным. Правда, оно сохраняет условный характер, но лишь в одном отношении, а именно в том, что оно опирается на следующую предпосылку: система капиталистической организации хозяйства продолжает сохраняться без радикальных изменений в течение времени, достаточного для проявления капиталистического цикла. Однако нетрудно видеть, что, обладая почти достоверностью, это предвидение чрезвычайно обще по содержанию и потому малоплодотворно. Оно не говорит нам ничего, кроме того, что капиталистическая система хозяйства не может существовать без кризисов. Допустим теперь, что мы предсказываем наступление кризиса в определенном месте, не указывая, однако, определенно его времени и тех конкретных особенностей, которые он будет иметь. Степень точности нашего предсказания при этих условиях, несомненно, понизится. Вероятность, что наш прогноз окажется точным, упадет. Но очевидно, что если бы он оказался верным, то он оказался бы и более содержательным и практически более актуальным. Допустим далее, что мы предсказываем наступление промышленно-торгового кризиса и указываем не только место, но и время его наступления. Степень точности нашего предсказания понизится еще более. Но если бы это предсказание было верным, то оно оказалось бы еще более содержательным и еще более актуальным практически. Допустим, наконец, что мы предсказываем наступление кризиса и указываем не только время и место его наступления, но также и те важнейшие конкретные черты его развития, которыми он будет сопровождаться. При этих условиях степень точности нашего прогноза и степень вероятности его осуществления достигают наименьшего предела. Наоборот, если бы этот прогноз оказался верным, то он оказался бы и наиболее содержательным. Таким образом, зависимость точности нашего прогноза от характера задания ему совершенно бесспорна. На основании предыдущего анализа нетрудно установить и причину существования этой зависимости. Эта зависимость объясняется, с одной стороны, общей природой закономерностей, с другой — и главным образом, природой третьей предпосылки прогноза, т. е. природой нашего знания. Для того чтобы в точности и безошибочно предсказывать события в их конкретной полноте, нужно было бы обладать всеведением разума Лапласа. Но этого нет в действительности. Ясно, что чем конкретнее и сложнее предсказываемое нами событие, тем большая часть необходимых для прогноза причинных зависимостей и законов остается для нас неизвестной, тем менее точным и достоверным становится это предсказание. Символически эта мысль может быть выражена так: если событие, которое мы беремся предсказывать, характеризуется признаками а, Ъ, с, d, е и т. д., если наличная сумма знания позволяет нам судить лишь об элементах а, Ь, с этого события, то ясно, что между подлежащим, т. е. предсказываемым событием, и сказуемым, т. е. совокупностью суждений, которые мы можем установить о будущем этого события на основе нашего знания, образуется несоответствие. Первое оказывается более богатым по содержанию, чем второе. Отсюда, решаясь на предсказание события более сложного, чем-то позволяет сделать сумма нашего знания, наша мысль делает некоторый неправомерный скачок, результатом чего и является понижение степени точности и достоверности нашего предсказания.
Что касается теперь второго условия, или роли отдаленности времени, на которое мы строим прогноз, то она огромна. Чем отдаленнее от нас во времени предсказываемое событие, тем, как правило, менее возможным и достоверным становится предвидение. Очевидно, предсказания на отдаленное время были бы достаточно достоверны лишь в том случае, если бы при прочих равных условиях мы обладали достаточным знанием подлинных каузальных динамических законов и если бы мы могли количественно выражать их. Между тем именно достаточным знанием этих законов мы не располагаем. Кроме того, очень многие динамические законы имеют характер эмпирических, не поддающихся количественному выражению законов. Но если это так, то отсюда следует, что чем на более длительное время строим мы прогноз, тем менее данных за то, что мы учли все необходимые динамические закономерности, от которых зависит наступление или ненаступление интересующих нас событий, тем менее уверенности, что известные нам эмпирические закономерности, которые по крайней мере частично положены нами в основу прогноза, с течением времени будут по-прежнему удовлетворительно выражать действительность. Так как в общественно-экономических науках знание каузальных динамических1 и др. законов особенно ограничено, так как здесь роль эмпирических закономерностей в составе нашего знания особенно велика, то именно здесь прогноз на длительные сроки представляется наиболее трудным, именно здесь, решаясь на нею, мы сплошь и рядом допускаем упомянутый выше незакономерный прыжок мысли.
Но если при несовершенстве нашего знания степень точности нашего предвидения меняется в зависимости от сложности поставленной предвидению задачи и отдаленности предсказываемого события во времени, то она может меняться, как отмечалось уже выше, также и в зависимости от объективных особенностей той области действительности, в сфере которой мы строим прогноз.
В силу тех же причин, что и в разобранном первом случае, чел1 сложнее объективно та область, в которой мы строим прогноз, тем при прочих равных условиях относительно менее точным и достоверным он может быть[80][81]. С этой точки зрения равным образом и как правило, прогноз в сфере социально-экономического бытия и в сфере метеорологических явлений и т. п. будет менее точен, чем в сфере более простых физико-химических и астрономических явлений. Однако в пределах как первой, так и второй сферы в свою очередь существуют многочисленные градации событий по их сложности, а следовательно, и по трудности и точности их прогноза.
Условия, усложняющие ту или иную область действительности, весьма многообразны. Не имея в виду подвергать их рассмотрению во всей полноте, остановимся лишь на двух важнейших условиях, которые, особенно в социально-экономической жизни, имеют основное практическое значение.
Первое условие заключается, если так можно выразиться, в степени автономности интересующей нас области событий. Выше, анализируя природу закономерности, мы отметили, что в различных областях действительности она имеет различную степень устойчивости, в частности, что она тем менее устойчива, чем более изменчивы основные условия существования данной сферы явлений. Отсюда следует, что чем более та или иная сфера явлений подвержена воздействию не только внутренних, но и сторонних, гетерогенных факторов изменчивости, тем менее устойчивый и постоянный характер имеют ее закономерности, тем труднее и менее достоверным становится прогноз относительно ее событий.
При наличии таких многообразных условий изменчивости, чтобы обладать возможностью более или менее точного прогноза, мы должны были бы знать не только имманентные законы изменения явлений той сферы, которая нас специально интересует, но одновременно знать причины и законы воздействия на нее со стороны гетерогенных факторов. Но если часто мы не обладаем знанием действия этих факторов даже в области точного естествознания, если поэтому даже в сфере точного естествознания прогноз оказывается лишь вероятным, то в области социально-экономических наук (а также в некоторых менее совершенных областях естественных наук) мы обладаем этими знаниями в гораздо меньшей степени. Как уже отмечено выше, мир социальных явлений отличается от мира природы помимо всего другого тем, что он более изменчив. Он подвергается изменениям под влиянием не только внутренних условий, но и всей совокупности окружающих биологических и космических факторов, законов воздействия которых на социальную жизнь мы в точности не знаем. Этот мир оказывается как бы менее автономным в своем существовании и развитии, чем природа. Для доказательства этой мысли нет надобности указывать на различные космические пертурбации и стихийные факторы, действие которых глубоко потрясает собою социальную жизнь и часто разрушает возможность всякого прогноза. Достаточно указать на такие явления, как климатические условия, которые чрезвычайно изменчивы, но которые, воздействуя, например, на урожай, глубоко вторгаются в ход социально-экономической жизни и меняют условия ее развития. Совершенно ясно, что если бы даже мы обладали достаточно полным и точным знанием закономерности хода самих социально-экономических явлений, если бы даже на основании этого знания мы могли строить более или менее обоснованное предвидение хода этих социально-экономических явлений, то все же вторжение гетерогенных космических и биологических факторов может внести глубокие изменения в ход событий и превратить наш верный прогноз в неверный и ошибочный.
Второе условие, значение которою в данной связи необходимо учесть и которое характерно преимущественно для социально-экономической жизни, лежит в роли вмешательства самого человека в стихийный ход событий, или, иначе, в роли рационального фактора. Поскольку мы вращаемся в сфере явлений природы, с этим фактором нам приходится иметь дело сравнительно редко. Наоборот, в сфере явлений социально-экономической жизни мы постоянно имеем дело с ним. Но если это так, что очевидно, существует глубокое различие между положением астронома, физика, метеоролога, с одной стороны, и социолога, экономиста и т. д. — с другой, когда они предсказывают ход событий. Первые заняты предсказанием событий, которые протекают по законам, не зависящим от действий человека. Наоборот, вторые должны предвидеть события, закономерность которых осуществляется, преломляясь через массовое сознание людей. Это утверждение не значит, что рациональный фактор несводим к обусловливающим его причинам и, не подчиняясь никаким закономерностям, действует совершенно произвольно. Уже выше мы отметили, что идею абсолютной свободы воли признать нельзя. И тем не менее нельзя отрицать, что рациональный фактор может осложнять возможность прогноза. Какое же влияние оказывает действие этого фактора на возможность научного прогноза в области социально-экономической жизни? Чтобы ответить на этот трудный вопрос, представляется необходимым различить два случая, которые обычно объединяются под одним именем сознательного вмешательства человека в ход событий. Первый случай можно назвать в строгом смысле случаем рационального вмешательства человека. Второй случай можно назвать просто случаем вмешательства человека. Если вмешательство человека или человеческих масс основано на точном учете условий действительности, если оно само уже руководится достаточно точным прогнозом хода социальных событий, такое вмешательство мы называем рациональным вмешательством в строгом смысле. Ясно, что такое вмешательство само по себе не вносит никаких осложнений в проблему прогноза. Раз оно основано на точной антиципации хода событий, действие его принципиально может быть в свою очередь точно учтено. Такое вмешательство выступает как проявление человеческой свободы, если под ней понимать человеческие действия, основанные на знании закономерности самой действительности и, следовательно, опирающиеся на осознанную необходимость[82]. Действие такого фактора выступает в качестве показателя роста власти человека над окружающим миром и рационализации жизни. Однако достаточно вдуматься в предпосылки такого действия, сформулированные выше, достаточно учесть, что оно уже предполагает возможность достаточного прогноза, чтобы понять, что такое вмешательство возможно далеко не всегда и в чистом виде мыслимо лишь в пределе развития человеческого общества. В действительности в большинстве случаев вмешательство если не в полной, то в значительной мере основано не на точном знании законов и не на точном прогнозе событий, а на совершенно других мотивах, основано на давлении массовых интересов, осознанных или нет. Такое вмешательство, хотя оно и исходит от человека, обладающего сознанием и волей, очевидно, не может рассматриваться вместе с первым типом вмешательства. С практической точки зрения, с точки зрения существования и развития общества такое вмешательство может быть вполне целесообразным. Однако с точки зрения интересующей нас проблемы прогноза такое вмешательство выступает в качестве нового, сложного и часто глубоко пертурбирующего фактора, который вплетается в цепь стихийного хода событий.
Но если это так, если учесть всю трудность учета и предвидения действия этого своеобразного фактора, то ясно, что его вмешательство ослабляет нашу возможность предвидения вообще. Так, если на основании достаточно внимательного изучения мы строим, допустим, прогноз в отношении развития той или другой отрасли хозяйства, то радикальное и непредвиденное изменение государственной таможенной, тарифной, кредитной и др. политики может существенно отклонить действительность будущего от наших предсказаний.
Опираясь на предыдущий анализ, можно попытаться установить главнейшие типы прогноза, с которыми нам фактически приходится сталкиваться, и определить сравнительную степень их точности. В основу выделения основных типов прогноза мы берем особенности самих предсказываемых событий, а для дальнейшей детализации этого деления — особенности применяемых в различных случаях методов прогноза.
По существу устанавливаемые ниже типы предвидения имеют значение для всех областей действительности. Однако мы рассматриваем их преимущественно в связи с опытами социально-экономического предвидения.
L Первый тип предвидения, который необходимо выделить, это предвидение событий, которьш по существу или по крайней мере при данном состоянии знания представляются событиями иррегулярными, т. е. протекающими без всякой определенной правильности.
Обладая такими общими чертами, событие как предмет предсказания здесь все же в различных случаях может быть весьма различно: в одних случаях речь идет о предсказании наступления или ненаступления определенного явления, например войны, стачки, голода и т. п., хотя бы с приблизительной локализацией его во времени и пространстве; в других случаях возникновение явления, а также время его выхода не вызывают сомнений и событием для предсказания является его интенсивность, например конкретные размеры урожая, размер промышленного производства, уровень цен, эффект предпринятых мер экономической политики и т. д.
Совершенно очевидно, что этот тип предвидения практически имеет огромное и весьма актуальное значение. Но в то же время легко видеть, что именно этот тип предвидения с познавательной точки зрения связан и с наибольшими трудностями. Однако трудности и соответственно степень точности прогноза этого типа довольно различны в зависимости от метода, который здесь применяется и применение которого в свою очередь в значительной мере зависит от особенностей предсказываемых событий. Можно отметить применение двух основных методов, в зависимости от чего и сам первый тип прогноза выступает в виде двух разновидностей.
Первый метод можно назвать методом прямого прогноза. Этот метод состоит в том, что, анализируя развертывающийся ряд или ряды событий и исходя из тенденций их внутреннего развития, мы предсказываем необходимость выхода интересующего нас события. Этот метод по большей части применяется тогда, когда речь идет о предсказании возникновения или невозникновения событий. Но иногда он применяется и в случае, когда наступление события не вызывает сомнения и речь идет об определении его интенсивности. И именно этот метод прогноза является наиболее трудным и наименее точным[83].
Действительно, выше мы показали, что предвидение с локализацией предсказываемых событий во времени и пространстве с указанием их интенсивности предполагает не только закономерность этих событий, но и знание этих закономерностей и возможность в той или иной мере дать количественное выражение им. Именно этих предпосылок нет в данном случае или полностью, или в значительной мере. По самому заданию предсказываемые события здесь представляются иррегулярными, не укладывающимися в ту или другую формулу закона, подверженными влиянию иррегулярных, осложняющих условий. Очевидно, что при данном типе предвидения мы имеем, как правило, дело с таким случаем, когда согласно предыдущему изложению, с одной стороны, требования к прогнозу превосходят возможности, предоставляемые для него знанием, когда, с другой стороны, сами предсказываемые события как события иррегулярные подвержены воздействию осложняющих гетерогенных или иных факторов.
Самое большее, что может дать имеющееся знание социальноэкономических закономерностей при иррегулярности самого предсказываемого события, — это установление тенденций, благоприятствующих или, наоборот, не благоприятствующих возникновению события. Но оно не может дать оснований для локализации его во времени и пространстве.
Едва ли эти положения нуждаются в дальнейшем развитии и доказательствах. Предвидение разбираемого типа представляется обычно настолько трудным, что к нему прибегают не часто и в очень ограниченных областях. Однако к нему все же прибегают и его оправдывают[84]. И опыт показывает, что такой прогноз чаще всего оказывается ошибочным. Мы знаем, что большинство попыток предсказания войн, революций и т. д. на бояее или менее определенно фиксированное время оказывались неудачными.
На основе этого метода оказываются слишком трудными и те случаи предвидения, когда наступление самого явления не вызывает сомнений и событием для предвидения служит его интенсивность. Чтобы не умножать числа иллюстраций, ограничимся одной современной, но весьма симптоматичной и актуальной иллюстрацией.
Летом 1925 г. Госплан опубликовал «Контрольные цифры народного хозяйства на 1925/26 год». Задача этой работы состояла в том, «чтобы дать на предстоящий год основные контуры важнейших народнохозяйственных элементов, установить их взаимную связь и обрисовать то состояние народнохозяйственного целого, которое, по всей вероятности, будет достигнуто в грядущем году[85][86]. Отсюда ясно, что в предложенных контрольных цифрах, вне всякого сомнения, был элемент прогноза. Так как при этом вероятное состояние народного хозяйства предсказывалось на конкретный и, следовательно, неповторимый 1925/26 г. и рисовалось в определенных величинах, перед нами прогноз первого типа. Так как прогноз этот строился на основе различных приемов анализа внутренних тенденций изменения народного хозяйства СССР, то перед нами прогноз, построенный прямым методом. Насколько оказался он верным? Мы не будем, отвечая на вопрос, рассматривать контрольные цифры в целом. Ограничимся одним фактом: для иллюстрации этого достаточно. «Контрольные цифры» дали особенно смелый и детальный прогноз движения цен. Они предполагали, что за 1925/26 г. оптовый индекс цен сельскохозяйственных товаров снизится на 8 %, промышленных — на 9 и общий индекс — на 8,3 %*.
Индексы оптовых цен Госплана (1913 г. «1.000).
1925 г. | 1926 г. | |||||||
Июль. | Август. | Сентябрь. | Октябрь. | Ноябрь. | Декабрь. | Январь. | Феврал! | |
Индекс сельскохозяйственных товаров | ||||||||
Предположение. | 1.851. | 1.764. | 1.489. | 1.609. | ||||
Фактический. | 1.775. | 1.603. | 1.665. | 1.768. | 1.854. | |||
Процент отклонения предположений от фактического. | +4,3. | + 12,6. | + 0,8. | — 2,7. | — 6,3. | — 10,6. | — ИЗ. | — 13,2. |
Индекс промышленных товаров | ||||||||
Предположения. | 1.883. | 1.837. | 1.809. | 1.778. | 1.768. | 1.763. | 1.751. | 1.744. |
Фактический. | 1.900. | 1.910. | 1.937. | 1.960. | 1.971. | 1.979. | 1.989. | 1.997. |
Процент отклонения предположений от фактического. | — 0,9. | — 3,8. | — 6,6. | — 9,3. | — юз. | — 10,9. | — 12,0. | — 12,7. |
Общий индекс | ||||||||
Предположения. | 1,867. | 1.800. | 1.689. | 1.646. | 1.629. | 1.620. | 1.657. | 1.675. |
Фактический. | 1.837. | 1.730. | 1.740. | 1.753. | 1.778. | 1.816. | 1.875. | 1.924. |
Процент отклонения предположений от фактического. | + 1,6. | + 4,0. | — 2,9. | — 6,1. | — 8,4. | — 10,8. | — 11,6. | — 12,9. |
Мало того, они наметили вероятное помесячное движение цен в 1925/26 г. 1925/26 г. еще не кончился, и мы не можем судить о точности предсказания за год. Но о точности предсказания движения цен за истекшие месяцы мы уже можем судить. Данные таковы[87] (см. табл, на с. 151).
Отсюда ясно, что прогноз цен оказался ошибочным не только в отношении конкретного уровня их, но даже и в отношении их общей тенденции. Причем степень расхождения предсказания и фактического уровня индексов шаг за шагом нарастает.
Могут указать, что построенный прогноз движения цен, как и других элементов, предполагал определенную систему экономических мероприятий, потребных для осуществления тенденций и плановых заданий, лежащих в основе перспективного народнохозяйственного баланса[88]. Могут сказать, что прогноз оказался ошибочным лишь в силу того, что предположенная система мероприятий не проводилась или не проводилась достаточно настойчиво. Во всяком случае, более чем спорно, так ли это и оказался ли бы прогноз верным при условии осуществления предположенных мероприятий. Но допустим, что это так. Что отсюда вытекает? Очевидно только то, что при построении прогноза поведение рационального фактора, роль вмешательства государства учесть оказалось невозможным. Но на влияние этого фактора мы как раз и указывали выше как на причину трудности прогноза первого типа. Подчеркнем, что мы разобрали приведенный случай ошибочного прогноза не для критики «Контрольных цифр» как таковых. Мы разобрали его потому, что этот случай весьма симптоматичен и актуален в наших условиях.
Поскольку у нас идет строительство планового хозяйства, поскольку это строительство предполагает разработку перспективных планов, постольку в наших условиях практика прогноза неизбежно получает очень широкое распространение. Очень часто прогноз этот имеет характер прогноза разбираемого первого типа. В известных пределах это неизбежно. Жизнь не удовлетворяется общими неопределенными характеристиками перспектив и требует определенности. Но переход к этой определенности, локализация перспектив во времени и пространстве и количественная характеристика их как раз и превращают предвидение если не всецело, то в значительной мере в предвидение первого типа. Однако весьма часто это предвидение достигает у нас исключительной, даже чрезмерной смелости. Для успеха строительства планового хозяйства, конечно, не безразлично, верен этот прогноз или нет. Из предыдущего вытекает, что прогноз первого типа на основе прямого метода сопряжен с чрезвычайными трудностями и является наименее точным типом предвидения. Это требует величайшей осторожности как в его построении, так и в практическом использовании.
Однако первый тип предвидения иногда строится на основе другого метода, метода косвенного прогноза. Допустим, что интересующее нас явление иррегулярно, но в его наступлении сомнения нет. И проблема сводится к определению его интенсивности (уровня, размеров и т. п.). Если на основании опыта прошлого установлена достаточно тесная связь этой интенсивности с какими-либо обычно предшествующими событиями и их интенсивностью, тоща мы можем по состоянию этих предшествующих событий или симптомов умозаключить о вероятной интенсивности интересующего нас явления. Таково, например, предсказание уровня урожайности и сбора различных культур по данным о состоянии погоды или по видам на урожай, запасов, по уровню цен на другие товары и т. п.[89] При этом методе нам почти совершенно не приходится апеллировать к внутренним законам развития интересующего нас явления, и точность прогноза определяется степенью точности и строгости связи между интенсивностью предсказываемого явления и симптомами, а также устойчивостью этой связи. Опыт показывает, что такое предсказание может быть достаточно точным[90]. Однако этот метод терпит ряд ограничений. Во-первых, он имеет силу лишь на сравнительно очень короткие сроки, как правило, не превосходящие год; во-вторых, он приложим к ограниченному кругу явлений, а именно тех, для которых можно установить связь с предшествующими симптомами; в-третьих, в самом методе нет гарантий, что связи, на которые он опирается, не изменились и что, следовательно, возможность прогноза не утратилась.
II. Второй тип предвидения состоит в предвидении событий, которые в своем ходе обнаруживают более или менее правильную повторяемость, или цикличность. В данном случае мы не интересуемся иррегулярными чертами явления и в качестве события для предвидения берем лишь ту или другую фазу цикла его изменений, стремясь локализировать ее во времени и пространстве.
Этот тип предвидения в настоящее время нашел наиболее широкое распространение. Он находит свое применение в социально-экономической жизни всюду, где есть цикличность в ходе явлений. К такому предвидению прибегают как в отношении к колебаниям отдельных цикличных элементов хозяйственной жизни, например цен, так и в отношении к колебаниям общего состояния экономической конъюнктуры. При этом нас могут интересовать как сезонные колебания ее, так и колебания конъюнктуры, связанные с ходом промышленно-торговых циклов. Наиболее широкое применение практика этого предвидения нашла в последней области, в особенности в отношении кризисов[91]. Здесь же получила свое значительное развитие и методика его. В настоящее время статистико-экономическая мысль усиленно работает над этой методикой, стремясь построить своего рода экономический барометр, сигнализирующий о предстоящих сменах конъюнктуры[92][93]. При этом предвидение циклически повторяющихся событий может опираться также на один из двух упомянутых выше методов, в зависимости от которых стоит степень его точности. Мы не можем в данной связи входить в детали этих методов применительно к циклическим явлениям. Остановимся лишь на самых существенных чертах их.
Первый метод — это метод прямого предвидения путем построения «кривой предвидения». Примерами его могут служить барометры Бэбсона11, Беннера[94] и отчасти Брукмайра[95] в Соединенных Штатах. Сущность барометра Бэбсона такова. Берутся 12 серий статистических данных, из которых почти каждая является комбинацией нескольких элементарных рядов и которые в совокупности характеризуют динамику всех основных сфер хозяйственной жизни. Из этих серий исключаются сезонные колебания. Полученные данные переводятся в форму индексов с базой на 1903/04 г. и после довольно упрощенного взвешивания сводятся в общий индекс. Индекс наносится на диаграмму. Через полученную кривую его проводится линия, характеризующая направление «нормального развития» страны. Причем исходя из теории, что действие всюду равно противодействию, эта линия нормального развития проводится так, чтобы площади фигур, образуемых благодаря ее пересечению с кривой индекса и расположенных под ней, на протяжении достаточно длительного времени были равны площадям фигур, расположенных над ней (см. чертеж № 1). В итоге получается кривая общего индекса, которая вьется около линии нормального развития и своим ходом отражает основные фазы циклов конъюнктуры. Отлично, но по идее близко построение барометра Беннера.

Чертеж № 1.
Очевидно, что при таком построении барометра, когда ход конъюнктуры характеризуется одной кривой, предвидение возможно лишь в том случае, если установлен точный или хотя бы эмпирический закон движения этой кривой, отражающий ход цикла. По Бэбсону, этот закон сводится к правилу, что действие равно противодействию и что, следовательно, данной интенсивности или длительности подъема соответствует необходимая интенсивность или длительность понижения конъюнктуры. Поэтому при пользовании его барометром необходимо обращать внимание на размеры и форму упомянутых положительных и отрицательных площадей и, привлекая в качестве дополнительного материала некоторые данные, характеризующие конкретную экономическую ситуацию, строить прогноз о вероятном ходе кривой на ближайшее будущее. По Беннеру, упомянутый закон сводится к периодичности хода конъюнктуры, в частности цен.
Барометр Бэбсона, построенный на произвольной и механической гипотезе равенства действия и противодействия, по общему мнению, представляет из себя наименее совершенную младенческую форму его построения[96]. Столь же мало совершенен и более прост барометр Беннера. И можно уверенно сказать, что всякий барометр, представленный одной кривой, пока нам не известен действительный закон развития этой кривой, в сущности бессилен разрешить сколько-нибудь удовлетворительно проблему предвидения. Между тем установление динамических законов развития ряда, как отмечалось выше, представляет из себя труднейшую проблему.
Аругой метод, на основе которого строится предвидение второго типа, является косвенным методом предвидения. Он опирается не на закон развития какого-либо одного ряда, а на закон связи во времени нескольких циклических рядов и по ходу одного или нескольких доступных наблюдению рядов умозаключает о ходе других. По логическому существу этот метод, следовательно, весьма близок к методу предвидения иррегулярных явлений по их симптомам. Однако в том и другом случае приложения косвенного метода имеются и существенные отличия, и притом в самой природе явлений. Так как в данном случае речь идет о циклических рядах, это, говоря принципиально, облегчает предвидение и несколько расширяет его границы во времени. Расширяются ли возможности предвидения фактически — это зависит от того, насколько удачно выбраны нами связанные между собою ряды и насколько точно установлена их связь. В этом отношении с различным успехом делались различные попытки.
Делались попытки установить связь хода конъюнктуры и кризисов с внеэкономическими, в частности космическими, причинами и предвидеть ход конъюнктуры, исходя из ритма этих космических причин[97]. Такова попытка Джевонса связать кризисы с периодическим повторением приблизительно через 10,45 года такого положения Земли относительно Солнца, когда видно наибольшее количество солнечных пятен[98]. Такова попытка Мура связать экономические циклы с 8-летним периодизмом в положении Земли относительно Венеры, когда расстояние между ними оказывается наименьшим[99]. Если бы эти теории были верными, то в силу большой правильности упомянутых космических явлений мы получили бы возможность очень точного предвидения смены фаз циклов на очень большое время вперед. Однако в действительности это не так, и в социально-экономических явлениях нет такой правильности. Период между кризисами колеблется приблизительно от 7 до 11 лет. Отсюда ясно, что прогноз кризисов на базе теории Джевонса или Мура не может претендовать на точность.
Несомненно, более удачными оказываются те попытки предвидения, которые основываются на установлении взаимной связи социально-экономических циклических рядов в их развитии во времени. Попытки в этом направлении делались уже давно. Так, исходя из своей теории кризисов, признавая взаимную связь элементарных циклических рядов, признавая, далее, особенно симптоматическим для хода конъюнктуры движение цен на железо[100], Туган-Барановский пытался по положению конъюнктуры рынка железа и др. симптомам предсказывать ход общей конъюнктуры.
И ему, по-видимому, не менее чем за год удалось предсказать близость русского кризиса 1899 г., германского кризиса 1901 г., американского 1907 г. На 1914;1916 гг. он предсказывал наступление нового кризиса[101].
Принципиально на этот же путь предсказания кризисов по социально-экономическим симптомам встала и специальная комиссия по изучению кризисов при французском министерстве труда. Комиссия выдвинула целую систему показателей конъюнктуры, считая, что некоторые из этих показателей могут предвещать кризис[102]. Конкретные предсказания, однако, не входили в задачу комиссии.
Если Туган-Барановский делал свои предсказания довольно элементарным путем, не пытаясь установить методов более точного определения фазы самого рынка железа и общей конъюнктуры, если попытки значительного уточнения метода мы не находим и у французской комиссии, то, опираясь отчасти на теорию Туган-Барановского, Брезигар попытался уже применить этот метод прогноза более точно. Беря эмпирические данные о продукции чугуна, о ценах на железо, о состоянии денежного рынка и др., он находит плавный уровень этих кривых. Так как накануне кризисов за год-два начинается особенно сильный рост продукции железа и цен на него и рост процента на капитал, то в это время соответствующие эмпирические кривые резко превышают плавный уровень. По признаку превышения эмпирическими кривыми плавного уровня Брезигар определял фазу конъюнктуры и отсюда пытался предсказать кризисы, например кризис около 1913;1914 гг.[103] Мы знаем, что признаки этого кризиса в конце 1913 г. действительно обнаружились, но кризис не развернулся в силу наступившей войны.
Однако наиболее совершенную попытку разрешения проблемы предвидения фаз цикла представляет из себя, несомненно, позднейшая попытка Гарвардского экономического бюро при ближайшем руководстве проф. Персонса[104]. Гарвардское бюро тщательно проделало исключительно большую работу в целях практического разрешения проблемы предвидения фаз цикла. Не останавливаясь на деталях этой работы, отметим ее сущность[105]. Для периода 1902 ;

Чертеж № 2.
1914 гг., а затем и для периода с 1919 г. были взяты многочисленные помесячные статистические ряды, охватывающие экономическую динамику Соединенных Штатов со всех важнейших сторон. Из этих рядов были исключены вековое движение (как правило) и сезонные колебания (всегда). Затем были тщательно определены при помощи как метода наложения, так и приемов математической статистики степень связи полученных кривых и соотношение во времени между фазами их циклического колебания. На основании этой работы были отобраны наиболее чувствительные ряды, которые были сведены в три сложные кривые: кривую спекуляции (А)у отражающую положение дел на бирже ценных бумаг, кривую деловых обстоятельств (В), отражающую положение на товарном рынке, и кривую ©, отражающую положение на денежном рынке (см. чертежи № 2 и 3). В относительном движении этих трех кривых была обнаружена следующая правильность: перелом в циклическом движении кривой Л на несколько месяцев (6−9) упреждает перелом движения в том же направлении кривой В, а перелом движения последней на несколько (2−8) месяцев упреждает перелом движения в М — направление; К — кризис;
Д — депрессия;
О — оживление;
Р — расцвет том же направлении кривой С. Иначе говоря, между однозначными фазами этих трех кривых существует определенная временная последовательность. Гарвардское бюро не устанавливает никакого закона внутреннего развития той или иной кривой. Оно не пользуется ни предпосылкой строгой периодичности их движения, ни принципом равенства действия и противодействия[106]. Равным образом оно не реализует случайных колебаний кривых. Оно опирается на факт цикличности кривых и предлагает обращать внимание исключительно на основное направление движения кривых в данный момент, на направление их движения в предшествующий период и на размах их колебаний. Отсюда ясно, что в основу предвидения гарвардский барометр кладет констатированную правильность, во-первых, в цикличности кривых, во-вторых, в запаздывании однозначных фаз цикла этих кривых.

Чертеж № 3.
Насколько удовлетворительно предсказывает гарвардский барометр, видно отчасти из того, что он задним числом достаточно точно сигнализирует (по ходу кривой А) о близости кризиса 1903 г., кризиса 1907 г., кризиса 1913 г., а также из того, что Гарвардское бюро, опираясь на свою систему барометрических кривых и одновременный анализ других вспомогательных данных, предсказало кризис 1920 г. и достаточно точно отмечало важнейшие фазы американской конъюнктуры после этого кризиса[107].
Опыт Гарвардского бюро вызвал волну подражаний. С теми или иными модификациями под его влиянием, а частью независимо аналогичные барометры построены для Англии, Германии, Франции, Италии, Швеции, Канады[108].
Преимущества только что описанного метода построения прогноза второго типа очевидны так же, как и серьезность и тщательность работы Гарвардского бюро. Однако столь же очевидны и условия, ограничивающие значение барометра такого типа. Во-первых, даже в лучшем случае такой барометр имеет силу лишь для предсказания ближайшей фазы цикла не более чем за 9−12 месяцев. Во-вторых, он не в состоянии точно указать, коща наступит перелом в кривой В, если наступил перелом в кривой Л, и в кривой С, если наступил перелом в кривой В. Он указывает лишь приблизительные границы времени таких переломов. В-третьих, так как он опирается на чисто статистическую, т. е. эмпирическую, закономе^ ность связи в движении кривых, то при отсутствии более или менее исчерпывающего экономического каузального объяснения этой связи мы не в состоянии определить, насколько эта связь постоянна[109]. При таких условиях мы очень легко можем не доучесть таких изменений в самой действительности, которые изменят эту связь и сделают показания барометра ошибочными. Наконец, и в связи с этим этот барометр без всяких изменений в нем неприменим к условиям, где сильна роль регулирующего начала, например у нас.
III. Разобранными двумя типами предвидения вопрос не исчерпывается. Если при обоих этих типах событием для предвидения является то или иное иррегулярное или регулярное, но конкретное явление, взятое в той или иной степени полноты, с локализацией его во времени и пространстве или с определением интенсивности его проявления, то третий тип предвидения состоит в предвидении развития тех или иных общих тенденций, например тенденции хозяйственного роста или упадка той или другой страны, той или другой отрасли хозяйства, общих тенденций движения цен, движения различных категорий дохода, тенденций в изменении организационной структуры хозяйства, тенденций назревания революционных движений, международных осложнений и т. д. В случае прогноза этого типа мы не предсказываем какого-либо конкретного события.
(простого или сложного), локализованного в пространстве и времени и наделенного определенной интенсивностью. Здесь мы заранее знаем, что конкретные события будут отклоняться от предположений. Нас интересует здесь общий закономерный уклон развертывающегося ряда или рядов этих событий. Выражаясь статистическим языком, нас интересует направление изменения плавного уровня ряда или рядов, с которыми не совпадают и около которого колеблются отдельные конкретные события.
Этот тип предвидения, не локализуя предсказываемых тенденций в определенном времени, тем не менее по самому существу рассчитан на более или менее длительное время, достаточное, чтобы за чредой сменяющихся событий успели выявиться эти общие тенденции. Он лишен достаточной конкретности и благодаря проистекающей отсюда бедности содержания часто не может удовлетворять очень настоятельных запросов практики. Но это не значит, что он вообще лишен практического значения: знание общих тенденций развития несомненно служит одним из необходимых оснований успеха наших практических действий. К этому типу предвидения обращаются довольно часто. Причем и здесь оно строится в сущности или прямым, или косвенным методом. В первом случае предвидение будущих тенденций ряда или рядов основывается на установленной закономерности развития этих рядов как таковых. Во втором случае прогноз опирается на констатирование факта определенных тенденций других рядов, связанных с первым и могущих служить если не причиной, то симптомом развития соответствующих тенденций в этих первых интересующих нас рядах. Однако в силу того, что в данном случае речь идет лишь относительно общих тенденций, выявляющихся в течение более или менее длительного времени, указанное различие методов не оказывает здесь столь заметного влияния на точность предвидения. Успех предвидения третьего типа гораздо ближе зависит от количества и характера установленных динамических закономерностей и устойчивости общих условий их проявления. Если налицо имеется достаточное количество каузально истолкованных или даже эмпирических законов, в частности законов развития, то они могут при внимательном анализе условий их проявления служить основанием для достаточно верного предвидения тех или иных общих тенденций.
Вот почему мы знаем целый ряд исторических примеров в общем удачного прогноза этого типа. Однако имеют место и обратные случаи, и они не менее многочисленны2®. Отметим для иллюстрации несколько исторических примеров.
К числу примеров несомненно удачного прогноза нужно отнести то представление о перспективах развития капитализма, которое вытекало из теории развития Маркса и намечало нарастание[110]
общих тенденций концентрации капиталистического производства, повышения органического строения капитала и др.
Далее. В 80-х и 90-х годах прошлого века в русской социальноэкономической литературе шел спор о возможности развития капитализма в России. Из двух основных споривших лагерей марксисты предсказывали рост капитализма[111], а народники, опираясь на ошибочную теорию рынков Сисмонди, отрицали это[112]. Жизнь показала, что прогноз первых был верен, а вторых — ошибочен.
В иной обстановке до известной степени аналогичный спор о вероятных тенденциях хозяйственного развития в середине прошлого века имел место в Германии. Фр. Лист, в 30-х и 40-х годах ратовавший за экономическое объединение германских государств и за переход Германии к системе покровительственных тарифов, предсказывал, что при этой системе политики можно ожидать блестящего развития германской промышленности и всего ее народного хозяйства[113]. В противовес Листу Фр. Энгельс, который еще только начинал свою научно-литературную деятельность и не был марксистом, в 1845 г. в Эльберфельде произнес речь, в которой рисовал иную перспективу. Допуская, что под влиянием протекционизма промышленность подымается, он полагал, что этот подъем продолжится лишь до того времени, пока он не исчерпает емкости внутреннего рынка. «Дальше, — говорил Энгельс, — она не сможет расшириться, ибо, не будучи в силах без таможенной охраны отстаивать за собой внутренний рынок, она еще менее будет способна бороться с иностранной конкуренцией на рынках нейтральных». Жизнь показала, что в данном случае прогноз Листа был верен, а Энгельс, подобно нашим народникам, ошибался.
Отметим еще некоторые примеры. Известный французский общественный деятель 1848 г. Ледрю-Роллен, находясь в изгнании в Англии, в специальной работе, вышедшей в 1850 г., предсказывал ближайший экономический упадок Англии[114]. Не менее известный экономист Бруно Гильдебранд в работе, появившейся в 1848 г.[115], предсказывал, что еще в течение XIX столетия в ходе развития Англии проявится тенденция возврата части пролетариата, бросившего землю, снова к земледелию, в силу чего городское и сельское население Англии вновь сравняются и роль сельского хозяйства повысится. Мы знаем, что тот и другой прогноз оказались ошибочными.
Сначала в речи в 1898 г., а затем в 1899 г. в специальной работе Вильям Крукс предсказал нарастание угрозы надвигающегося дефицита в мировом снабжении пшеницей (примерно к 1931 г.), если более или менее радикально не изменится система земледелия[116]. Крукс рассматривал свое заявление как предостережение, но оно опиралось на предвидение. Можно уверенно сказать, что и этот прогноз оказался ошибочным.
Наоборот, верным оказался прогноз американского экономиста Брукс-Адамса, который в 1901 г. выставил положение, что экономический центр мира переместился из Европы в Соединенные Штаты, и, опираясь на своеобразную теорию, предсказывал тенденцию дальнейшего быстрого роста удельного веса Соединенных Штатов в мировом хозяйстве, а также рост экономической зависимости всех народов от этой Новой Державы. «Весь мир, — писал Брукс-Адамс, — будет платить им дань»[117][118].
Можно не умножать числа примеров[117]. Приведенные выше достаточно иллюстрируют сущность третьего типа предвидения. Приведенные случаи показывают, что третий тип предвидения действительно имеет в виду в качестве события для предсказания развитие той или иной общей тенденции. Конечно, и это предсказание может быть более или менее конкретным. Но ясно, что чем более конкретным оно становится, тем сильнее приближается оно к первому типу прогноза.
Хотя случаи неудачного прогноза третьего типа и многочисленны, тем не менее очевидно, что вполне возможен и верный прогноз тенденций. Это положение имеет весьма большое значение для построения наших перспективных планов. В этих планах предвидение общих тенденций развития неизбежно занимает очень видное место. Правда, вынужденные в силу запросов практики конкретизировать эти тенденции, количественно выражать их и локализировать во времени, мы приближаем второй тип предвидения к первому, чем значительно понижаем его достоверность. Однако даже и при малой достоверности конкретного выражения предсказываемых общих тенденций верное предсказание самых тенденций не теряет своего значения.
Заканчивая вопрос о типах предвидения, отметим еще следующее. Прогноз любого из разобранных типов может различаться по форме выражения. Он выражается или в безусловной форме, или в условной. Во втором случае он имеет такой вид: событие или события А, В, С наступят (или не наступят), если произойдет (или не произойдет) событие (или события) X, Y, Z. Устойчивая форма прогноза, конечно, всегда снимает известную долю ответственности с того, кто решается на предвидение. Однако по своей логической сущности условный прогноз не заключает в себе ничего нового по сравнению с прогнозом в безусловной форме. Больше того. Условный прогноз всегда представляет из себя как бы не законченную, не развившуюся форму прогноза безусловного. В самом деле, если мы предсказываем событие А, В, С, но обусловливаем его наступлением события X, У, Z, не решая вопроса, наступит ли это событие X, Y, Z, то это значит, что мы не высказываем определенного прогноза и относительно события А, В, С. И в тот момент, когда мы выскажем определенное мнение относительно события X, Y, Z, наш прогноз относительно события А, В, С превращается в безусловный. Таким образом, условный прогноз есть скорее более осторожная форма выражения прогноза, чем новый вид прогноза по существу. Отсюда ясно, что вопрос о выборе той или иной формы выражения прогноза есть вопрос конкретного факта, вопрос соотношения трудности данного случая предвидения, с одной стороны, и наличного запаса нашего знания и совершенства имеющихся у нас методов его построения — с другой.
В своем изложении мы стремились дать ответы на те общие и основные вопросы, к которым сводится проблема предвидения. Установив значение предвидения, мы попытались вскрыть его логическую сущность. Выяснив сущность предвидения, мы определили его место в системе нашего знания. При этом обнаруживалось, что значительные области нашего знания о прошлом по своей структуре имеют внутреннее родство с прогнозом. Далее, мы проанализировали те объективные и познавательные предпосылки, на которые опирается предвидение. Отметив практически определяющее значение для возможностей прогноза познавательных предпосылок, мы пытались выяснить, в какой мере эти предпосылки имеют место при современном уровне знания и современных методах исследования, а также те особые условия, которые сужают или расширяют возможности прогноза. В ходе всего этого анализа мы стремились определить пределы возможного предвидения. Пределы эти оказались ограниченными и в то же время различными в различных областях знания. Они шире в областях, опирающихся на данные точного естествознания. Здесь часто имеются возможности предвидения событий с достаточно точной локализацией их во времени, пространстве и с указанием их интенсивности. Одновременно здесь имеются возможности определения степени вероятной ошибки. Они значительно уже в таких отраслях естествознания, как метеорология и т. п.
Предвидение возможно и в социально-экономических науках, однако границы его также значительно уже и степень достоверности его значительно ниже, чем в области точного естествознания. Здесь имеются возможности предвидения событий лишь с приблизительной локализацией их во времени и в пространстве, с приблизительной характеристикой их интенсивности, лишь на весьма близкое время вперед и очень часто без возможности определить степень вероятной ошибки. На более или менее длительное время здесь мы можем предвидеть лишь общие тенденции развития.
Отсюда мы пришли к необходимости выделения трех основных типов предвидения и их разновидностей. Анализ типов предвидения позволяет подчеркнуть, что для практики построения прогноза, особенно в социально-экономической жизни, в интересах возможного освобождения от иллюзий и разочарований чрезвычайно важно в каждом случае отдавать себе точный отчет, о каком виде предвидения идет речь, что он может дать и чего дать не может, какие задачи в области прогноза данного типа разрешимы и какие нет, какую формулу выражения ему можно придать и какую придать нельзя.
Предвидение в социально-экономической жизни возможно, хотя пределы его весьма ограниченны. Однако все предыдущее изложение достаточно ясно говорит за то, что пределы эти не представляются чем-то застывшим: они расширяются по мере роста научного знания. И если верно, что предвидение имеет столь важное социально-практическое значение, если верно, что в силу самого хода общественного развития, с небывалой остротой выдвигающего проблему организованного управления стихийными силами жизни, предвидение становится все более необходимым условием такого управления, то вместе с тем все более настоятельной становится и задача максимального расширения его возможных пределов. «Sience, d’oii prevoyance; prevoyance, d’oii action» — эта знаменитая формула Конта, провозглашенная им сто лет тому назад, сохраняет всю свою силу теперь, как никогда.
Печатается по: Вопросы конъюнктуры. Т.2. Вып. I. М., 1926. С. 1−42.
Часть первая. ОБЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВО.
Глава /. СОВОКУПНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ Схема.
Глава 1. Совокупность и общество.
- 1. Многообразие мира и задача его познания. Отношения и вещи. Относительность того и другого. Необходимость вещей. Дифференцирование области бытия и области познания. Конт. Позднейшие исправления. Raison d’etre отдельных наук. Общество как особая область бытия. Гумплович. Социология и социальные науки.
- 2. Общество есть совокупность. И все науки в конечном счете имеют дело с совокупностями. Доказательство. Строение мира. Необходимость исследования совокупности. Общее понятие совокупности. Множество и совокупность. Количественный] момент. Родовое понятие и совокупность. Совокупность объемл[ющая] обьемл (емая). Аналогия с объемом и содержанием понятия.
- 3. Связь. Реальные и мнимые совокупности. Рюмелин. Кстлс. Knapp. Rcinisch. Чупров. Кистяковский. Критерий разграничения. Связь вообще и связь в данном отношении. Объемлющие и объемлемые. Объект и метод.
- 4. Дискретные и конкретные совокупности. Наглядные представления и аналогия. Предметы и совокупности. Предмет как частный случай совокупности.
- 5. Совокупность, целое и, а морфия. Критерий. Примеры. Целое-система и целоеединство.
- 6. Элементы, слагающие совокупность, и ее природа. Первоначальная совокупность как наиболее объемлющая.
Строение мира. Пространственно-временные категории в применении к совокупности.
- 7. Общество как совокупность.
- 8.
Непосредственной задачей науки как таковой служит задача познания мира. Причем по самому существу своему наука рассматривает свой объект познания, или мир, как объективно данную ей действительность, то есть стоит на реалистической точке зрения*. Реализм научной точки зрения на объект познания нередко и особенно в начальных фазах развития науки является даже реализмом наивным. История развития науки показывает, что с течением времени наивность реализма научной точки зрения ослабевает и отпадает, однако самый реализм ее устойчиво сохраняется*.[120]
В конкретном своем виде объективная действительность бесконечно изменчива и многообразна*. Однако явления действительности обладают не только различными, но в той или иной мере тождественными свойствами. Процесс научного познания в первую очередь и состоит в дифференцировании объективной действительности, в сравнении явлений между собой, в установлении их тождественных и различных свойств, в классификации явлений и образовании научных понятий, адекватных установленным классам явлений. Эти классы явлений имеют различную широту, начиная от наиболее узких вплоть до наиболее широких и объемлющих*. Причем, если в понятиях одни классы явлений всегда строго отграничены от других, то в действительности дело обстоит иначе. Отдельные классы явлений находятся в различной степени близости к другим, и степень этой близости их бесконечно варьирует. И во всяком случае сопредельные классы явлений не имеют строгих разграничительных линий между собой. Переход от явлений одних классов к явлениям других совершается здесь путем постепенного и часто неуловимого нарастания тех или иных свойств*. Поэтому в действительности различия в свойствах сопредельных классов мы с ясностью видим лишь тогда, когда берем явления этих классов в наиболее законченном и определившемся виде.
При современном своем состоянии наука различает следующие пять наиболее широких и общих классов явлений действительности: мир величин, мир физико-химических явлений, явления органической, психической и социальной жизни*. Каждый из этих общих классов разлагается, далее, в свою очередь и последовательно на разветвляющуюся систему постепенно сужающихся более частных и специальных классов и подклассов. Но все же каждый из них объединяет в себе группу явлений, обладающих определенными признаками, которые сближают явления данного класса между собой, сообщают в силу этого данному классу известную внутреннюю однородность и вместе с тем отличают его от всех других классов.
Явления этих классов не существуют в действительности совершенно раздельно и независимо. Наоборот, они связаны между собой. Границы между примыкающими друг к другу классами, как правило, весьма неясные: так, например, неясны границы между физико-химическими явлениями и явлениями органической жизни, между последними явлениями и явлениями психической жизни*. Явления одних классов зависят, далее, от явлений других классов. Причем степень зависимости нарастает по мере перехода от мира физико-химических явлений к явлениям социальным.
Такое нарастание зависимости обусловлено тем, что каждый предыдущий член ряда указанных выше классов характеризуется большей простотой, большей общностью и более широким распространением.
Но каковы бы ни были связи явлений различных классов, явления каждого из них обладают своими общими специфическими свойствами, и притом свойствами, которые не сводятся к свойствам явлений других классов и, во всяком случае, не сведены до сих пор. Иначе говоря, явления каждого из указанных классов обладают качественным своеобразием.
Наличие у каждого класса явлений своих общих, специфических и несводимых признаков делает их явлениями sui generis, делает объектом изучения особой науки или, точнее, группы наук. Поскольку явления каждого класса обладают свойствами, общими всем этим явлениям, они служат объектом изучения общей науки, исследующей данный класс явлений. Поскольку же, далее, внутри каждого класса выделяются свои подклассы и каждый из них может при этом изучаться с различных точек зрения, постольку каждый класс служит объектом изучения специальных наук. В соответствии с этим мы имеем группы наук математических, физикохимических, биологических, психологических и социальных*.
Ввиду специфического характера изучаемых ими объектов каждая из этих групп наук работает в той или иной мере своими методами, образует свои понятия, свои классификации, устанавливает свои закономерности. И поскольку это так, поскольку изучаемые той или иной отдельной группой наук явления специфичны и не сведены к явлениям других классов, явлений, данная группа наук, очевидно, имеет бесспорное право на самостоятельное существование, так как их понятия и установленные ими законы не могут быть выражены в понятиях и законах каких-либо других наук. Нужно заметить, однако, что даже и сведение явлений данного класса (скажем, класса А) к свойствам явлений другого или других классов явлений (скажем, В, С…) не лишило бы специальные науки, посвященные классу А, всякого смысла и не доказало бы полной ошибочности выводов и законов этих наук. Оно открывало бы лишь возможность двоякого способа изображения и интеграции свойств и закономерностей явлений класса А: во-первых, в терминах, специальных наук, посвященных этому классу, во-вторых, в терминах наук, посвященных классам В, С… Второй способ был бы более общим и в этом смысле более совершенным, в то время как первый способ был бы более конкретным и более наглядным*.
Итак, сложный характер объективной действительности и разложение ее на определенные внутренне однородные классы явлений служит отправным (но как мы увидим ниже, не единственным и не исчерпывающим) основанием для классификации наук, и в частности для разделения их на основные группы. Нужно, однако, в полной мере подчеркнуть, что такое распределение наук по группам не означает их полной независимости и оторванности друг от друга. Различные категории явлений мира, который изучается науками, как мы отмечали, связаны друге другом и находятся между собой в зависимости. Эта связанность всех категорий и классов явлений свидетельствует о единстве и целостности мира. И поскольку это так, постольку и различные группы наук, изучающих различные категории явлений, не могут не иметь внутренней связи между собой и не зависеть друг от друга. Внутреннее единство мира служит конечным и глубочайшим основанием и для внутреннего единства научного знания о мире. Полное осознание этого положения методологически приводит к принципу единства знания, т. е. к требованию внутреннего соответствия и непротиворечивости всех наук'. И этот принцип принимается современной теорией знания и методологией в качестве первого и одного из основных критериев истинности научного знания'.
Выше мы указали, что мир социальных явлений представляет собой один из основных общих и специфических классов явлений действительности. Однако простое указание это само по себе еще совершенно не дает представления о том, каковы же характерные специфические черты социальных явлений, выделяющие их из совокупности всех других явлений. Иначе говоря, указание это еще не определяет понятия общества и общественных явлений. Построение такого определения и является нашей ближайшей задачей.
К настоящему времени в общественных науках, и прежде всего в наиболее общей из них — общей теории социальных явлений, или в социологии, имеется очень большое число попыток дать определение общества и общественных явлений и тем выявить их специфические особенности*. И если возникает вновь и вновь потребность останавливаться на вопросе о самом понятии общества и общественных явлений, то это значит, что достаточно общепризнанного и удовлетворяющего понятия о них общественные науки, и в частности социология, еще не имеют. Такое положение свидетельствует не только о трудности задачи, но и об относительно низком уровне развития общественных наук. Вместе с тем обилие уже существующих попыток дать удовлетворяющее определение общества и общественных явлений делает эту задачу мало обещающей и мало привлекательной, так как трудно освободиться от сознания, что работа в этом направлении может кончиться простым увеличением числа уже существующих и недостаточно удовлетворяющих попыток.
И тем не менее интересы дальнейшего исследования все же требуют преодоления этих опасений и того или иного, но определенного разрешения задачи. Совершенно бесспорно, что если исследование по самому существу своему имеет дело с известной, основной категорией явлений, то оно нуждается в достаточно мотивированном и определенном понятии о природе этой категории явлений. Оно необходимо уже для того, чтобы сделать ясной и недвусмысленной на протяжении исследования позицию автора, и именно в силу многообразия существующих попыток дать определение общества и общественных явлений эту потребность игнорировать нельзя. Но дело, разумеется, не только и даже не столько в этой потребности: достаточно мотивированное и определенное понятие здесь, как и всегда в подобных случаях, способствует выбору правильных методов исследования и получению в результате его научно ценных положительных выводов.
Основная трудность определения всякого сколько-нибудь общего понятия, как и понятия общества, состоит в том, что на первый взгляд разрешение этой задачи наталкивается на явный круг, для того чтобы дать определение понятия, необходимо получить соответствующие знания относительно данной категории явлений, а для того чтобы получить соответствующие знания о данной категории, явлении, необходимо иметь достаточно обоснованное и отвечающее действительности понятие о них. В действительности этот круг, как и многие подобные ему, является кажущимся. Он был бы подлинным кругом лишь в том случае, если бы сумма наших знаний о той или иной категории явлений и понятие о них были бы неизменными и не подвержены развитию. Но это не так: как понятия о явлениях, так и общая сумма знаний о них находятся в процессе непрерывного развития. Необходимо различать прелиминарные и окончательные понятия о явлениях*. Мы никогда не имеем окончательного, адекватно точного понятия о явлениях. Такое понятие выступает перед научным (мышлением) лишь как предельно идеальное состояние в развитии понятия. То, с чем реально наука имеет дело, это понятия прелиминарные. И они изменяются, совершенствуются, приближаются к окончательному предельно точному состоянию их. Эта эволюция понятий и переход их из одной фазы точности к другой совершаются вместе и в меру развития положительного знания о данной и о других категориях явлений. И, наоборот, развитие знания о явлениях продвигается вперед вместе и в меру того, как уточняются понятия об этих явлениях. Когда начинается исследование какой-либо категории явлений, мы всегда имеем пусть смутное, не точное, но все же какое-то предварительное понятие о них. Это понятие соответствует наличному, пусть весьма бедному и в значительной мере ошибочному, но все же знанию о данных явлениях. Наше предварительное понятие о них как бы конденсирует в себе основные итоги этого начального знания, полученного из опыта, независимо от того, в чем состоит этот опыт: в практике, в развитии смежных отраслей знания или в чем другом. И это предварительное понятие, как и вся совокупность полученных знаний, ориентирует наше дальнейшее исследование данных явлений. Оно способствует выбору надлежащих методов и получению новых, более богатых научных результатов. Но вместе с таким расширением знаний о явлениях эволюционирует, уточняется, совершенствуется наше первоначальное понятие. Оно вступает в новую фазу своего развития, хотя и остается в указанном выше смысле все же прелиминарным. В дальнейшем совершается в том же порядке новый цикл восхождения общего запаса знаний о явлениях и понятие о них на следующую, более высокую ступень.
Т[аким] о[браэом), в каждый данный момент интересующее нас понятие может конденсировать в себе результаты накопленного знания, имеющего отношение к данной категории явлений. Возможная степень точности и обоснованности понятия измеряется уровнем развития уже добытого знания. С другой стороны, интересы дальнейшего развития науки требуют, чтобы образуемые нами понятия, с которыми мы приступаем к дальнейшему исследованию, максимально строго отвечали уже достигнутому уровню научного знания.
Полученные выводы из анализа о трудностях и путях образования научных понятий мы должны иметь в виду и при определении понятия общества и общественных явлений. Совершенно очевидно, что при определении этого понятия мы не должны идти путем спекулятивно умозрительным. Как бы ни был низок уровень развития социологии и отдельных специальных общественных наук, но их существование есть объективный факт. Как бы ни были спорны словесные определения общества и общественных явлений, даваемые отдельными авторами, но социальные науки имеют определенное объективное содержание и последнее прямо, открыто или косвенно и неосознанно предполагает известное понятие общества и общественных явлений. Очевидно поэтому, что определение понятия общества и общественных явлений должно быть ориентировано прежде всего на фактическое содержание общественных наук, то есть социологии, экономики, теории права, теории религии, истории и т. д. При этом, разумеется, должны быть учтены и имеющиеся многочисленные специальные интерпретации и определения понятия общества и общественных явлений, так как эти определения, хотя в различных случаях в различной степени и с различным успехом, но все же неизбежно и уже в готовом виде конденсируют в себе и накопленный опыт общественных наук. Наконец, поскольку, как было отмечено уже и выше, социальные науки связаны с другими науками и образуют вместе с ними единство, при образовании интересующего нас понятия мы должны также по возможности учесть и выводы других наук.
Мы уже выяснили, что понятия, образуемые любой данной наукой, если брать ее как таковую, как продукт коллективного опыта, в каждый данный период имеют прелиминарный, незаконченный характер. Поэтому они всегда содержат в себе элемент гипотетического, подлежащего дальнейшему выяснению, проверке и уточнению. Эго положение с известной модификацией можно применить и к отдельному, индивидуальному исследованию. Когда исследователь еще только приступает к исследованию, он, конечно, имеет для себя известное гипотетическое представление о понятиях, которыми он будет пользоваться и которые, по его мнению, являются научно наиболее правильными. В процессе исследования он проверяет это свое гипотетическое представление о понятиях, уточняет и совершенствует его. И фактически только в конце исследования он получает то определение общих понятий, с которым он считает возможным выступить открыто, предложить его как элемент, подлежащий включению в науку. С такой точки зрения индивидуальный исследователь должен был бы, следуя за процессом исследования, давать определение общих понятий, которыми он пользуется, лишь в конце исследования. Однако если не всегда, то, как правило, процесс изложения не следует за процессом исследования и с систематической точки зрения в большинстве случаев оказывается более целесообразным формулировать общие определения основных понятий и дать их интерпретацию в начале исследования'. Так мы поступаем и в данном случае с понятием общества и общественных явлений.
Если учесть итоги развития основных групп наук, упомянутых выше, и вдуматься в общую природу объекта, изучаемого каждой из них, то нужно сказать, что объект этот во всех случаях представляет собой прежде всего совокупность определенных элементов1. В силу этого особенности отдельных наук, своеобразие применяемых ими методов, устанавливаемых связей и закономерностей объясняются в первую очередь своеобразием тех совокупностей, которые составляют объект их исследования. Общество равным образом является своеобразной совокупностью. И для того чтобы уяснить себе ее своеобразие и тем самым подойти к установлению понятия общества и общественных явлений, мы должны остановиться прежде всего на вопросе о совокупности.
Под совокупностью в самом общем и широком смысле слова мы понимаем большое число тех или иных элементов. Из приведенного определения видно, что одним из признаков совокупности мы принимаем количественный признак — большое число. На первый взгляд может показаться, что такой путь определения понятия неудовлетворителен. Логика, как известно, не рекомендует пользоваться для определения понятий количественными признаками, так как они при отсутствии более точной фиксации их вносят неясность в самые понятия'. Однако в данном случае такое опасение не имеет под собой почвы. Мы пользуемся здесь термином «большое число» принципиально в том техническом смысле, в каком он употребляется теорией вероятности и теоретической статистикой. Как будет выяснено ниже, употребляемый в этом смысле термин «большое число» имеет достаточно определенное значение и глубокий гносеологический и методологический смысл. Этот термин говорит не о каком-то определенном большом числе, которое нужно еще фиксировать, а о строении объекта знания, о строении, при котором в силу сочетания достаточно большого числа элементов и событий последние утрачивают свой случайно-хаотический характер и в среднем обнаруживают закономерные тенденции своего хода. Фактически же число этих элементов и событий, как правило, оказывается почти всегда достаточно большим, хотя в различных случаях и в различной мере.
Исходя из приведенного определения совокупности легко видеть, что действительно объект всех основных групп наук по существу является прежде всего совокупностью и что, следовательно, категория совокупности выступает в качестве одной из самых центральных категорий.
Так, известно, что с точки зрения физики и атомистической теории весь материальный мир по существу является грандиозной совокупностью атомов, вступающих между собой в многообразные связи и комбинации*. Долгое время атом считался последним неделимым элементом, совокупность которых и составляет Вселенную со всеми ее цветами, красками и т. д. Однако новейшая физическая теория в результате успехов своего развития отказалась от этой точки зрения. Оказалось, что каждый атом вовсе не является последним неделимым элементом, а в свою очередь представляет собою целый микрокосм, состоящий из совокупности элементов, которые обладают электрическим зарядом различных знаков*. Однако на этом процесс анализа микрокосма, по-видимому, не остановился. За самое последнее время была развита волновая теория материи, согласно которой элементы в свою очередь представляют собой сложную совокупность еще более микроскопических элементов*. К сказанному нужно заметить, что электронная теория, разумеется, не опровергла, а лишь уточнила, расширила и углубила то представление о мире, которое опиралось на атомистическую теорию. Закономерности, установленные на основе последней, в основе сохраняют свою силу. Но принципиально они могут теперь выражаться или в терминах атомистической теории, или в более общих терминах и формулах электронной теории*. То же нужно сказать о взаимоотношении электронной и волновой теории.
Если теперь от указанных сфер реальности перейти к иным более сложным сферам, то мы можем сказать следующее. Совокупность специфических видов атомов и молекул и своеобразная, пока еще неразгаданная связь их между собой дают простейшее живое существо — клетку. Совокупность клеток является основой организма. Совокупность и взаимодействие специфических клеток, составляющих мозговую и нервную систему организма, пока также невыясненными путями служит основой мира психических явлений. Продолжая этот анализ, можно наконец сказать, что общество в самом широком смысле представляет собой совокупность организмов, и в частности человеческое общество — совокупность людей.
Исходя из сказанною, структуру реального мира можно представить себе в следующем схематическом виде:
Порядок элементов. | Наименование элементов. | Наименование совокупности этих элементов. | Порядок совокупности. | Сфер*. явлений. |
1-Й. | Мир электронов. | М икрокос мические физикохимические явления. | ||
2-й. | Электрон. | Мир атомно-молекулярн[ый]. | Макрокосмические физик охимич[ескис] явления. | |
3-й. | Атомы и моле; | Внешний мир | ||
3-й (а). | кулы ирпридм Специфические] Простейшее атомы и моживое сущелекГулы] ство. | Органические явления. | ||
4-й. | Клетки. | Живой организм. | 4?> | |
4-й (а). | Специф (ическис] Мир нервно-псиклстки в оргахических явнизме лений. | Психические явления. | ||
5-й. | Орга нич[ес кие] существа. | Общество в широк[ом] смысле. | Мир общественных явлении. | |
5-й (а). | Растения. | Растительные сообщества. | 6(a). | |
5-й (в) 5-й (в1). | Животные. | Животные сообщества. | 6 (в) Мир общественно-человеческих «явлений. | |
Человек. | Общество в узкой смысле. | 6 (в1). | ||
Отсюда видно, что выделенные совокупности не лишены внутренней связи или известной преемственности друг в отношении друга. Легко заметить, что одни более общие и широкие совокупности, слагающиеся из определенных элементов, или точнее, некоторые части этих совокупностей выступают в качестве элементов совокупностей следующего порядка. Поэтому мы не знаем элементов, слагающих совокупности, которые в свою очередь не были бы совокупностями. Исключение, по крайней мере на данном уровне знаний, составляют простейшие, не разложенные элементы, слагающие электроны. Вместе с тем мы не знаем совокупностей, которые в свою очередь не служили бы элементами иных совокупностей более высокого порядка и соответственно более сложного строения. Исключение в этом отношении составляет общество, и в частности человеческое общество, которое замыкает собой сверху ряд последовательных элементов — совокупностей.
Таким образом, общество, и в частности человеческое общество, стоит как бы на вершине все усложняющегося переплетения слагающих сил мироздания, уходя корнями своими в его глубины. Однако предыдущее изложение лишь самым суммарным образом намечает место общества в системе мироздания. Для того чтобы стало яснее само предыдущее изложение, а также чтобы получить больше оснований для выявления специфических особенностей общества, нам необходимо остановиться несколько подробнее на вопросе о структуре и многообразии совокупностей, с которыми приходится иметь дело науке.
Прежде всего необходимо установить разграничение между первичной, первообразной, и вторичной, или производной, совокупностью. Если мы берем, например, совокупности атомов-молекул, то в качестве таковой мы можем рассматривать весь неорганический макрокосм. Как таковой, он вводит нас в новую сферу мироздания, отличную от атомов и молекул, взятых в отдельности. Однако совокупностью атомов и молекул будет и любой отрезок, любая часть внешней природы, например Млечный Путь, та или иная масса газа, жидкости и т. д. Каждая из последних совокупностей будет, разумеется, отлична от составляющих ее атомов-молекул, и в этом отношении она будет характеризоваться теми же свойствами, что и внешняя природа в целом. Но в то же время каждая из них составляет лишь часть неорганического макрокосма и обладает в той или иной мере отличительными чертами. Равным образом, беря совокупность клеток, мы можем рассматривать в качестве таковой организм в целом. Но отдельный орган организма, составляющий часть последнего, есть тоже совокупность клеток, и мы можем рассматривать ее в известных, в различных случаях и в различных пределах как таковую. В тех случаях, ковда речь идет о совокупности данных элементов, взятой в целом, и, следовательно, в наиболее широких, оправдываемых действительностью границах, мы говорим о первичной совокупности. С этой точки зрения неорганический макрокосм, отдельный организм, отдельное общество суть первичные совокупности. Наоборот, когда речь идет о совокупности данных элементов, составляющей ту или иную часть первичной совокупности, мы говорим о вторичной, или производной, совокупности. С такой точки зрения Млечный Путь, данный объем газа, нервная система, рабочий класс и т. д. будут вторичными совокупностями первичных совокупностей различного порядка. Из предыдущего ясно, что может существовать несколько и даже очень большое число первичных совокупностей данного порядка. Мы не знаем, является ли макрокосм единым или, наоборот, существует множество миров, лишенных какой-либо связи между собой. В последнем случае мы должны были бы говорить о большом числе макрокосмических совокупностей. Но мы видим, что существует большое число таких первичных совокупностей, как организм, как растительные сообщества и т. д. Совершенно бесспорно, далее, что в пределах каждой первичной совокупности существует или может существовать множество производных совокупностей различного порядка.
Обратимся теперь к дальнейшим чертам строения совокупностей, позволяющим уяснить их многообразие и тем самым понять специфические особенности общества.
Характер совокупности, очевидно, зависит в значительной мере от того, из каких элементов она слагается. Элементы, слагающие совокупности, могут быть качественно глубоко различны, обладать различными свойствами и соответственно различной степенью сложности. Мы видели, что такими являются или атомы-молекулы, или клетки, или целые организмы, в частности люди. Иначе говоря, как уже было отмечено выше, элементами совокупности данного порядка являются совокупности предшествующего порядка. Но совокупность элементов представляет собой категорию явлений всегда принципиально иного, и притом более сложного, характера, чем сами элементы. Вот почему совокупности, слагающиеся из элементов, которые являются в свою очередь совокупностями, но лишь иного, более низкого порядка, глубоко различны между собой, и притом различны качественно и принципиально. Вот почему, говоря об этих совокупностях, мы рассматриваем их как особые области или категории объективной действительности, рассматриваем как мир электронов, как атомно-молекулярный космос, как внешнюю природу, как органический мир и т. д.
Итак, различие свойств элементов, слагающих совокупность, является основанием особенностей в свойствах самой совокупности. В связи с этим среди особенностей свойств, принадлежащих элементам, одно необходимо отметить особо. Будучи включены в состав совокупности, элементы могут испытывать воздействие со стороны последней и подвергаться той или иной, более или менее глубокой трансформации. Однако это свойство, эта способность к трансформации присуща элементам различных категорий в различной степени. Если атомы и молекулы обладают такой способностью в сравнительно ограниченной мере, то клетки организма, например растения1, в особенности же организмов с развитой нервно-психической системой, обладают таковой уже в гораздо более высокой степени. И различие этого свойства элементов, то есть раэличная степень их эластичности, равным образом находит выражение в свойствах соответствующих совокупностей. Чем более эластичны в указанном отношении элементы, тем более эластичны и подвижны образуемые ими совокупности. И хотя в данном случае мы имеем дело лишь с количественными различиями их, с различиями по степени, тем не менее эти различия весьма важны для понимания особенностей отдельных видов совокупностей, и в частности общества.
Принято различать реальные и логические, или мнимые, совокупности. Отдельными авторами указываются различные характерные признаки тех и других. Но в основном под реальными совокупностями все понимают те совокупности, между элементами которых существует та или иная связь или зависимость, а под мнимыми те, между элементами которых никакой связи нет[121]. Это разграничение совокупностей, как мы убедимся ниже, имеет очень большое познавательное значение. Вместе с тем на первый взгляд оно кажется очень ясным, и если можно здесь так выразиться, абсолютным. Однако при более пристальном анализе вопроса оно оказывается гораздо сложнее.
С широкой точки зрения и строго говоря, все элементы миро-, здания так или иначе связаны между собой. С такой точкой зрения все существующие совокупности являются реальными совокупностями. Прежде всего и во всяком случае реальными совокупностями представляются те основные первичные совокупности, которые были указаны выше (см. с. 182). Реальными совокупностями по существу оказываются и те, которые обычно указываются в качестве примеров мнимых совокупностей. Так, в качестве примера мнимой совокупности указывают на кучу песка. Однако нет никаких оснований отрицать, что между элементами такой совокупности, т. е. между отдельными песчинками, существует самая несомненная и прямая непосредственная взаимная связь. В качестве примера мнимой совокупности приводят, далее, такую, как совокупность новорожденных (умерших, самоубившихся и т. п.), зарегистрированных в том или ином году в данной стране, в данном районе или городе. Разумеется, непосредственной, и в частности непосредственно материальной, связи между элементами таких совокупностей, как правило, нет. Но несомненно, что элементы этих совокупностей находятся в определенной и во многом общей для них социально-экономической, правовой, политической и религиозной среде, в определенных условиях климата, температуры и т. д. И эти общие условия социальной и естественной среды связывают их между собой, определяют их судьбы и поведение. Поэтому говорить об отсутствии между ними всякой связи, говорить, что они образуют действительно мнимую совокупность, не приходится.
Исходя в значительной мере из приведенных или близких соображений, некоторые ученые вносят в определение понятия реальной совокупности, в отличие от мнимой, дополнительный ограничивающий признак, а именно признак устойчивости связи. С такой точки зрения реальной совокупностью является лишь та совокупность, между элементами которой существует устойчивая связь1. Однако этот критерий страдает прежде всего неопределенностью и поэтому не может удовлетворительно служить целям ясного разграничения и другого вида совокупностей. Действительно, совершенно невозможно сказать, где начинается неустойчивая и где начинается устойчивая связь? Нет такой объективной единицы, при помощи которой было бы можно измерить степень устойчивости связей в совокупности и ответить на поставленный вопрос. Кроме того, вводя признак устойчивости, мы неизбежно относим к группе мнимых совокупностей как те совокупности, между элементами которых нет связей, так и те, где связи есть, но лишены устойчивости, то есть объединяем в одну группу явления явно и существенно разнородные. Ввиду сказанного критерий устойчивости связей между элементами может служить не для принципиального разграничения реальных и мнимых совокупностей, а, как будет указано ниже, лишь в качестве вспомогательного и вторичного признака для установления подразделений в пределах класса реальных совокупностей.
Что же касается разграничения реальных и мнимых совокупностей, то его правильнее всего можно конструировать так. Хотя с широкой и общей точки зрения все элементы мироздания и связаны между собой, но в некоторых случаях связь эта столь отдаленна и слаба, что практически неуловима и во всяком случае неуловима при данном состоянии нашего знания. Исходя из этого положения, все те совокупности, которые мы берем, но между элементами которых, по крайней мере при современном уровне знания, мы не в состоянии установить каких-либо связей и зависимостей, мы относим к группе мнимых совокупностей. Все прочие совокупности, наоборот, должны рассматриваться как реальные. С такой точки зрения совокупность в 1 000 000 бросаний монеты или игральной кости, совокупность экземпляров одуванчика, взятых в различных, отдаленных друг от друга местах (и следовательно, не в одной и той же растительной совокупности), и т. п. будут мнимые совокупности. Из предыдущего ясно, что установленное разграничение реальных и мнимых совокупностей лишено абсолютного характера, а граница между ними — совершенной неподвижности. Но в основе этого разграничения лежит объективный критерий, связанный с состоянием положительного знания, а само разграничение при этих условиях сохраняет свой познавательный смысл, в частности для изучения многообразных производных, или вторичных, совокупностей.
Итак, реальные совокупности в строгом смысле слова предполагают наличие объективно уловимой связи между элементами. Но связи эти могут быть глубоко различны и притом в различных отношениях. В силу различия связей между элементами будут также различны и реальные совокупности как таковые.
В соответствии с особенностями природы входящих в совокупность элементов связи эти могут быть прежде всего или чисто материальными (понимая материальное в широком смысле, как нечто не психическое и не идеальное), или материально-психическими. Вместе с тем они могут [быть] непосредственными, могут предполагать непосредственный контакт между элементами данного рода, непосредственное физическое соприкосновение их между собой. Таковы, например, все связи в различных областях неорганического мира, в значительной мере связи, существующие в организме, лишь в очень малой степени в обществе, даже в обществе, понимаемом в самом широком смысле. Но они могут быть опосредствованными, косвенными. Это имеет место в тех случаях, когда связь, и даже материальная связь между элементами, существует без прямого материального соприкосновения этих элементов друг с другом. Примером таких связей может служить связь между отдельными экземплярами растений, входящих в растительное сообщество. Растения могут материально и непосредственно не соприкасаться друг с другом, но тем не менее связь между ними, и притом связь материальная, в их борьбе за ограниченные средства существования будет, несомненно, существовать1. Однако особенно широкое значение такие опосредствованные связи имеют там, вде эти связи носят в значительной мере психический характер, то есть в человеческом обществе. По самому существу своему осуществление психической связи предполагает наличие различных материальных проводящих посредников.
В тесной зависимости от предыдущих различий в характере связей стоит и следующее различие их. Связи между элементами совокупности могут быть материально фиксированными, как бы застывшими, такими, что они достаточно определенно координируют относительное пространственное расположение элементов в совокупности и придают совокупности или ее частям определенную пространственную форму конкретного тела. И наоборот, связи могут быть лишены такой фиксированное™ и не определять твердо относительное пространственное расположение элементов в совокупности. Тогда совокупность или ее части будут лишены определенной формы конкретного тела и будут иметь дискретный характер. С этой точки зрения различные совокупности имеют различное строение. Так, например, отдельные части неорганической природы имеют форму конкретных вещей (твердые тела, в меньшей степени — жидкие), наоборот, другие имеют дискретное, прерывистое строение (газы, свет). Организмы как совокупности имеют структуру конкретных тел, а все виды обществ, наоборот, структуру дискретных совокупностей.
Наконец, как уже отмечалось выше, связи между элементами реальной совокупности могут обладать различной степенью устойчивости и соответственно сами совокупности могут быть более или менее устойчивыми. Так, все первичные совокупности обладают исключительно высокой, хотя и различной степенью устойчивости. Некоторые из них, как неорганический макрокосм, вечны. Наоборот, многие производные совокупности обладают весьма низкой степенью устойчивости. Таковы, например, совокупности в виде дюн степного песку, сохраняющих свою конфигурацию и состав до ближайшего ветра, в виде стаи птиц, толпы людей и т. п. Ясно, что степень устойчивости совокупностей имеет бесконечный ряд градаций, и как говорилось уже выше, мы не можем установить определенные границы более или, наоборот, менее устойчивых совокупностей. Но и не имея такой возможности, мы все же можем всегда определенно сказать, имеем ли мы дело с относительно весьма устойчивой или, наоборот, с средне устойчивой и даже с совершенно неустойчивой совокупностью. Вот почему признак устойчивости связи элементов различных совокупностей сохраняет свое познавательное значение.
При всех указанных различиях и связях между элементами в силу внутреннего строения реальная совокупность или будет представлять собой целое, или, наоборот, не будет таковым. Совокупность представляет собой целое лишь при таких связях элементов, лишь при таком строении, когда в ней есть внутренняя организованность, когда имеет место определенная дифференциация ее частей и каждая часть выполняет известную функцию, соподчиненную жизни всей совокупности, когда, наконец, совокупность как таковая обладает в тех или иных границах свойствами замкнутости, самодовления, хотя, разумеется, и не полной независимости в отношении других совокупностей и вещей. Таковы прежде всего, хотя и с различной степенью ясности, все первичные совокупности. Мы рассматриваем атом как нечто целое, хотя бы и микроскопическое. Как целое рассматриваем мы весь неорганический макрокосм, отдельный организм и каждое данное сообщество, в частности, и особенно человеческое общество. Но целым являются и многие вторичные совокупности. Так, целым является совокупность небесных тел, входящих в состав солнечной системы, земной шар; целым является система кровеносных сосудов в организме, город, армия, хозяйственное предприятие и т. п. в человеческом обществе. Наоборот, имеется огромное количество вторичных совокупностей, лишенных свойств целого и не являющихся таковыми. Целым не является, например, какой-либо оторвавшийся от скалы камень, та или иная масса газа, воды, отдельный участок леса, группа людей, пришедших на рынок или в театр и т. д.
Однако и совокупность — целое по структуре своей — далеко не всегда однородна. Элементы и части целого могут быть не только координированы между собой, но и соподчинены в своих функциях в какой-то данный момент единому руководящему центру и служить единой системе задач. И наоборот, они могут быть координированы без такого соподчинения единому центру. В первом случае перед нами будет совокупность, представляющая собой не только целое, но и одновременно и телеологическое единство. Во втором случае мы будем иметь совокупности, представляющие собой целое лишь в виде системы[122]. Наиболее ярким видом совокупности как целого и одновременно телеологического единства является организм, далее хозяйственное предприятие, государство, политическая партия и т. д. Отличительной чертой такого единства, как организм, является при этом его неделимость. Примером единства как системы могут служить такие совокупности, как солнечная система, растительное сообщество, например лес, и т. д.
Заканчивая анализ совокупностей, необходимо поднять еще один методологически весьма важный вопрос. До сих пор мы рассматривали совокупность как бы с одной определенной стороны. Мы говорили об элементах, слагающих совокупность, о связях между этими элементами, о характере этих связей. Иначе говоря, мы рассматривали совокупность под углом зрения ее морфологии, или своего рода «анатомии». Но такого анализа для достаточно полного уяснения вопроса недостаточно. Та или иная совокупность, раз она дана, не только имеет определенное строение, но и живет, функционирует. Ее элементы, если только она является реальной совокупностью, не только связаны между собой, но в результате своей активности в условиях связи комбинаций с массой других подобных элементов кладут начало явлениям, которые немыслимы вне этой совокупности, но которые сами по себе в то же время уже не являются ни элементами, ни просто связями между ними. Их можно было бы обозначить как продукты или функции совокупности. Возьмем простейший пример. Известно, что кинетическая теория газов рассматривает каждую данную массу газа как совокупность большого числа соответствующих атомов-молекул. Эти атомы-молекулы находятся в постоянном движении. Двигаясь, они ударяются друг о друга, то есть находятся в определенных специфических связях между собой. Если газ заключен в сосуд определенного объема, то при данной температуре он будет оказывать известное давление на стенки сосуда. Несомненно, это давление есть продукт молекулярного строения и ударов молекул его о стенки сосуда, ударов, которые возникают в результате первоначального движения молекул и их взаимодействия между собою. Но несомненно также и то, что это давление само по себе не есть ни молекулы газа, ни их взаимодействие или связь. Оно есть некоторое новое явление, есть результат функционирования совокупности, немыслимый вне ее. Наличие таких новых результатов функционирования, и притом в гораздо более широких пределах, наблюдаем мы и в случаях иных, более сложных совокупностей. Таковы, например, явления дыхания, обмена веществ, восприятия и т. п. в организме. Таковы явления угнетения классов, деформации ствола, кроны и лиственного покрова в растительных сообществах, явления языка, денег, права, религии и т. д. в человеческих обществах. Все эти явления, возможные на почве связи и взаимодействия элементов совокупности, будучи немыслимыми вне соответствующей совокупности, в свою очередь, как правило, служат средством, формой, факторами связи элементов совокупности. Но в то же время сами по себе, как уже отмечалось, они не являются ни элементами, ни просто связями элементов совокупности. И все это показывает, что анализ совокупности только с точки зрения ее морфологии, или «анатомии», не охватывает ее с достаточной полнотой. Необходим анализ и с точки зрения ее функционирования, или, выражаясь образно, с точки зрения ее физиологии, с точки зрения уяснения тех новых результатов, которые возникают на почве связи и взаимодействия элементов данной совокупности. Благодаря различной природе и различной сложности элементов различного порядка, благодаря особенностям в возникающих между ними связях и те новые явления, которые представляют собой продукт связи и взаимодействия этих элементов, оказываются в совокупностях разного порядка глубоко и принципиально различными. Это его различие особенно подчеркивает своеобразие отдельных первичных, а через них и относящихся к ним производных совокупностей, выступая в качестве нового и весьма существенного основания взгляда на них как на объект специальных групп научных дисциплин.
Все сказанное в настоящем параграфе позволяет нам уточнить данное выше определение понятия реальной совокупности. В конечном счете под реальной совокупностью следует понимать большое число так или иначе связанных между собой элементов и явления, возникающие в условиях связи этих элементов.
В обычном словоупотреблении имеется тенденция понимать под совокупностью собственно только большое число элементов как таковых, в крайнем случае — большое число элементов плюс связи между ними. С такой точки зрения результат или продукт, возникающий на почве связи между элементами данной совокупности, уже не входит в состав понятия совокупности. Его склонны называть просто явлениями в сфере совокупности, например органические, общественные и т. д. явления. Для такого разрыва понятия совокупности и явлений в сфере данной совокупности, однако, нет оснований. С одной стороны, сама совокупность и связи между ее элементами суть тоже явления, и притом явления иного порядка, чем отдельно взятый элемент, явления, неразрывно связанные с теми явлениями, которые возникают на почве связи элементов совокупности, родственных им. И это тем более, что включенность в совокупность налагает на сами ее элементы глубокую печать, модифицирует их, и эта модификация их в значительной мере обязана тому, что выше было названо явлениями совокупности. Это особенно ярко наблюдается в сфере органической и общественной жизни. С другой стороны, т[ак] называемые] явления в сфере данной совокупности, как правило, являются средством, формой и факторами связи ее элементов, то есть неизбежно входят в состав строения совокупности, понимаемой в указанном суженном смысле.
Исходя отсюда для существования двух понятий и двух терминов, а именно данная совокупность и явления в сфере данной совокупности, имеется лишь следующее основание. Понятие и термин реальных совокупностей, как было указано выше, охватывают всю сумму относящихся к вопросу объектов или явлений, го есть большое число связанных между собой элементов, самые связи между ними и продукт, возникающий на почве этих связей. Но, употребляя термин «данная реальная совокупность», мы, во-первых, подчеркиваем, что берем ее в целом, во-вторых, отмечаем ту генетическую реальную преемственность явлений данного класса с явлениями предшествующего класса более простых явлений. Однако в действительности нам нередко приходится фиксировать внимание не на той или иной совокупности в целом, а на отдельных сторонах ее жизни и функционирования. В таком случае термин «данная реальная совокупность» будет уже слишком общ и широк. Равным образом часто нет надобности фиксировать упомянутую генетическую связь между классами явлений. С такой точки зрения термин «явления в сфере данной или данных реальных совокупностей» представляется вполне удобным и законным. По существу и логически он означает то или иное или те или иные частные, специальные стороны жизни и функционирования совокупности в целом. В этом смысле можно было бы сказать, что исчерпывающая сумма явлений в сфере данной реальной совокупности адекватно совпадает с понятием самой реальной совокупности. Итак, понятия реальной совокупности и явлений в сфере данной реальной совокупности говорят об одном и том же объекте, но обладают различным объемом и содержанием. Второе всегда составляет часть первого.
Опираясь на предыдущее изложение, нетрудно дать общее определение понятия общества, в частности человеческого общества и общественных явлений.
Общество в самом широком смысле этого слова есть реальная совокупность организмов. Но организмы распадаются прежде всего на две основные категории: растительные и животные. Мы знаем уже, что различие в элементах совокупности является одним из глубочайших оснований для разграничения видов самих совокупностей. Указанное подразделение рода организмов достаточно серьезно. В соответствии с этим мы различаем растительные общества или сообщества, т. е. реальные совокупности растительных организмов1, и животные сообщества или общества, т. е. реальные совокупности животных или индивидуумов.
Животные организмы в свою очередь распадаются на значительное число видов. Но среди [н]их нас в особенности интересует вид Homo Sapiens, человек как организм, достигший, насколько нам известно, наивысшего органического развития и представляющий собой по своей природе и организации достаточно и глубоко своеобразный вид среди видов животных организмов. Поэтому мы можем подразделить все животные организмы на два основных класса: животные в тесном смысле слова и человек. В соответствии с таким подразделением и животные сообщества распадутся на две основные категории: животные сообщества, т. е. реальные совокупности животных организмов в тесном смысле слова, и человеческие сообщества или общества.
Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать: человеческое общество есть реальная совокупность людей[123][124].
Может показаться странным и наперед спорным, что мы рассматриваем человеческое общество лишь как вид общества в целом наряду с обществами животных в тесном смысле и даже с растительными сообществами. Однако в этом нет ничего ни странного, ни спорного. Если мы желаем понять ту или иную область действительности, как она есть, мы должны и брать ее, как она есть. Но это факт, что существуют растительные общества и общества животных в тесном смысле слова. Мы видим, что растут специальные отрасли знания — фитосоциология и зоосоциология, посвященные изучению таких сообществ. Строго говоря, и основной закон дарвинизма, играющий столь большую роль в познании живого мира, а именно закон борьбы за существование, является законом не столько и во всяком случае не только биологическим, но и законом жизни общества в широком смысле слова, и в частности общества растений и животных. Но человек есть живой организм, в частности животное, хотя бы и высшее. Это факт, на котором твердо стоит современное естествознание. И если это так, то очевидно, что законы, которым подчинено живое существо, и в частности животное, имеют силу с теми или иными модификациями и для человека. Отсюда очевидно также, что и общественная жизнь растений, животных и людей не может не иметь общих корней, сходных черт, не может не рассматриваться как категория родственных явлений. С такой точки зрения взгляд на человеческое общество как на особый вид общества в широком смысле слова есть лишь вполне законный вывод из данных положительных наук, есть стремление понять человеческое общество в его реальных и глубоких генетических основах.
Однако при всем том было бы меньшей ошибкой, увлекшись сходством человека и других живых существ, преувеличивать близость человеческой общественной жизни и жизни растительных и животных сообществ, подпадать под власть аналогий и забывать о том своеобразии, которое таит в себе человеческое общество.
Мы не будем указывать здесь черт этого своеобразия: они будут ясны из следующей главы, посвященной специальному рассмотрению структуры человеческого общества и характеристике различных явлений в нем.
Здесь же в pendant к данному выше определению общества дадим определение общественного явления. Под общественным явлением в широком смысле мы понимаем всякое явление, возникающее на почве или в результате жизни общества как реальной совокупности. Мы подчеркиваем, что не всякое явление, наблюдающееся в обществе, будет общественным явлением. Организмы, и в частности люди, живущие в обществе, умирают. Но это не значит, что смерть, явление смерти есть общественное явление. Оно будет общественным явлением тогда и лишь в той мере, когда и в какой мере будет обязано своим возникновением, формами и следствиями условиям жизни общества. Как уже было отмечено выше, раэграничительные линии между сопредельными классами явлений действительности всегда очень не ясны. Поэтому часто нелегко разграничить эти явления и практически. Но это не значит, что их нельзя разграничить принципиально и что не ясен теоретически самый критерий их разграничения.
В соответствии с приведенным определением общественного явления в широком смысле под человеческим общественным или социальным явлением мы понимаем всякое явление, возникающее на почве или в результате жизни человеческого общества.
В дальнейшем для краткости вместо человеческого общества и человеческих общественных явлений мы будем употреблять термины «общество» и «общественное явление». Всюду, где речь идет об обществе и общественном явлении в каком-либо ином смысле, это будет отмечено в терминологии. Термин «социальный» будет употребляться как синоним термина «общественный» .
Глава II. СТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ Схема II главы.
I. Человек как элемент общественной] совокупности]. В каком смысле. Человек и его психофизич[еская] организация. Влияние на нее со стороны общества. Мы знаем чслов[ска] только в условиях общества. Двойственная природа человека. Потребности.
II. Поведение человека. Определение. Классификация актов поведения. Материальная, психическая и идеальная стороны в поведении человека. Все ли акты поведения социальны? Возможность ответа только в связи с последствиями] .
III. Связи между людьми и их значение для бытия общества и социальных явлений. Сущность связи. Виды связи. Материальная, психическая и идеальная стороны связей. Связи и их массовый характер. Гетероген[ностъ] общества]. Коллективно-психические явления. Идеи. Объективация в идеях. Роль языка. Материализация. Устойчивость. Процесс связей и объективный результат. Двойственность человека. Обращение вопроса: от результата к связям и человеку.
IV. Коллективно-психический ряд. Его состав. Можно ли говорить о коллективном духе? Индивиду ал ьно-псих[ичсский] и коллсктивно-психич[сский] ряд.
V. Идеологический ряд. Его связи с коллект[ивно]-психич[еским]. Его особенности.
VI. Вещный ряд. Вещи и их социальные функции.
VII. Организация или морфология общества. Группы — совокупности мнимые и реальные. Структура групп. Группы, их потребности, их взаимодействие. Первичные и вторичные совокупности. Институты. Институт групп и негрупп. В чем же сущность организации общества. Понятие об устойчивых отношениях.
VIII. Человек и общество. Человек приходит, когда общество уже сложилось. Социальное пространство, его координаты и место человека в обществе. Его трансформация. Человек как завершающее звено. Персональный ряд.
IX. Итоги.
РЧ;
XI. Социальное явление. Два принципа его классификации. Виды социальных явлений.
Исходным и вместе с тем, как будет видно из дальнейшего, конечным элементом общества является человек. Человек есть прежде всего продукт космического и органического развития. В общественную жизнь он вступает и затем участвует в ней, обладая теми способностями и свойствами, которые сложились и складываются у него в процессе этого развития. Очевидно, анализируя общество и общественную жизнь, мы должны иметь в виду эти способности и свойства.
Строго говоря, человека как продукта только природы мы не знаем. Мы знаем его лишь таким, каким он есть или был в условиях общественной жизни на различных ее этапах. Условия общественной жизни налагают на психофизическую организацию человека свой и весьма глубокий отпечаток. Поэтому человек, как мы его знаем, есть продукт не только природы, но одновременно и культуры. Чисто естественный человек, человек как продукт только природы является абстракцией. Мы строим представление о нем, лишь абстрагируясь от влияния на него общественных условий жизни и опираясь при этом на соответствующие отрасли знания, то есть на биологические и психологические науки, а также на антропологию. Но такое представление о нем, ориентированное на данных упомянутых наук, мы должны всегда иметь перед собой, занимаясь исследованием общества и общественных явлений. Хотя влияние общественных условий жизни на психофизическую организацию человека и значительно, и глубоко, но не безгранично. То, что невозможно для человека в силу естественно-органических условий, очевидно, но может возникнуть и под влиянием общественных условий. И наоборот, то, что неизбежно в ходе жизни человека в силу тех же естественно-органических условий, не может быть предотвращено и условиями общественной жизни. В этом смысле природа ставит как бы максимальный и минимальный пределы для культуры, для влияния общественных условий на человека и соответственно для амплитуды хода самой общественной жизни. Вот почему, рассматривая общество как реальную совокупность людей и анализируя человека как элемент общества, необходимо строго учитывать двойственную естественно-социальную природу человека.
Нам нет необходимости входить здесь в детали характеристики такой природы человека. Это делается другими специальными науками, и мы должны лишь ориентироваться на их выводы. Поэтому здесь в развитие сказанного мы отметим лишь некоторые стороны вопроса, имеющие значение для ясности последующего изложения.
Как продукт естественно-органической эволюции человек представляет собой животный организм. В силу этого он имеет определенное строение и подвержен определенным внутренним органическим процессам. Он испытывает воздействия как со стороны этих процессов, так и со стороны внешней среды и, борясь за свое существование, рефлекторно, или инстинктивно[125], реагирует на такие воздействия. В процессе этой жизненной борьбы он приспособляется к окружающей среде, подвергаясь в результате этого медленным органическим изменениям.
Но человек — не просто животный организм, а организм, обладающий относительно развитой нервно-мозговой системой. Благодаря этому внутренние органические процессы его жизни, а также те воздействия, которые он испытывает со стороны внешней среды, значительно сложнее, чем у животных, лишенных нервно-мозговой системы, а также чем у животных, не обладающих таким развитием ее.
В непосредственной связи с высоким развитием именно нервно-мозговой системы стоит факт относительно высокого и сложного развития психических способностей человека. Он способен не только ощущать, воспринимать, запоминать. Если и нельзя утверждать, что естественному человеку [доступно] строить скольконибудь общие понятия и мыслить в собственном смысле слова, то во всяком случае зачаточных способностей к построению конкретных представлений и умозаключений за ним отрицать уже нельзя. Он способен, далее, переживать многообразные эмоции, способен чувствовать и в тех или иных пределах ставить себе цели. Несомненно, психика человека, рассматриваемого как продукт естественно-органической эволюции, мало дифференцирована, синкретна, но все же в зачаточном состоянии обнаруживает корни всех основных психических способностей, свойственных уже общественному человеку. Она сложнее психики других животных, не исключая и тех, которые стоят к нему на лестнице органической эволюции наиболее близко.
Соответственно многообразнее и сложнее и его реакции на воздействия как внутренних органических процессов, так и внешней среды. Вопрос об этих реакциях человека или о его поведении имеет огромное значение. Реакции или акты поведения человека всегда являются ответом на те или иные его потребности. Ниже нам придется остановиться на вопросе о поведении человека подробнее. И для того чтобы сделать это последующее изложение достаточно ясным необходимо уже здесь осветить вопрос о потребностях, которые свойственны человеку и удовлетворению которых служат акты его поведения.
Индивидуальная потребность есть специфическое состояние организма. Организм как целое состоит из частей или органов, между которыми и между функциями которых имеется опре;
деленное соответствие. Наряду с этим организм всегда находится в определенной среде, которая воздействует на него, его органы и их функции. Между организмом и средой в общем также существует соответствие. Разумеется, как внутриорганическое соответствие, или равновесие, так и соответствие, или равновесие, между организмом и средой по своему содержанию и характеру для каждого отдельного вида организма и для организма данного вида и на каждой стадии его развития специфично. Но в общем при прочих равных условиях это равновесие есть всегда такое состояние органиэма, которое отвечает потребностям его нормального функционирования и борьбы за существование[126].
Однако такое состояние соответствия, или равновесия, не является абсолютно устойчивым, неизменным. Наоборот, оно почти постоянно в большей или меньшей мере нарушается. Оно нарушается как ходом внутренних процессов организма, так и под влиянием новых факторов влияния со стороны внешней среды. Но если оно нарушается, то тем самым как бы отпадают некоторые силы, наличие которых было необходимо, чтобы организм находился в безразличном недеятельном состоянии удовлетворения. Теперь он начинает так или иначе действовать, реагируя на факт нарушения соответствия, и действует, пока не находит нового, смотря по обстоятельствам, более или менее отличного от состояния соответствия, или равновесия. Состояние нарушенного соответствия, или равновесия, между отдельными частями организма (или их функциями) или между организмом и внешней средой и вытекающее отсюда состояние искания путей к восстановлению этого равновесия мы и обозначим общим понятием потребности. В этом широком смысле потребность является вполне объективным состоянием, которое можно наблюдать у любого организма, не исключая и растительного. Именно в этом смысле говорят о потребности растения во влаге, тепле, свете и т. д. Иначе говоря, потребность в широком смысле слова не предполагает с необходимостью психического состояния неудовлетворенности и позыва устранить это состояние неудовлетворенности. Даже и у животных, обладающих в той или иной мере психической жизнью, потребности могут проявляться на чисто органической почве, не задевая поля сознания. Но совершенно ясно, что чем сложнее организм, чем более развитой нервно-мозговой системой он располагает, тем сложнее предпосылки его внутреннего и внешнего равновесия, тем легче они нарушаются, тем шире круг его потребностей, тем, наконец, обычнее, что нарушение равновесия организма находит то или иное отражение в сознании, выражается в нарушении психического равновесия его, т. е. сопровождается психическим состоянием неудовлетворенности и искания путей его устранения. Именно так обстоит дело у человека как наиболее высоко развитого вида организмов. Его потребности возникают не только в результате нарушения равновесия между его органами или их функциями, но и в его нервно-психической системе. Они возникают, далее, не только в результате нарушения равновесия между его организмом и внешней средой, но и в результате воздействия этой среды на его психику. Поэтому круг его потребностей шире, чем у других организмов. И в этом состоит существенное отличие человека от других животных. Но этого мало. На какой бы почве ни возникали отдельные потребности человека, большинство из них, и во всяком случае все важнейшие из них, в силу внутреннего единства организма находят отражение в его психике, сопровождаются нарушением ее равновесия и являются поэтому осознанными потребностями. Так как, далее, многие виды потребностей имеют достаточно регулярный характер или возникают достаточно часто, то чрезвычайным показательным для характеристики того или иного вида животного [является] его отношение к будущим потребностям. В связи с этим мы, с одной стороны, знаем, что многие животные, стоящие значительно ниже человека по своему развитию, обнаруживают, правда, по-видимому, в большинстве случаев чисто инстинктивно, заботу об удовлетворении будущих потребностей (пчелы, муравьи, некоторые птицы). С другой стороны, [человек] насколько нам известно, даже на первых этапах своей уже общественной жизни проявляет очень большую беспечность к будущему. Но все же относительно благодаря более высокому уровню своей умственной организации человек характеризуется наиболее высокой способностью к сознательной предусмотрительности в деле удовлетворения потребностей. Удовлетворение потребностей предполагает со стороны организма деятельность, какие-то акты поведения. И то, что, несомненно, особенно отличает человека от других животных, что, быть может, и имеет наиболее глубокую грань между человеком и прочими животными, это его неизмеримо более высокая, чем у других животных, способность находить средства удовлетворения потребностей, и в частности его способность создавать необходимые для этого орудия. Несомненно, в значительной мере именно эта способность его, связанная опять-таки с его более развитой нервно-мозговой системой, обеспечила ему не только победу в борьбе за существование, но и то господство его над миром, которого он достиг. Поэтому представляется чрезвычайно глубокой и по существу верной мысль Франклина, что человек есть животное, умеющее производить орудия.
Однако выше было уже со всей определенностью отмечено, что человек вне общества, человек только как продукт природы — собственно абстракция. Реальный человек и реальные свойства его, с которыми мы имеем дело, изучая общество, это есть человек, уже живущий в обществе, т. е. его свойства, которые сложились не только под влиянием природы, но и культуры.
Выше мы пытались отметить некоторые существенные для нас черты психофизической организации человека, рассматривая его именно как продукт естественно-органической эволюции и, следовательно, сознательно игнорируя все то, что привносится в эту организацию влиянием условий общественной жизни. Теперь мы должны восполнить как раз этот пробел и тем самым получить то представление о человеке как атоме общества, каким он реально является. По выражению Аристотеля, человек — животное общественное, он живет в обществе. И если человек является исходным атомом этого общества, если без учета его психофизических свойств нельзя понять общественную жизнь, то, с другой стороны, сама психофизическая структура человека меняется под влиянием условий общественной жизни. Космическая и органическая эволюция совершается медленно. Медленно меняется под влиянием ее и человек. В соответствии с этим с точки зрения масштабов длительности общественно-исторического процесса человек как продукт космической и органической эволюции и его психофизическая организация может рассматриваться как явление данное, достаточно устойчивое и мало изменчивое. Но то, что дано от природы под именем человека, как мы видели, — это животное существо, мало отличное от некоторых других видов животных, существо с примитивным уровнем психики, с ограниченным кругом переживаний и потребностей, владеющее лишь простейшими естественными способами их удовлетворения. Однако вместе с тем естественный, или данный от природы, человек, как показала его история жизни в обществе, представляет собой существо с огромными потенциальными способностями к психофизическому развитию и усовершенствованию, в значительной мере tabula rasa, на которой подходящие условия могли выявить продукт сложного содержания, превратив его в аппарат весьма тонкой и многообразной деятельности. Такими условиями и явились именно условия общественной жизни человека. Сложные и изменчивые, именно эти условия по преимуществу актуализировали огромные потенциальные способности человека к психическому развитию. Общественные условия, несомненно, оказывают в известных пределах влияние и на биологические свойства человека. Но особенно значительно и глубоко их влияние на его психические способности. Можно считать достаточно установленным, что именно в условиях общественной жизни и под влиянием их так дифференцировалась и усложнилась человеческая психика, развились его познавательные и мыслительные, чувственно-эмоциональные и волевые способности.
Изменяется под влиянием общественных условий и строй потребностей человека. Отдельные, чисто естественные потребности отмирают, другие теряют свое прежнее значение, третьи трансформируются, дифференцируясь, меняя свое содержание и формы выражения. В этом отношении для подтверждения достаточно указать на эволюцию таких потребностей, как потребность в пище, в одежде, половая потребность и т. д. Иначе говоря, влияние общественных условий испытывает [на себе] весь круг так называемых естественных или природных потребностей. Но вместе с тем под влиянием тех же общественных условий возникает и развивается целый ряд многочисленных новых, в особенности т[ак] называемых] духовных потребностей: познавательных, эстетических, религиозных и т. д. И если с индивидуальной точки зрения борьба за жизнь и за ее уровень сводится к борьбе за удовлетворение потребностей, то очевидно, что с развитием общества задачи и содержание этой борьбы чрезвычайно усложняются.
Но условия общественной жизни меняют не только круг и строй потребностей человека, они еще в каждый данный период, как мы увидим, в значительной мере определяют то конкретное содержание, которое вкладывается людьми в различные потребности каждого данного рода, а также средства и пути их удовлетворения.
В самом начале настоящего параграфа мы сказали, что человек есть исходный атом общества. Теперь мы видим, что в полной мерс оправдывается и другая мысль, высказанная там же, а именно, что в то же время человек есть и конечный атом ее. Если общество есть реальная совокупность людей и ее нельзя понять без учета психофизических свойств человека, то, с другой стороны, этот атом с его психофизической природой сам испытывает влияние условий общественной жизни и меняется под воздействием их. Механизм этого воздействия позднее выясняется с большей определенностью. Но во всяком случае склонность психофизической природы человека к изменчивости является одним из глубочайших условий изменчивости и пластичности самого общества.
Как было уже указано, удовлетворение потребностей предполагает со стороны человека деятельность, тс или иные акты. И т[ак] к[ак] общество есть совокупность, т. е. большое число людей, то по существу мы имеем здесь дело с массовой деятельностью. Но общество — не просто совокупность, а реальная совокупность, которая предполагает известные связи и отношения между ее элементами. В обществе эти связи и отношения между людьми существуют прежде всего на почве их деятельности или поведения. И чтобы разобраться в строении общества и уяснить природу существующих в нем связей и отношений, необходимо рассмотреть вопрос об актах человеческого поведения.
Акты деятельности человека, или иначе его поведение (behavior), понимаются здесь в общем и широком смысле слова. Под ними понимаются все виды реакций человека на те или иные потребности, откуда бы они ни исходили.
Акты человеческого поведения весьма многообразны и вступают между собой в многообразные сплетения. Поэтому в первую очередь рассмотрим их систематику в соответствии с различными принципами подразделения. Из предыдущего уже ясно, что те или иные акты поведения человека возникают не произвольно, а всегда в силу определенных условий. Иначе говоря, человеческое поведение представляется строго детерминированным совокупностью соответствующих условий, является звеном цепи, которое, с необходимостью следуя за предшествующими звеньями и сочетаясь с совокупностью других условий, с такой же необходимостью влечет за собой последующие звенья цепи событий.
Если иметь в виду ближайшие условия, непосредственным ответом на которые является тот или иной акт поведения человека, то, как мы уже видели, такими условиями, или мотивами поведения, служат всегда потребности. Мы подчеркиваем, что потребности являются лишь ближайшими непосредственными мотивами поведения, но никак не конечными и последними, т[ак] к[ак], очевидно, всегда должны существовать какие-то условия, которые нарушают равновесие организма и порождают его потребности. В каждый данный момент человек может испытывать ряд потребностей. Но действовать он будет в соответствии с победившей или победившими потребностями. Эти действующие потребности различны, и притом в различных отношениях. Поэтому конкретно будут различны, следовательно, мотивы поведения.
Потребности могут быть осознанными или неосознанными. К первым относятся те, возникновение, содержание и влияние которых проходит через тот или иной контроль сознания. Ко вторым, наоборот, [относятся] те, влияние которых остается вне поля сознания. В соответствии с этим все акты поведения можно разделить на сознательные и бессознательные. К группе бессознательных относятся бесчисленное множество актов поведения, но по самому существу своему они являются, как правило, простейшими, не затрагивающими обычное течение жизни человека сколько-нибудь глубоко и серьезно. Причем к ним принадлежат как различные рефлекторные действия, так и действия, которые когда-то были сознательными, но потом в силу привычки превратились в бессознательные. Из последнего положения ясно, что сознательные акты в определенных условиях могут превращаться в бессознательные. Имеет место и обратное явление. Акты, бывшие бессознательными при осложнении обычных привычных условий их протекания доходят до сознания, становятся сознательными.
Обращаясь теперь к сознательным актам, нужно констатировать, что характер контроля сознания в возникновении и влиянии потребностей и соответственно мотивов поведения далеко не однороден. Иногда удовлетворение тех или иных потребностей представляется как ясно осознанная определенная задача. В этом случае акт поведения совершается по схеме «для того, чтобы» и мотивация имеет телеологический характер. Причем по своей природе цели, которые здесь ставятся, могут быть или утилитарными, например получение наибольшей хозяйственной выгоды, или гедонистическими, например получение того или иного удовольствия, или чисто объективными, например получение того или иного научного, технического, художественного и т. д. эффекта. Природа поставленной цели может иметь, разумеется, и сложный характер, т. е. включать в себя соображения утилитарного и гедонистического, гедонистического и объективного и т. п. порядка. Но не менее часто и, строго говоря, может быть, даже чаще удовлетворение потребности не осознается как определенная, ясно поставленная цель. И тоща акт поведения совершается не по схеме «для того, чтобы», а по схеме «потому, что». Такую схему мотивации можно назвать, в отличие от телеологической, консекутивной или еще алогической. Последняя в свою очередь не однородна и может быть разбита на подвиды. Во-первых, акты поведения на основе различных потребностей могут совершаться так, а не иначе в силу подражания, или социального заражения. Так, нередко люди покупают платье данной моды, носят стрижку данного типа и даже примыкают к тем или иным политическим, религиозным, эстетическим течениям не в результате ясно осознанных целей или продуманных убеждений, а потому что так делают другие, потому что это модно, современно, соответствует духу времени и т. д. Этот подвид консекутивной мотивации чрезвычайно распространен и с особой ясностью наблюдается в случаях образования социальной толпы, возникновения социальных эпидемий, в эпохи революций, войн и т. д. Его можно назвать предметной мотивацией. Во-вторых, сознательные акты поведения нередко совершаются не по телеологическим мотивам и даже иногда вопреки им в силу чисто принципиальных оснований и потребностей. Сюда относятся все поступки, которые совершаются независимо от их пользы, удовольствия, объективного эффекта лишь потому, что этого требует долг, честь, правосознание и т. д. Такой подвид консекутивной мотивации называется принципиальной мотивацией. Наконец, в-третьих, в огромном числе случаев сознательные акты поведения совершаются не по телеологическим и не по принципиальным соображениям, и притом часто вопреки им, а по соображениям наличных повелительных и непреодолимых обстоятельств и побуждений. Сюда относятся акты, совершаемые вопреки рационально целевым и принципиальным мотивам в силу страха, голода, зависти, ревности, усталости, лени и т. д. Нетрудно видеть, что в данном случае речь идет о поступках, которые в конечном счете базируются на наиболее примитивных, но и наиболее мощных эмоциально-чувственных переживаниях человека. Этот подвид консекутивной мотивации можно назвать основным.
Т[аким] о[бразом], мы рассмотрели классификацию актов поведения в зависимости от того, какое отношение те или иные потребности как мотивы поведения имеют к сознанию и какой психический состав имеет место при проявлении тех или иных действующих потребностей. Но мы знаем уже, что независимо от этого потребности распадаются по определенным сферам человеческой жизни. В соответствии с ними и акты поведения, какова бы ни была схема их мотивации, по признаку контроля сознания распадаются на определенные области. Так, мы различаем акты, связанные с удовлетворением материальных и духовных потребностей. Первые могут быть связаны с удовлетворением потребностей в питании, в одежде, половых потребностей, потребностей в самозащите. Вторые в свою очередь могут быть связаны с удовлетворением познавательных, религиозных, эстетических потребностей, потребностей общения и т. д.
Но с каким бы видом потребностей ни было связано поведение человека, непосредственно оно может состоять или в самом удовлетворении потребностей, или, наоборот, лишь в создании условий, необходимых для их удовлетворения. Эго подразделение актов человеческого поведения, как мы увидим совершенно отчетливо ниже, имеет огромное познавательное значение. Здесь же мы лишь заметим, что значительная часть человеческой деятельности состоит не в непосредственном удовлетворении потребностей, а именно в создании условий их удовлетворения и что чем выше уровень культурного развития человечества, тем шире сфера такой посредствующей деятельности.
Акты поведения различаются между собой и по внешней форме. Они являются или актами действия (facere) в узком смысле слова или, наоборот, актами недействия, воздержания от действия (non facere). При этом последние могут иметь один из двух оттенков. Или они являются актами простого воздержания от действия (abstinere), например актом воздержания от купли, продажи, актом воздержания от потребления алкоголя, от чтения какой-либо книги и т. д. Или же они являются актами воздержания в сознании задачи и долга терпения (pati). Таковы, например, акты воздержания от действий в случае наносимых оскорблений и притеснений, и притом воздержания в сознании, что так следует, нравственно и правильно поступать].
Наконец, акты человеческого поведения непосредственно могут быть направлены по различным адресам. Они могут быть направлены на внешнюю природу. Многие потребности, в особенности т[ак] н[азываемые] материальные потребности, могут быть удовлетворены лишь в результате утилизации или [говоря] шире, вовлечения в круг действия предметов внешней природы. Они могут быть направлены непосредственно на других людей. Эго мы наблюдаем, например, в случаях, когда читается лекция, выпускается газета, организуется профессиональный союз и т. д. Они могут быть адресованы тем или иным мистическим существам, отвлеченным началам и т. п., что имеет место при некоторых религиозных, магических и т. п. ритуалах. Они могут быть, наконец, обращены человеком к самому себе.
Если теперь объединить сказанное о систематике актов поведения, то мы получим следующую общую схему (см. с. 204).
Из всего изложенного выше мы видим, что акты человеческого поведения чрезвычайно многообразны. Если учитывать все их от великого до ничтожного включительно, то легко видеть, что всякий человек ежедневно и еженедельно совершает бесчисленное.

множество их. Они располагаются у него при этом сложными связными сериями. Каждый человек известные виды и формы своего поведения считает как бы основными для себя и более или менее преемственно возобновляет их изо дня в день, из недели в неделю и т. д. Так, почти каждый человек имеет те или иные регулярные занятия. Каждый человек ежедневно проделывает известный цикл актов своей) домашнего обихода, более или менее регулярно отдастся отдыху, удовольствиям и т. д. Но в то же время каждая из таких цепей его регулярных актов поведения всегда осложняется и обогащается бесчисленным множеством мелких привходящих иррегулярных актов: например, он случайно встречает старого знакомого на улице и вступает с ним в разговор, обнаруживает в трамвае, что забыл кошелек дома и имеет инцидент с кондуктором, делается зрителем или даже участником какого-либо происшествия на площади, запаздывает на занятия и получает выговор от начальства и т. д. Иногда же регулярное течение цепей его поведения потрясается и даже совершенно прерывается, и он становится участником громадных событий, как стачка, война, революция и т. д.
Не все акты поведения людей сами по себе имеют социальную природу или только социальную природу. Многие из них имеют чисто органические корни и только органическое значение. Актами социальной природы являются лишь те, которые или имеют социальные условия своего возникновения, или, имея иные источники происхождения, зависят от социальных условий по форме своего совершения, или, наконец, те, которые независимо от двух первых условий имеют определенные социальные последствия. И, строго говоря, они будут социальными каждый раз в той мере, в какой обязаны общественным условиям своим возникновением и своей формой или в какой оказывают воздействие на эти условия. Социальная или несоциальная природа актов поведения определяется тем, находятся ли эти акты поведения в связи и взаимодействии с потоком актов поведения других людей данного общества.
Раз дана совокупность людей, раз эти люди совершают многообразные акты поведения, то неизбежно на почве такого поведения они вступают между собою в различные связи. Именно в силу таких связей между людьми их совокупность и выступает как реальная совокупность, выступает как общество.
Характер связей, существующих в обществе, естественно, всегда находится в тесном соответствии со структурой потребностей людей и с типом тех актов поведения, которые они предпринимают для удовлетворения потребностей. Вместе с тем эти связи в своем конкретном проявлении столь бесчисленно многообразны, столь обычны для нас, что, как и все многообразное и обычное, с трудом поддается анализу и систематизации. Можно сказать, что связи между людьми могут возникать на почве актов поведения, протекающих по любой схеме мотивации, в связи с любой сферой потребностей и в любой форме. Поэтому их можно было бы систематизировать по тем же принципам, что и сами акты поведения. Однако такой путь был бы не только ненужным повторением, но вместе с тем не позволил бы выявить некоторые специфические черты строения общественных связей, так как связи на почве актов поведения уже не суть просто акты поведения, а нечто новое и своеобразное. Между тем выявление специфических сторон строения этих связей имеет решающее значение для понимания структуры всего общества.
В самом общем смысле социальная связь сводится к тому, что участники на почве актов своего поведения включаются в новую обстановку, в новую среду, к которой принадлежат другие участиики этой связи с их актами поведения и результатами этого поведения, испытывают воздействие этой среды, в той или иной мере [воздействуют на нее]. И весь вопрос анализа сущности социальной связи состоит в том, чтобы выяснить, как происходит это включение, в чем состоит воздействие на среду и среды на участников связи. Прежде чем дать общий ответ на эти вопросы, рассмотрим важнейшие типы социальной связи.
Связь между людьми, находящимися в данное время в данном месте и, следовательно, воспринимающими акты поведения друг друга непосредственно своими органами чувств, можно считать непосредственной связью. Такая непосредственная связь устанавливается на основе актов труда физического и умственного в виде сотрудничества, на основе борьбы, игр, совершения ритуальных процессов и т. д. Возьмем для более пристального анализа случай сотрудничества простого или сложного. Сотрудничество, или выполнение общей работы на основе простого или сложного разделения труда, имеет исключительно широкое распространение и огромный удельный вес в жизни общества. Легко видеть, что сотрудничество, раз оно установилось, в первую очередь есть материальная, физическая связь между людьми. Выполняя совместно ту или иную работу путем физического воздействия на вещи, люди физически, материально связываются с ними, а через них и между собою[127].
Сотрудничество при этом представляет собой материально не просто связь, а связь-взаимодействие. Каждый участник работы оказывает известное воздействие на других и испытывает в свою очередь их воздействие на себя. Если известное звено работы выполняется лицом, А и выполняется в определенный момент определенным образом, то это в той или иной мерю уже материально воздействует на то, когда и как выполняются другие звенья работы лицами В, С, D и т. д. И обратно. С полной отчетливостью такое материальное взаимодействие работающих выступает, например, при работе по принципу конвейера. Но в той или иной форме оно имеет место в условиях всякого сотрудничества.
Однако связь-взаимодействие при сотрудничестве имеет не только материальный характер. Факт сотрудничества создает для каждого участника новую среду, новую обстановку, которая действует на его психику. На нее действует самый процесс совместной работы, действу[ет] движение, жесты, слова, выражения лиц окружающих. Все это также материальные элементы и факторы. Таким образом, мы встречаемся здесь как бы со второй цепью материальной связи участников. Однако эта вторая цепь имеет здесь значение не столько как таковая, сколько как раздражитель определенных психических переживаний у каждого участника сотрудничества. Эти переживания состоят в известной системе понятий и представлений о сущности, смысле и задачах выполняемой работы, о поведении и переживаниях ее участников, а также в известной сумме эмоциональных и чувственных переживаний, которые сопровождают указанную систему понятий и факт собственного участия в работе. Вся эта совокупность переживаний, возникающая под влиянием сложившейся обстановки, влияет на психическое состояние участника работы и отражается на его поведении, т. е. на процессе его работы. И т[ак) к[ак] сказанное можно применить к каждому участнику, то можно сказать, что при сотрудничестве между участниками устанавливается и психическая связь-взаимодействие. Факты показывают, что эта связь психически сближает сотрудничающих. В той или иной мере у них сглаживаются индивидуальные черты в актуальном психическом состоянии и выявляются общие черты, делающие их как бы частью какого-то объемлющего целого, создается общий ритм в работе, подчиняющий их. И если сотрудничество по своему эффекту дает больше, чем соответствующая простая сумма не связанных индивидов, то это является несомненным результатом не только чисто материальной связи сотрудничающих и технических преимуществ сотрудничества, но также и указанной психической связи.
Наконец, связь участников сотрудничества содержит в себе и некоторые идеальные элементы. Действительно, мы видим, что между ними существуют реальные материально-психические связи и взаимодействия. Этот факт связи, факт сопринадлежности каждого из участников сотрудничества к связанной совокупности в той или иной мере осознается ими. Самый процесс осознания является, как говорилось, психическим процессом и элементом психического взаимодействия. Но получающееся в результате этого понятие о связи и сопринадлежности отдельных лиц к совокупности по своему содержанию является уже не психическим, а идеально-логическим феноменом. И ясно, что чем прочнее реальные связи, тем интенсивнее психический процесс взаимодействия, тем больше оснований для выявления идей связи в сознании отдельных участников сотрудничества. И обратно, чем сильнее будет выявлен идеальный момент связи, тем теснее и прочнее может быть реальная связь.
Итак, анализ приводит нас к заключению, что непосредственные связи при сотрудничестве необходимо и одновременно содержат в себе материальный, психический и идеальный моменты. Нужно сказать теперь, что по существу то же самое наблюдаем мы и во всех других случаях непосредственных связей. Основные различия сводятся здесь лишь к особенности класса актов поведения, на основе которых возникают связи, к интенсивности связей, к различному относительному значению отдельных из указанных моментов. Так, если взять, например, связи на почве выполнения религиозного ритуала, коллективных игр, политических действий и т. п., то мы увидим, что здесь материальная связь, названная выше первичной, отсутствует, но вторичная материальная связь имеет полную силу, так как почти каждый акт участника связи облекается в ту или иную материальную форму и лишь при этих условиях он отвечает предъявляемому к нему требованию. Однако и в связи со сказанным, и в силу природы относящихся сюда актов поведения здесь с гораздо большей силой выступает психическое взаимодействие, взаимообмен идеями и верованиями, взаимозаражение эмоциями и чувствами. Равным образом яснее выступает здесь и идеальный момент связей в виде связывающей участников взаимодействия идей сопринадлежности к единой системе верований, к тому или иному кругу политических идей и т. д.
Однако люди находятся, хотя и в то же время, но в разных географических пунктах или даже в различных пунктах и в различное время. И тем не менее связь между ними может существовать и существует. В отличие от рассмотренного выше типа мы назовем ее опосредованной. Причем она в свою очередь имеет два различных и весьма важных вида. Прежде всего можно говорить об опосредствованной связи между людьми, хотя и разделенных географически, но действующих в общем в одно и то же время. Как и в случае непосредственной связи, здесь связь может возникать на почве любых актов поведения. Поэтому для ясности возьмем для более детального рассмотрения [связь] на почве сотрудничества и разделения труда. Возьмем, например, крестьян, производящих в деревне лен, рабочих, перерабатывающих его в городе в пряжу, и рабочих, перерабатывающих пряжу в другом городе в холст. Совершенно бесспорно, что между всеми этими людьми, хотя и разделенными географически, будет существовать разделение труда, будет существовать и связь. Связь эта имеет прежде всего материальный характер. Так, ее существование предполагает материальный процесс производства как в городе, так и в деревне, материальное передвижение льна, пряжи и холста. Но эти материальные связи, эти новые условия существования участвующих в сотрудничестве лиц одновременно предполагает у них известные психические переживания, состоящие в понимании механизма связи и его требований, в сопровождающих его эмоциях, чувствах и волевых усилиях. И поскольку неизбежен этот психический процесс, поскольку он приводит к более или менее отчетливому выяснению в сознании участников сотрудничества его наличия, строения и значения, постольку, очевидно, кристаллизуется самая идея связи, т. е. имеет место и идеальная сторона ее. Наконец, легко видеть, что анализируемая связь неизбежно имеет характер двусторонний, представляет собой опосредственное взаимодействие, т[ак] к[ак] объем, темпы, качество и т. д. действий любой группы участников сотрудничества теми или иными путями порождают соответствующую реакцию со стороны других. Эта реакция выражается в понижении или повышении цен на продукт, в отказе принимать его или, наоборот, в усиленных требованиях его и т. п. Очевидно, что такие реакции представляют собой наряду с основной связью сотрудничества ряд новых цепей взаимодействия, которые в свою очередь предполагают материальную связь между людьми (сообщение почтой, телеграфом и т. д.), заявлений и требований, соответствующие психические процессы на той и другой стороне и те идеи, которые формируются на основе этих процессов. Таким образом, и в случае сотрудничества на расстоянии мы вскрываем в составе связи те же три неотделимые стороны: материальную, психическую и идеальную. Но можно без преувеличения сказать, что значительная часть всей деятельности в сфере физического труда в обществе (а эта сфера чрезвычайно велика) опирается на начала сотрудничества людей, или находящихся вместе, или в условиях географического разделения. Следовательно, все общество как толстыми канатами как бы пронизано рассмотренными связями. Вместе с тем почти вся область умственного, и в частности научного, труда в обществе протекает в условиях указанного опосредствованного взаимодействия. Правда, здесь не с такой отчетливостью выступает момент материальной связи. Но все же он, хотя и в иной форме, есть. Работа ученого в лаборатории или у себя в кабинете протекает в условиях непрерывного наблюдения за тем, что делается другими учеными в данной и в смежных областях. А это предполагает ряд материальных процессов: процесс написания соответствующих работ, их публикацию, передвижение напечатанной литературы, ее чтение и т. д. Вместе с тем здесь, несомненно, значительно сложнее присущие связи психические моменты и отчетливее выступают идеальные моменты, т[ак] к[ак] по самому существу речь идет о распространении и защите той или иной суммы идей. Но опосредствованную связь в виде взаимодействия мы находим не только на почве различных видов сотрудничества, а также на почве актов поведения в области религии, искусства, политической деятельности и т. д. Иначе говоря, эти связи охватывают все стороны человеческой деятельности. И именно они делают реальной связанной совокупностью, или обществом, не только людей, которые живут в данное время, в данном месте и, следовательно, могут непосредственно видеть, слышать друг друга, но и людей, живущих в данное время в условиях географического разделения. Отсюда с полной ясностью выступают такие социальные функции различных материальных средств сообщения, как водные пути, дороги, почта, телеграф, телефон, радио и т. д. Очевидно, что чем совершеннее эти средства, тем интенсивнее может быть социальная связь физически разделенных людей, тем шире могут простираться границы единой реальной совокупности — общества.
Однако сказанным формы связи между людьми не исчерпываются. Наряду с опосредствованной связью-взаимодействием необходимо выделить опосредствованную связь-воздействие. Когда в каждый данный момент живущие люди совершают акты физического труда, они пользуются орудиями и средствами производства, организационными методами и навыками, перешедшими от предыдущих поколений. Когда они совершают акты умственного труда, они опираются на сумму идей, добытых этими поколениями и зафиксированных в книгах, журналах. Когда они проявляют себя в сфере искусства, религии, политики, права и т. д., они отправляются от совокупности тех верований, тех достижений и духовных течений, которые перешли от прошлого. Совершенно ясно поэтому, что каждое данное поколение людей в своем поведении связано т[аким] о[бразом] с поведением предшествовавших поколений. Эта связь имеет очевидно опосредствованный характер. И так как она состоит неизбежно лишь в действии прошлого на настоящее, то в отличие от случая опосредствованной связи между современниками такую связь мы называем опосредствованной связью-воздействием. Но что касается ее состава, то он здесь по существу тот же, что и в других рассмотренных случаях. Так же, как и там, мы находим здесь в ней материальную связь через посредство сохранившихся орудий и средств производства, печатных произведений, памятников искусства, религии и т. д. Так же, как и там, эта связь включает в себя те психические процессы, которые вызываются остатками прошлого, и те идеи, которые выявляются в этих процессах и которые состоят в понимании действий прошлых поколений, в понимании преемственности современного в отношении прошлого, в уяснении сопринадлежности к тем или иным общим духовным течениям и материальным устремлениям.
В дополнение к сказанному необходимо отметить, что связь между людьми любого из рассмотренных типов, возникшая на основе тех или иных видов поведения, может быть более или менее устойчивой. Под более устойчивой связью разумеется та, которая, сложившись на основе определенных видов поведения, в основном регулярно сохраняется в прежних формах относительно более продолжительное время. Ясно, что с точки зрения устойчивости связи имеют почти безграничную гамму переходов, начиная от мимолетных до очень устойчивых, почти постоянных. Человек может познакомиться с другим человеком случайно в поезде, в театре и затем уже никогда не встретить его. И тот же человек может почти всю жизнь работать на одном и том же предприятии, жить в одной и той же семье и т. д.
Итак, мы видим, что связи между людьми, возникая на основе самых различных актов поведения, бывают или непосредственными, или опосредствованными. В первом случае они всегда являются двусторонними, являются связями-взаимодействиями. Во втором же случае они бывают или связью-взаимодействием, или связью-воздействием. Наличие этих трех основных типов связи выясняет, почему реальной является не только совокупность людей, живущих в одном и том же месте, но и людей, географически разделенных между собой. Оно выясняет также, почему реальная совокупность людей существует не только в данный момент, но имеет и длительное существование. Мы видели далее, что как непосредственные, так и опосредствованные связи имеют различную степень устойчивости. Ниже будет показано, что устойчивость связей имеет ближайшее отношение к вопросу об организационном строе общества. По своему составу связь всегда и одновременно имеет материальный, психический и идеальный характер.
Говоря об обществе, мы всегда имеем в виду совокупность, большое число людей, входящих в него. Отсюда в области поведения их мы имеем дело с явлениями массового поведения. Если учесть большое число действующих лиц и тот факт, что каждое из них способно в свою очередь произвести большое число актов поведения, то станет ясным, что по самому существу вопроса в обществе перед нами развертываются целые потоки актов поведения.
Как мы уже видели, между людьми на почве их поведения устанавливаются различные связи. Но если лицо А непосредственно или опосредствованно связано с лицами Аа А'" и т. д., то каждое из последних связано соответственно с какими-либо лицами В/у В", В*… С С", С" ., ?>',D" yD" 'и тд. Последние связаны с новыми категориями лиц, часть из которых, быть может, в свою очередь связана с некоторыми из уже упомянутых лиц А, А В*, С" ' и т. п. Этой упрощенной схемой мы хотим иллюстрировать ту бесспорную мысль, что связи на почве поведения так или иначе охватывают и объединяют всю совокупность лиц, входящих в данную совокупность или общество. Конкретно между одними лицами связи эти слабее и имеют преимущественно одни формы, между другими они прочнее, устойчивее и имеют преимущественно иные формы. Но в той или иной степени, в той или иной форме они существуют между всеми элементами общества, объединяют все эти элементы в единую объемлющую первоначальную совокупность, именуемую нами обществом.
То обстоятельство, что акты поведения, на почве которых люди, входящие в состав общества, вступают между собой в связи и различные отношения, имеют в основе массовый характер, влечет за собой последствия, чрезвычайно важные для понимания природы общества и общественных явлений. Немецкий философ и психолог В. Вундт формулировал положение, известное под именем закона гетерогонии целей. Согласно этому закону под влиянием среды, и в частности общественной среды, те цели, которые ставятся себе отдельными лицами, никогда не осуществляются в точном соответствии с первоначальными предположениями, а всегда с теми или иными уклонениями от них. Иначе говоря, результат действия человека в общественной среде в той или иной мере является независимым от самого человека, является, следовательно, какимто новым, специфическим продуктом, который не может быть понят исходя из строя индивидуальной психики человека. Закон гетерогонии целей, формулированный Вундтом, не вызывает сомнений. Он является прямым указанием на то, что факт связи и взаимоотношений между людьми в процессе их поведения служит условием, в силу и на почве которого и возникают явления sui generis — социальные явления, требующие специального изучения. Однако для полного уяснения вопроса о специфичности социальных явлений от всех других видов явлений действительности он должен быть значительно расширен.
Мы знаем, что человеческие действия протекают не только по схеме целевой мотивации. Но если целевые действия человека, сталкиваясь с массовым воздействием со стороны других людей, отклоняются от намеченной цели и приводят к результатам, уже не зависящим от индивидуальной воли, то очевидно, что и все человеческие действия, по какой бы схеме они ни протекали, в условиях массовых связей и взаимодействия приводят к иным, не зависящим от индивида, результатам, чем те результаты, которые получились бы при отсутствии взаимодействия. Иначе говоря, не только условия, но и всякое поведение человека в условиях массовых связей и взаимодействия подвержено закону гетерогонии. И оно подвержено не только закону гетерогонии, но одновременно и закону полной или частичной деперсонализации результатов. Действительно, если на основе сотрудничества группой людей воздвигается дом, прокладывается железная дорога и т. д., то здесь мы сталкиваемся не только с тем фактом, что поступки отдельных участников работы отклонялись от индивидуальных предположений, но также и с тем, что продукт труда является продуктом коллективного труда, в котором уже невозможно с определенностью выделить долю работы каждого участника. Продукт труда деперсонализировался. И это станет еще яснее, если мы примем во внимание, что кирпичи, рельсы, стены и др. материалы для дома и железнодорожного пути и также те орудия производства, которые употреблялись при их создании, произведены целою цепью других людей. Если мы возьмем, например, нормы обычного права, народную поэзию и т. п., то, несомненно, они кем-то были созданы. Но они созданы не одной личностью, а массой в процессе длительного взаимодействия. И продукт этого массового создания является не только гетерогенным в отношении действий каждого участника процесса его создания, но и деперсонифицированным. Если взять литературу, науку, то здесь на отдельных продуктах творчества стоит печать индивидуальности художника, ученого. Здесь нет всецелой деперсонализации. Но история литературы, история науки убедительно доказывают, что каждый художник и каждый ученый есть дитя своей эпохи, есть наследник всего прошлого литературы и науки и что в его творчестве, в его приемах и результатах всегда есть значительная доля независимого от индивидуальности.
Таким образом, можно утверждать, что в силу процесса взаимодействия человеческое поведение подчинено закону гетерогонии его результатов и частично или полной их деперсонализации.
Эти результаты процесса взаимодействия, гетерогенные и в той или иной мере обезличенные в отношении отдельного человека, уже не могут быть поняты исходя из свойств отдельного человека. Они представляют собой новые специфические явления, свойственные лишь совокупности людей, или обществу. Их мы и рассматриваем как социальные явления. Причем, т[ак] к[ак] процесс взаимодействия по самому существу имеет массовый характер, не подчиненный воле отдельных лиц, то в самой основе своей социальные явления имеют черты стихийности, подвержены естественной закономерности, о чем нам придется говорить подробнее еще ниже.
Итак, мы видим, что жизнь общества представляет собой массовый, стихийный поток связей и взаимодействия между людьми на основе их действий или поведения. Мы видим также, что эти связи всегда и с неизбежностью, хотя в различных случаях и в различной мере, есть и связи на основе тех или иных идей. Нередко, как в случаях связей на почве познавательной, религиозной, политической и т. п. деятельности, идеи являются по существу даже прямым и основным объектом связи. Акты массового поведения, приводящие к установлению той или иной связи между людьми, как таковые совершаются во времени. Возникнув и установив ту или иную связь, они могут прекращаться с тем, чтобы позднее возникнуть вновь в прежней или в какой-нибудь иной форме. Иначе говоря, акты поведения как таковые прерывны. Но те связи, которые возникают на их основе, в частности связи на почве идей, раз они возникли, продолжают пребывать, пока они не будут вытеснены связями на почве каких-либо иных идей. Поэтому если в каждый данный момент мы произведем как бы поперечный разрез потока общественной жизни и посмотрим на этот разрез с точки зрения наличия в нем идей, то мы обнаружим, что общество всегда располагает известным строем идей. Если мы произведем далее продольный или временный разрез потока общественной жизни, то мы увидим, что вместе с ходом общественной жизни, вместе с ее изменениями меняется и строй коллективных идей.
Строй или сумму идей, которая имеется в данном обществе, можно назвать идеологическим рядом общества. Идеи, о которых здесь идет речь, по своей природе различны. Сюда относятся познавательные, и в частности научные, понятия, суждения, правовые и нравственные представления, политические понятия и идеалы, религиозные верования, эстетические представления и тл. Но каковы бы ни были эти различные идеи по своему содержанию, они все характеризуются тем, что являются коллективными идеями. Последнее положение нельзя, разумеется, понимать в том смысле, что имеется какое-то коллективное существо, обладающее умственными способностями и порождающее все эти идеи. Идеи возникают и психически переживаются только в индивидуальном сознании отдельных людей. Но как ясно уже из предыдущего изложения, особенно при формулировке закона гетерогонии, идеи возникают в индивидуальном сознании всегда при наличии воздействия на него прошлого и окружающей общественной среды, и следовательно, при воздействии уже ранее существовавших чужих идей. Поэтому уже в самом своем зарождении по своему содержанию идеи никогда не являются чисто индивидуальным созданием. Индивидуальным является в данном случае преимущественно тот биопсихический процесс, который предполагается возникновением идеи. Далее, после своего возникновения идея через процесс связи и взаимодействия поступает в общественный оборот. Здесь она сталкивается с другими родственными или, наоборот, враждебными чужими идеями. В порядке взаимодействия и многообразного жизненного опыта в сознании массы людей различные идеи скрещиваются между собой, борются и согласуются друг с другом. И в конечном счете побеждают и выживают те идеи, которые наиболее полно и совершенно отвечают соответствующему, т. е. научному, эстетическому, религиозному и т. д. коллективному опыту и выживают в том виде, в каком они больше всего отвечают ему. Причем выжившей считается именно та идея, которая из индивидуальной стала в той или иной степени коллективной, то есть получила признание многих. Эти многие не обязательно все общество: всеобщее признание получают лишь редкие идеи, за которые говорит действительно всеобщий, относительно простой и устойчивый опыт. Таковы, например, некоторые научные, в частности математические, идеи. Как правило же, те или иные идеи получают признание лишь в известных общественных кругах. Но и в этом случае они оказываются коллективным достоянием.
Становясь коллективной, идея или совершенно теряет связь с лицом (или лицами), впервые формулировавшим ее. В таком случае мы будем иметь перед собой проявление закона деперсонификации в полной мере. Эго имеет место, например, в отношении различных религиозных догматов, произведений устной поэзии, норм обычного права и т. д. Или она сохраняет связь с автором, существуя, однако, уже независимо от него, независимо от того, жив он лично или нет, продолжает он ее защищать по-прежнему или нет.
В этом отрыве идей от породивших их лиц, а также от судьбы отдельных лиц, разделяющих их, проявляется один из самых основных признаков коллективно-социальной природы идей, живущих в обществе. Действительно, как лица, формулировавшие идею, так и отдельные лица из разделяющих ее могут жить и умереть, могут по-прежнему защищать эту идею или не защищать и даже отказываться от нее, она продолжает свое бытие, пока существуют соответствующие социальные условия, пока она отвечает наличному коллективному опыту и соответственно пока не появятся новые идеи, которые ее вытеснят и заменят. Тоща она отойдет в историю. Так, Кант, Маркс и др. умерли, отдельные кантианцы и марксисты жили и умирали, защищали свои идеи или отказывались от них. Но идеи Канта, Маркса и др. продолжают жить.
Другим признаком индивидуальной коллективной природы рассматриваемых идей является то сопротивление со стороны окружающей среды, принимающей данные идеи, которое встречает попытка со стороны отдельного лица отступить от них, изменить или упразднить их. Для доказательства достаточно напомнить события из истории религиозных расколов, политической борьбы, из истории борьбы новых научных идей, пытавшихся вытеснить прежние господствовавшие идеи. Эти факты убедительно показывают, что существующая в данном обществе или в той или иной его части система идей является не чем-то внешним и иллюзорным, а совершенно объективным фактом, имеющим определенные и прочные связи со всей системой общественной жизни и поведения людей.
Мы назвали господствующие в обществе идеи системой идей. Так оно и есть в действительности. Наличные коллективные идеи на практике представляют собой не хаотическую сумму, а организованную систему или, точнее, системы идей. Эта организованность их сказывается прежде всего в том, что идеи более или менее отчетливо дифференцируются по специальным областям жизни и деятельности, к которым они имеют отношение. Отсюда именно мы и говорим о научных, религиозных, правовых, эстетических и т. п. идеях, учениях и верованиях. С другой стороны, в пределах каждой такой области они всегда имеют внутреннюю иерархию по степени общности, важности, актуальности. Причем в одной и той же области, например в области политических или религиозных идей, мы можем наблюдать две и даже более сосуществующие мирно или, наоборот, конфликтно системы идей. Такая организация идей является отражением, с одной стороны, внутренней логики строения и связи каждой данной сферы идей. Но, с другой стороны, как будет видно дальше, она является отражением строения самого общества и соответственно организации всего общественного поведения.
Система идей как таковых не имеет пространственно-временного бытия. Но она находит символическое отображение в языке, в печати, в памятниках искусства. Здесь они как бы застывают в неизменном и потенциальном виде. Живыми и действительными они становятся конкретно лишь тоща, коща индивидуальное сознание человека под влиянием указанных материальных символов и отображений идей или под влиянием внутренних психических процессов воспроизводит их. Тоща они выступают как фактор стимулирования, ориентации и связи актов человеческого поведения, тогда, преломляясь через индивидуальную психику, они становятся социальными силами. Разумеется, каждое индивидуалы ное сознание, создавая идею или воспроизводя уже наличную коллективную идею, всегда допускает известную, большую или меньшую долю индивидуализма и партикуляризма. Но если это индивидуальное сознание или только наслоение не превращается в коллективное, оно проходит с общественной точки зрения более или менее бесследно и исчезает. Выживает и входит в систему коллективных идей, как мы видели, лишь то, что становится коллективным продуктом создания или по крайней мере признания.
Но процесс взаимодействия имеет не только идеальную, но и психическую сторону. Поэтому, если бы мы обратили внимание не на самый процесс и механизм установления связи, а взяли бы поток связей и взаимодействия, произвели бы поперечный или продольно-временной разрез его, то должны были бы обнаружить, что вместе с идеологическим рядом существует и ряд коллективно-психический. Сюда относятся коллективные представления, чувства, эмоции, волевые устремления. Как и о коллективных идеях, о коллективных чувствах, эмоциях, волевых импульсах равным образом не может быть речи в том смысле, что есть коллективное существо, переживающее эти чувства, эмоции и т. п. Чувства и эмоции переживают конкретные люди. И если речь идет о коллективных представлениях, чувствах, эмоциях, то лишь в том смысле, что в определенных условиях чувственно-эмоциональные и волевые переживания связанных между собой индивидов А, В, С, D… оказываются друг другу близкими, созвучными; они друг друга усиливают и увлекают, и притом так, что отдельный индивид не в состоянии противостоять такому общему потоку, не в состоянии приостановить или повернуть его, увлекается им и увлекает за собой других.
Реальность таких коллективных психических переживаний в условиях общественной жизни оспаривать нельзя. Наиболее ярко они проявляются в эпохи революций и вообще национальных подъемов или, наоборот, в эпохи национального упадка, в сценах религиозного экстаза, сильных действий театра, в явлениях различных видов толпы и вообще всюду, где обнаруживается влияние массового гипноза, внушения, заражения и подражания. Однако в менее ярких формах они имеют место и в обыденной общественной жизни, т[ак] к[ак] и в ней на каждом шагу обнаруживают свое действие внушение, заражение, подражание.
Почвой для таких коллективно-психических переживаний служит прежде всего и в основном единство биопсихической организации человека и отсюда способность ее единообразно реагировать на соответствующие раздражители. Как мы уже говорили и как увидим еще ниже, биопсихическая организация человека находится под сильнейшим воздействием общественных условий жизни. Следовательно, склонность к коллективизму переживаний прививается самой биопсихической организации человека условиями коллективной жизни. С другой стороны, та же общественная среда в процессе взаимодействия людей ставит их в среду общих и сильно действующих раздражителей, т[ак] к[ак] среди этих раздражителей выступают окружающие люди с их поведением, с их идеалами, радостями и страданиями. Отсюда понятно, почему в этих условиях и реакции сначала в виде переживаний, чувств и эмоций, а затем в виде действий под влиянием внушения и заражения со стороны окружающей общественной среды принимают коллективный характер.
Таким образом, реальность коллективно-психического ряда общества нужно признать. В сущности его изучением и занимается специальная наука, известная под именем коллективной психологии. Однако если идеи поддаются точному и объективному констатированию и выражению, то этого нельзя сказать о коллективнопсихических переживаниях. И если тем не менее даже при изучении идей возникают затруднения в связи с разграничением чисто индивидуальных и коллективных идей, то при изучении коллективно-психических переживаний разграничить их от индивидуальных в значительной мере просто невозможно. Эго еще более или менее доступно там и тоща, где и когда коллективно-психические переживания выступают с большой силой и яркостью, как в случаях массового экстаза, паники и т. п. Но в нормальных условиях повседневной жизни общества этого нет, и коллективно-психические переживания, хотя они, несомненно, имеют место, неуловимы. Их невозможно ни систематизировать, ни точно описать, ни поставить в связь с другими явлениями. В этом отношении коллективная психология, пытающаяся исследовать коллективно-психические явления как таковые субъективным методом, разделяет печальную судьбу индивидуальной психологии: не будучи в состоянии точно и объективно констатировать факты, она не в состоянии получить и точных объективных выводов. Как и в случае с субъективной психологией, выход приходится ожидать от перехода к изучению закономерных отношений между внешними раздражителями и массовыми акциями, или массовым поведением человека, т. е. от перехода к объективному методу коллективной рефлексологии. Однако, во-первых, такая дисциплина еще не сложилась, а вовторых, она была бы тогда изучением не коллективно-психического ряда как такового, а ряда социального. Эго не было бы, конечно, отрицанием реальности коллективно-психического ряда, а лишь методологическим преодолением трудностей его непосредственного изучения. Из сказанного можно сделать во всяком случае следующий методологический вывод: на данной стадии знания при изучении общества следует избегать выражать явления в терминах коллективно-психического ряда, тем более следует избегать объяснения других явлений через явления этого ряда; но вместе с тем всегда необходимо учитывать его существование, и там, где это безусловно необходимо и по состоянию наших знаний возможно, следует пользоваться и категориями этого ряда.
Человеческие отношения и связи, как мы видели выше, всегда имеют свою материально-физическую сторону. Акты поведения и, в частности трудовые акты, направленные на вещи природы, материально связывают людей через систему тех самых вещей, которые подвергаются их физическому воздействию. Связи на почве познавательной, религиозной, эстетической и т. п. деятельности в силу того, что идеи, представления, чувства и эмоции не могут передаваться иначе, как при посредстве элементов материального характера, равным образом предполагают материальнофизическое воздействие людей друг на друга при помощи жестов, звуков, красок и т. д. Вот почему представляется, казалось бы, понятным и естественным, что в структуру общества входят вещи с той же необходимостью, как входят идеи и коллективно-психические переживания[128].
Однако это представляется понятным и ясным лишь на первый взгляд. При более внимательном изучении вопроса оказывается чрезвычайно трудным сказать, входят ли в состав общества также и вещи, и если входят, то какие именно и в каком смысле. Можно сказать, большинство социологов и социологических школ или отвечают на этот вопрос прямо отрицательно, или же обходят его молчанием. Однако по существу на него необходимо дать утвердительный ответ, и вся трудность вопроса состоит собственно в том, чтобы уяснить, какие именно материальные вещи и в каком смысле входят в состав общества.
Прежде всего те внешние вещи, которые являются нейтральными в отношении личных или коллективных потребностей, остаются, очевидно, совершенно вне круга общественных связей и не имеют никакого отношения к строению общества. Но и те вещи, которые имеют прямое или косвенное отношение к удовлетворению этих потребностей в каждый данный период, резко распадаются на две категории. Первая из них — это вещи, которые прямо или косвенно служат удовлетворению потребностей, но даны от природы практически в неограниченном количестве, и притом в таком виде, что использование их не требует той или иной предварительной их трансформации. Примером таких веществ могут служить в обычных условиях воздух, солнечные лучи, часто, но далеко не всегда вода, в ранние исторические эпохи земля и т. д. Такие вещи представляют собой просто данную естественно-природную среду общества. Люди пользуются данными вещами как элементами природы. В некоторых случаях они являются естественными материальными проводниками взаимодействия между людьми. Но такие вещи не являются ни с какой стороны ни продуктом общественно-человеческой деятельности, ни объектом, около которого и по поводу которого завязываются человеческие отношения. И такие вещи равным образом являются в отношении структуры общества внешними, посторонними, они не содержат в себе ничего общественного.
Совершенно иное нужно сказать о второй категории вещей. Прямо или косвенно они служат удовлетворению потребностей. Но при этом одни из них от природы даны в ограниченном количестве и поэтому, а также ввиду своей общепризнаваемой полезности становятся предметом вожделений и тех или иных общественных отношений. Например, в некоторых случаях земля, лес, в засушливых районах вода и т. д. Другие даны природой, быть может, и в неограниченном количестве, но для своего использования требуют предварительной трансформации, как добыча из недр земли, передвижение из отдаленных районов, комбинация с другими вещами и т. д. Наконец, третьи, и таких в данной связи, быть может, большинство, объективно ограничены количественно и вместе с тем требуют для своего использования предварительной трансформации. Таковы различные изделия, продукты потребления, орудия производства и т. д. Причем в некоторых случаях требуемая трансформация настолько глубока, что получающиеся в результате ее вещи не имеют почти ничего общего с составляющими их вещественными элементами. Признак ограниченности здесь имеет отношение преимущественно к материальным элементам. Что же касается вещи в целом, то она является не только количественно ограниченным, но и в прямом смысле редким созданием человека. Таковы некоторые сложные технические изделия, произведения архитектуры, живописи, скульптуры.
Эти вещи второй категории, и прежде всего те из них, которые возникают в результате трансформации элементов природы, есть продукт общественной жизни, возникают в процессе и на основе отношений и взаимодействия людей. Они возникают на почве физического и умственного сотрудничества; в них находят выражение накопленные обществом знания и технические навыки, в них выражаются существующие или даже господствующие в обществе художественные, религиозные и моральные воззрения. И не только находят свое выражение, но и фиксируются, как бы застывают. В силу этого такие вещи к составу тех физико-химических свойств, как цвет, вес, объем и т. д., которыми они или их элементы обладали от природы, присоединяют новое свойство, которое ранее они не имели. Это свойство получено ими под влиянием общественной жизни и имеет общественную природу. 'Благодаря ему они оказываются в состоянии выполнять в обществе определенную роль, отправлять известную функцию, а именно функцию удовлетворения определенного круга потребностей, индивидуальных или коллективных. Но если это так, то очевидно, что обладать и располагать такими вещами в обществе — значит обладать и располагать известной потенциальной силой, властью, возможностью удовлетворения существующих в обществе потребностей. Именно поэтому такие вещи в свою очередь выступают как центры притяжения и вожделения, как центры, около которых завязываются определенные общественные отношения, отношения борьбы за их обладание, отношения между обладающими ими и всеми прочими, отношения дарения, обмена и т. д. Иначе говоря, вещи эти выступают в качестве точек скрещения общественных сил и отношений как бы в двоякой степени: с одной стороны, в фазе их формирования или создания, из которой они и выходят как конденсаторы определенных общественных качеств и свойств, с другой — в фазе решения вопроса об их обладании.
Все такие вещи, помимо своего ординарного физического бытия, имеют еще и бытие социальное. Они входят необходимым элементом в структуру общества. Причем из предыдущего ясно, что они имеют социальный характер и входят в строение общества не в силу своих чисто естественных свойств, а в силу того, что, обладая известными естественными свойствами, они вместе с тем становятся средоточением общественных отношений и взаимодействия, видоизменяют в связи с этим в той или иной мере свою чисто природную конфигурацию свойств, приобретают новые свойства и становятся носителями известных общественных функций. Следовательно, и в них нас интересует не их физическая природа, а природа общественная. Знание же физической природы, чрезвычайно важное и необходимое в любой другой связи, здесь при анализе общества и общественных отношений может иметь лишь вспомогательное значение для уяснения социальной природы вещей.
Указанные категории вещей как таковых составляют поэтому материальную сторону общественной жизни, материальную сторону общественной культуры. В них, как указывалось уже выше, духовная культура общества находит свое материальное выражение. Эта материализация общественного духа в силу устойчивости вещного мира сообщает всей жизни общества глубочайшую устойчивость и преемственность во времени. Именно в силу такой материализации культуры достижения и завоевания одного поколения переходят к поколениям грядущим. Они переходят к ним в виде культивируемых полей и лесов, в виде воздвигнутых зданий и проложенных путей, в виде созданных орудий производства и предметов домашнего обихода, в виде напечатанных книг, музыкальных произведений, воздвигнутых памятников, картин, храмов, музеев и т. д. Новые приходящие поколения воспитываются в обстановке унаследованной материализовавшейся культуры отцов, видоизменяют и дополняют ее, передавая ее в свою очередь новым поколениям. Таким образом, общественная жизнь льется, подобно реке, то спокойно и плавно, то бурно и стремительно. Причем материальный строй ее является как бы теми берегами общественной культуры, которые удерживают реку в определенном русле, прочно обеспечивает ее преемственность и целостность.
Факт материализации общественных отношений и духовной культуры общества служит, далее, важнейшей основой протяженности общества и общественной жизни в пространстве. Идеально-психические явления, в том числе коллективные идеальнопсихические явления как таковые, не имеют пространственного измерения. То обстоятельство, что конкретным носителем их являются отдельные люди, имеющие физическую сторону своей организации и ориентирующиеся в физическом пространстве, устанавливает косвенно известную пространственную ориентировку и для общественных явлений. Однако наиболее прочно такая связь устанавливается именно тем, что духовная общественная культура материализуется и вещи, входящие в структуру общества, всегда имеют твердую ориентировку в физическом пространстве. Возделанные поля, построенные фабрики, воздвигнутые селения и города занимают определенное пространство и являются очагами концентрации общественной жизни и ее духовной культуры. Проложенные линии путей передвижения, почты, телеграфа, телефона, радио устанавливают связи между этими очагами. В результате именно на почве факта материализации общественных процессов мы можем говорить о границах, которые занимает то или иное общество или общественное образование, и о тех пространственных линиях, по которым идет их связь между собою. Таким образом, не имея возможности локализовать явления духовной общественной культуры непосредственно, косвенно — по пространственной ориентировке людей и особенно социальных вещей — мы всегда можем это сделать. И мы всегда это делаем, когда устанавливаем границы государств, городов, селений и т. д.
Вещи, которые, как показано выше, входят в структуру общества, представляют собой с определенной стороны общественные явления, выполняют свойственную им общественную функцию или реально, или лишь символически, или в одних случаях реально, в других — символически, или, наконец, в одно и то же время частью реально, частью символически. Мы говорим о реальном выполнении ими своей функции в том случае, когда, выполняя ее, они тем самым удовлетворяют именно той потребности, на которую опирается данная функция. Так, железная дорога, которая перевозит людей и грузы, машина, которая перерабатывает сырье, храм, который дает. приют молящимся, одежда и головной убор, которые защищают тело, — все они выполняют свои функции реально, т[ак] к[ак], выполняя их, они удовлетворяют именно тем потребностям, из которых и вытекают данные функции. Наоборот, о символическом выполнении функции вещами мы говорим в том случае, когда они, выполняя данную функцию, удовлетворяют по существу не ту потребность, которая за ней стоит, а иную, и притом всегда гораздо более значительную и важную, чем их прямая функция. Так, когда ценная бумага выполняет функции товара, когда вождь или царь облачается в присущие ему одежды и покрывает голову короной, когда красный лоскут материи водружается над толпой в виде знамени, то во всех этих случаях вещи, выполняя данные функции, в действительности удовлетворяют иным потребностям, чем те, на которые [они] опираются. Они выступают здесь в качестве вещей, символически удовлетворяющих иным потребностям. Ценная бумага выступает в качестве символа реальных хозяйственных ценностей, одежда и корона царя выступают не столько в качестве одежды и головного убора в собственном смысле слова, сколько в качестве символа величия и власти; красный лоскуток — в качестве символа революционного единства и решимости массы и т. д. Нетрудно видеть, что область символической роли вещей в общественной жизни чрезвычайно широка. Особенно значительна и глубока она в сфере искусства, религии, права, т. е. там, где трудно и часто даже невозможно найти прямое и адекватное вещное выражение тех или иных явлений.
Т[аким] о[бразом], мы видим, что, подобно действиям людей, вещи выполняют известные социальные функции, и притом, как и действия людей, выполняют их реально или символически. Иначе говоря, функции вещей как бы отражают функции людей. С другой стороны, в широком смысле слова все социальные ветци в известной мере символичны, т[ак] к[ак], являясь точкой пересечения взаимоотношения людей, они приобретают новые, физически не свойственные им социальные качества. Из сказанного проистекает чрезвычайно интересное последствие, которое можно было бы назвать вещным фетишизмом общественной жизни, который сводится к следующему. В общественной жизни отношения и взаимодействие существуют в конечном счете между людьми. Но так как общественные отношения материализуются, т[ак] к[ак] вещи в своем движении отображают движения и взаимоотношения людей, т[ак] к[ак] люди вступают во взаимоотношения между собой всегда при том или ином посредстве вещей, то людям начинает казаться, что вещи обладают особыми сверхъестественными свойствами быть ценностью, находить рынок, обладать прерогативами святости, величия, источника права и т. д. Иначе говоря, люди начинают наделять вещи физически не присущими им значительными свойствами, подобно тому, как дикари приписывали свойства всесильного божества истуканам. И если такой взгляд на истукана известен под именем фетишизма, то очевидно, что элементы фетишизма в той или иной мере пронизывают все отношения людей к вещам, входящим в структуру общества. Явление фетишизма было вскрыто Марксом в отношении товарного мира, в отношении взглядов людей на товары и было названо им фетишизмом товарного мира. Однако нет никаких оснований ограничивать его только средой товарного мира, когда оно проникает [в] сферу всей общественной жизни. Вместе с тем необходимо признать, что взгляд обычного человека на социальные вещи и наделение их свойствами, не вытекающими из физической природы этих вещей, констатирует факты правильно. Он правильно констатирует, что указанные вещи приобретают физически не свойственные [им] качества, и он отображает здесь подлинную реальность. Недостаточность такого взгляда с научной точки зрения начинается лишь с того пункта, ще он ограничивается констатированием факта и не хочет увидеть, что новые свойства вещей есть отражение или проекция на них общественных условий и отношений. Отсюда и преодоление лежит не в игнорировании его, т[ак] к[ак] он все же социальный факт, а в учете его и в выяснении действительности основы социальной природы вещей.
Итак, мы убедились, что бытие общества как реальной совокупности предполагает связи и взаимодействие между людьми на основе их поведения. Образование этих связей и взаимодействия представляет собой массовый и потому в основе своей стихийный процесс, который, подобно широкому потоку, движется все дальше и дальше. Этот процесс с необходимостью имеет три коррелятивные друг другу стороны и потому как бы слагается из трех рядов явлений: идеологического, коллективно-психического и вещного.
На протяжении всего предыдущего анализа мы оперировали понятием человека вообще, как атома общественной жизни, понятием актов поведения этого человека, понятием связи и взаимодействия людей. Но это не значит, что общество представляет собой реальную совокупность людей, занимающих в нем одинаковое исходное положение при своем поведении, не значит, что общество является вполне однородной и аморфной совокупностью. В действительности общество является в той или иной мере не только реальной, но и организованной совокупностью. Организация эта может быть одна или другая, она может быть схематична или детальна, плоха или совершенна. Но та или иная организация имеет место во всяком обществе, как имеет место в нем деятельность и взаимодействие людей, идеологический и вещный ряд проявления этого взаимодействия. И именно наличие организации лишает общество характера аморфной бесформенной совокупности.
Сущность всякой организации сводится к известному порядку, к порядку в отношении положения (людей, вещей, идей) и функций. Именно в этом смысле мы находим все признаки организации в обществе. Начало организации вносится в общество прежде всего тем фактом, что оно всегда в большей или меньшей степени не однородно, а дифференцировано по группам или по группам и специальным целевым объединениям. Это значит, что люди, входящие в состав общества, как бы расставлены по упомянутым группам и связаны с теми или иными целевыми объединениями. Степень дифференциации общества по группам на различных исторических этапах глубоко различна. Но основная тенденция развития, наблюдавшаяся в этом отношении до сих пор, состояла в росте и усложнении общественных группировок. Если взять современное сколько-нибудь развитое общество, то мы увидим в нем множество группировок. Так, можно говорить о группах общества по полу и возрасту, по семейному положению, о группах по районам жизни и деятельности, о социальных классах как общественных группах, о профессиональных группах, группах по общности религиозных, научных, эстетических и политических воззрений и т. д.
Достаточно, однако, приведенного перечня тех группировок, которые легко обнаружить в обществе, а перечень этот далеко не полный, чтобы заметить, что общественные группы по своей природе во многих отношениях глубоко различны. Совершенно ясно прежде всего, что группы эти различны по основаниям и причинам своего происхождения. В то время как одни из них имеют свои корни в биологических, естественных условиях и, следовательно, как бы навязаны обществу извне (группировки по полу, возрасту), другие имеют сложные биосоциальные основы (по семейному положению, по рассовым признакам), третьи, наконец, возникают в ходе жизни самого общества под влиянием общественных условий (классы и профессии, религиозные, научные и другие группы).
Нетрудно далее видеть, что одни из этих групп как таковые представляют собой в свою очередь реальные совокупности. Эго значит, что между их членами существует реальная связь и взаимодействие, и притом в пределах данной группы, на основе тех форм и видов деятельности, которые характеризуют именно данную группу. Такими группами-реальными совокупностями можно считать, например, классы, профессии, религиозные, научные и т. п. группы. Общество может иметь и, как правило, имеет не одну, а ряд таких групп данного рода, то есть оно имеет ряд классов, ряд профессий и т. д. Причем каждая такая группа-реальная совокупность в свою очередь обычно делится по тому или иному признаку на подгруппы, т. е. имеет известную внутреннюю структуру. В этом отношении нужно различать группы с оформленной внутренней организацией (политические партии, религиозные группы) и группы, у которых такая оформленная организация может быть, но может и отсутствовать (профессии, научные группировки и т. п.). В известной связи с этим одни из таких групп-реальных совокупностей представляют собой не только определенное целое, но вместе с тем и телеологическое целое, телеологическое единство, т. е. целое, субординированное в конечном счете единому руководящему центру. Таковы, например, политические партии, религиозные группы. Наоборот, другие группы хотя и являются реальной совокупностью, но при наличии лишь неоформленной внутренней организации представляют собой лишь целое в виде системы (классы, профессии) или даже вообще не являются целым, как, например, неорганизованные группы, связанные общностью научных и эстетических воззрений, общностью национальных признаков, общностью языка. В отношении общества в целом рассматриваемые группы являются вторичными совокупностями, т. е. по своему охвату и содержанию они являются не объемлющими, а объемлемыми совокупностями второго, третьего и т. д. порядка. По размерам, устойчивости и длительности своего существования они обнаруживают очень значительный диапазон колебаний. Государственная группировка, например, охватывает в сущности в специальном разрезе все общество и имеет чрезвычайно устойчивый характер и длительное существование. Классовое деление рассекает общество на крупнейшие части и имеет исторически столь же устойчивый характер. Религиозные группировки могут охватывать значительную часть общества и одновременно вторгаться в пределы других обществ, обнаруживая столь же высокую и, может быть, даже большую степень устойчивости и длительности существования, как государство и классы. С другой стороны, какая-либо группа на основе общности научных или эстетических воззрений может объединять очень небольшое число членов. Современная семья обнимает всего несколько человек. Группы могут быть не только малочисленными, но .
Глава IV. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ.
Экономическая наука изучает социальное хозяйство. Каждая наука представляет собой известную совокупность понятий и теорий, относящихся к этим понятиям. Однако совокупность таких понятий и теорий образует науку лишь при условии, если она отвечает определенным требованиям логики и научной методологии. Прежде всего эта совокупность понятий и теорий должна представлять собой не механическую сумму, а внутреннее связанное целое, определенное логическое единство. Такое единство предполагает, что между всеми понятиями, которыми оперирует данная наука при изучении своего объекта, а следовательно, и между теориями, относящимися к этим понятиям, существует то или иное родство по их природе и логическое соотношение по их познавательным функциям, например соотношение субординации, координации, принадлежности к определенному ряду, подчиненному известному общему закону образования и т. д. Далее, необходимо, чтобы система понятий и теорий данной науки представляла логическое единство как таковое, но чтобы они находились в определенной координации с понятиями и теориями других наук, в особенности наук сопредельных. Это требование вытекает из положения, что не только отдельная наука должна представлять собой единство, но что принципу единства подчиняется и вся совокупность наук в целом. С теоретико-познавательной и логической точки зрения представляется недопустимым положение, когда утверждения одной науки находятся в прямом и определенном противоречии с утверждениями других наук. Внутреннее единство и непротиворечивость не только данной науки, но и всей системы научных знаний является одним из основных критериев истинности знания как в пределах этой науки, так и всей совокупности их. Вот почему каждая наука при построении своих понятий должна учитывать понятия и теории тех наук, к которым она примыкает, и в особенности тех, от которых она зависит. Однако это не значит, что данная наука должна переносить в свою область и рассматривать как свои понятия из области других наук. Во всяком случае она не должна делать это некритически. Последние положения вытекают из третьего требования к каждой науке, из требования, что наука может быть таковой лишь в том случае, если она имеет специфический объект познания и соответственно систему специфических понятий. В противном случае она была бы лишь частью, и притом частью несамостоятельной, какой-либо другой науки.
Все сказанное приложимо и к социальной экономии. Следовательно, и перед экономистом при изучении его объекта встает задача построения соответствующей системы понятий. Система понятий каждой науки, в том числе и социальной экономии, всегда очень обширна. Но в составе этой системы всегда и неизбежно есть такие понятия, которые стоят как бы на границе данной науки и других наук, наиболее ясно и определенно выявляют специфичность объекта данной науки и ее точки зрения на этот объект, которые являются в пределах ее наиболее общими и потому предполагаются всеми частными понятиями и теориями данной науки. Такие понятия науки можно считать основными понятиями се или ее категориями. Мы должны теперь обратиться к построению именно категорий социальной экономии. Однако при этом нужно иметь в виду, что объективной разграничительной линии между категориями данной науки и ее обычными понятиями все же не существует и ее искать не следует. В конце концов задача науки сводится к построению не только основных понятий, а всей системы их.
Вслед за Родбертусом различают логические и исторические экономические категории. К первым относятся те, которые сохраняют свое значение при любом типе хозяйства, ко вторым же — те, которые имеют силу в отношении лишь определенного, исторически данного типа хозяйства. Строго говоря, все категории и всегда одинаково логические, т[ак] к[ак] все они суть понятия. Кроме того, если хозяйство вообще логически немыслимо вне т[ак] Называемых] логических категорий, то определенный тип хозяйства в таком же смысле логически немыслим без т[ак] Называемых) исторических категорий. Иначе говоря, исторические категории опять оказываются столь же логическими, как и т[ак] Называемые] логические категории. Однако мысль, которую имел в виду Родбертус, совершенно правильна и плодотворна. Действительно, мы видели, что социальное хозяйство изменчиво. Можно различить ряд отдельных типов его, и прежде всего два основных, из которых каждый имеет свои подвиды. Явления, которые имеют место при одном из этих типов, отсутствуют при другом. Явления, которые при одном типе имеют одну форму, меняют ее при другом. В общем различия между типом централизованного и децентрализованного хозяйства настолько значительны, что, как показывает фактическое изучение, исследование их без их разделения совершенно безнадежно. Мы должны исследовать каждый тип социального хозяйства раздельно. Это не значит, что они совершенно не имеют категорий явлений, общих им всем. Такие категории есть, и мы должны их установить. Но это значит, что в каждом из них, во-первых, есть свои специфические категории, во-вторых, и некоторые из общих категорий все же в каждом из них имеют свои особенности. Поэтому мы должны говорить как об общих или, по Родбертусу, логических категориях хозяйства, так и о специальных или исторических.
Основной экономической категорией мы считаем категорию ценности. Нет другой экономической проблемы, которая бы привлекала в прошлом такое пристальное внимание экономистов, обсуждение которой вызывало бы столько умственного напряжения, логических ухищрений и полемических страстей, как проблема ценности. И вместе с тем, кажется, трудно указать другую проблему, основные направления в решении которой остались бы столь непримиримыми, как в случае с проблемой ценности. В нашу задачу не входит специальный анализ течений в учении о проблеме ценности. Однако, чтобы сделать достаточно ясной и мотивированной ту точку зрения, которая защищается здесь, мы все же считаем необходимым предварительно [остановиться] на некоторых основных взглядах при разрешении проблемы ценности.
Если исключить отдельные промежуточные учения о ценности, то их можно свести к следующим основным течениям:
1) трудовая теория классиков, 2) индивидуально-психологическая теория, 3) учение, синтезирующее трудовую и индивидуально-психологическую теорию, 4) коллективно-психологическое или социологическое учение, 5) учение, устраняющее категорию ценности, 6) теория Маркса как высшая форма трудовой теории. Каждое из этих учений имеет свои разновидности, и отдельные разновидности различных учений иногда настолько переплетаются, что некоторых авторов иноща бывает трудно отнести к той или иной группе. Однако это уже детали, и мы вынуждены будем пройти мимо них.
Если учесть анализ проблемы ценности, который имел место в науке, то можно сказать, что проблема эта включает в себя ряд хотя и связанных, но глубоко различных вопросов. Основными из них являются следующие:
1. Что такое ценность как феномен и каковы ее виды (качественная проблема)? 2. Каковы основания, источники или причины существования ценности? 3. Является ли ценность величиной, и если да, то какой именно, и чем величина ее определяется (количественная проблема)? 4. Что служит измерителем величины ценности? 5. Какую функцию выполняет категория ценности в системе теоретической экономии?
Таковы основные вопросы относительно категории ценности, и мы увидим, что нередко затруднения в решении проблемы ценности обусловливались смешением различных этих вопросов, а разногласия между отдельными течениями оказывались абсолютно безысходными потому, что они давали ответ собственно на различные вопросы общей проблемы ценности.
Если не считать более ранних зачаточных формулировок, то нужно признать, что трудовая теория ценности получила первое развитие у классиков. Однако и у них теория ценности была далека от ясности.
Особенно неясна она у А. Смита, у которого, как обычно бывает с выдающимися мыслителями, особенно с основоположниками новых дисциплин, и как это принято считать, действительно можно найти истоки почти всех существующих экономических теорий. Смит различает потребительную ценность и истинную ценность. Первую он оставляет без рассмотрения[129]. Он считает необходимым для экономической науки лишь интерес к истинной ценпоста. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта истинная ценность есть то же, что меновая ценность, и даже то же, что естественная цена товара. Основание, источник меновой ценности Смит видит в труде. Отсюда ясно, что ему не чуждо представление о ценности как о субстанции в виде труда. Однако то обстоятельство, что он отождествляет истинную ценность с меновой и даже с естественной ценой, которые по существу сводятся к отношению между товарами, показывает, что субстанциональная сторона проблемы ценности его не интересовала и осталась у него совершенно неосвещенной. Это подтверждается и тем, что труд фигурирует у него по существу безразлично, то как основание, то и чаще просто как масштаб меновой ценности и естественной цены. Иначе говоря, внимание Смита гораздо более сосредоточено на вопросе объяснения величины, меры меновой ценности, чем на вопросе о ее сущности. Но когда, далее, ставится вопрос, о каком труде идет здесь речь, то оказывается, что, по Смиту, речь может идти одинаково как о труде, который затрачен, так и о труде, который можно получить в обмен за товар. Этот несомненно противоречивый тезис Смита послужил в дальнейшем отправным пунктом для двух глубоко различных концепций трудовой теории ценности. Он служит свидетельством неустойчивости взглядов в данном вопросе. Но он является не единственным свидетельством такой неустойчивости. Сведя величину меновой ценности к естественной цене, к количеству труда в учении о распределении доходов, Смит, казалось бы, должен был показать, как естественная цена товара разлагается на заработную плату, прибыль и ренту. В действительности он занял прямо обратную позицию и, с одной стороны, ищет факторы, которые определяют уровень этих доходов, с другой, заявил, что естественная цена слагается из этих доходов. Может быть, это положение и было бы можно примирить с учением о меновой ценности, но Смит этого не сделал. При отмеченных больших неясностях и внутренних противоречиях нет смысла специально критически разбирать теорию Смита. Нужно прибавить лишь, что Смит нигде не доказывает своего положения, будто труд составляет сущность и масштаб меновой ценности. Он просто его утверждает.
[Труд] имеет бесконечное множество видов и крайне многообразен. В сущности каждый конкретный вид его представляет собой нечто специфическое, так же как всякий вид вещей отличен от другого вида их. Однако можно указать некоторые общие категории, по которым распределяются конкретные виды труда. Строго говоря, всякий труд как целесообразная деятельность предполагает затрату и известной нервно-психической энергии, предполагает работу ума. Однако удельный вес затрат нервно-психической энергии в трудовом процессе может быть совершенно различен. С этой точки зрения мы различаем труд физический, труд умственный и труд смешанный. Ясно, что точные границы между этими категориями теоретически установить довольно трудно. Однако в практике это деление имеет громадное значение и указанные группы всегда выделяются. Совершенно ясно, что, переходя от форм физического труда к труду смешанному и далее умственному, мы переходим от труда, выполняющего более простые функции, к труду, выполняющему более сложные функции. В этом смысле приведенное деление есть вместе с тем и различение труда по степени сложности. Равным образом и в пределах группы физического, смешанного и умственного труда всегда существуют виды более простого и более сложного труда. Понятия простого и сложного труда относительны и соотносительны. Но во всяком случае ни в сфере хозяйственного труда вообще, ни специально в сфере физического, смешанного и умственного труда сложный труд не является простой суммой простого труда. В пределах каждой из трех установленных групп труда, далее, в зависимости от степени тренировки и навыка человека в данной области различают труд квалифицированный и неквалифицированный. Однако иногда, по существу неправильно, под квалифицированным трудом понимают всякий более сложный и ответственный труд в отличие от простого. В действительности квалификация может быть в пределах каждого данного вида труда, хотя, разумеется, пределы ее в различных случаях и различны. Далее, во всех случаях сотрудничества в зависимости от роли, которую то или иное лицо играет в общей системе работы, можно различать труд руководящий и исполнительный. Нужно, однако, учитывать, что и это деление относительно. Труд руководящий в отношении одних членов сотрудничества, например труд мастера данного цеха, будет уже трудом в значительной мере исполнительным в отношении труда заведующего целым отделением предприятия. Вместе с тем очевидно, что чем более руководящую роль играет данный вид труда, тем более он сложен и тем более умственный характер он носит. Наконец, очень важно указать на отличие труда специального в данной области и труда общеорганизационного. Правда, это деление в значительной мере совпадает с предыдущим. Но оно совпадает с ним обязательно и всегда лишь в том случае, если мы берем систему сложного сотрудничества, например капиталистическую фабрику-предприятие, и сосредоточиваем внимание на низших и средних звеньях работы. Оно совпадает также, когда мы берем ферму с наемным трудом. Здесь фермер совмещает в себе руководящую и общеорганизационную работу. Но если взять высшие звенья современных крупных предприятий, то там такого совпадения нет. Руководящую роль по специальности здесь играют высококвалифицированные специалисты — инженеры, механики, химики и т. д. Но за всем тем остается специальная и своеобразная функция общеорганизационного руководства всем предприятием, руководства, учитывающего его положение и интересы как целого со всеми его техническими, экономическими, юридическими и т. д. особенностями. Ясно, что этот вид общеорганизационного труда имеет место при руководстве всяким предприятием, хотя часто он и совмещается в лице, которое одновременно несет здесь и другие функции, например общее техническое руководство и даже физический труд. Общеорганизационный труд составляет функцию предпринимателя как такового. Отсюда ясно, что предприниматель, особенно когда он выполняет свою функцию в чистом виде, выступает как весьма активная фигура в хозяйственной деятельности. Последнее станет еще яснее, если мы учтем следующее разграничение в трудовых актах деятельности. Процессы труда могут выполняться в общем или традиционно, по установившейся рутине, или, наоборот, они содержат в себе известное новаторство, известное творчество новых форм и методов работы .
Часть вторая. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Глава V. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК Социальное хозяйство, понятие которого было установлено выше, может быть [и] фактически является предметом познания группы социально-экономических наук. Познавательный идеал этих наук с формально-логической точки зрения является тем же, что и познавательный идеал других наук. В чем же он состоит? Каждый шаг научного познания всегда и неизбежно состоит в установлении отношений или связей между явлениями[130]. Действительно, научное познание может принимать в различных случаях различные формы. Оно может состоять в описании и объяснении явлений, в установлении и объяснении или обосновании законов. Но какую бы форму оно ни принимало, внутренняя сущность его остается той же, и она состоит в установлении отношений или связей между явлениями. Когда мы описываем факты или события, мы неизбежно выделяем его признаки, и в конце концов описанный факт предстает перед нами как совокупность отношений и связей между этими признаками. Когда мы объясняем явление, мы ставим его в связь или отношение с какими-то другими явлениями, событиями или условиями. Когда мы устанавливаем и обосновываем закон, мы равным образом неизбежно устанавливаем те или иные связи и отношения между явлениями. Но если всякий шаг познания, какую бы форму он ни принимал, по существу состоит в установлении отношений и связей между явлениями, или, что по существу то же,ежду элементами явлений, то отсюда не следует, что установление любого отношения между явлениями есть уже полная реализация идеала познания. В действительности оно может быть и обычно является лишь началом или каким-то этапом на пути к реализации этого идеала. Познание действительности представляет собой не просто совокупность установленных между явлениями связей, а систему необходимых и однозначных связей, установленных между ними. В соответствии с этим познать то или иное явление — значит включить его в систему необходимых и однозначных связей между явлениями, которая и представляет собой уже познанную действительность. Равным образом познать социальное хозяйство с точки зрения той или иной теории о нем — значит истолковать его как систему необходимых и однозначных связей. Отсюда ясно, что и наука, — будет ли то теория или история социального хозяйства, — которая рассматривает и истолковывает его как систему необходимых однозначных связей, неизбежно должна быть и не может не быть систематическим, внутренне связанным и согласованным единством.
Но если таков идеал познания вообще и социально-экономического познания в частности, то спрашивается, как возможно его осуществление или по меньшей мере как возможно продвижение науки по пути к его реализации? Этот вопрос диктуется теми огромными трудностями, которые стоят на пути научного познания. Действительность, которая дана нам в непосредственном восприятии, на которую направлено наше познание, всегда дана нам в ее конкретном виде. Но действительность, взятая в ее конкретном виде, бесконечно многообразна. Она безгранична в пространстве, беспредельна во времени и необозримо сложна в пределах каждого данного конечного отрезка[131]. И если первые два обстоятельства служат, по терминологии Риккерта, основанием бесконечности экстенсивного многообразия действительности, то третье обстоятельство служит основой бесконечности ее интенсивного многообразия. В отношении внешней природы факт бесконечности ее экстенсивного многообразия самоочевиден. Но достаточно вдуматься, чтобы убедиться в бесспорности и ее бесконечного интенсивного многообразия. Действительно, вот перед Вами молодая зеленеющая береза. Вы пробуете исчерпывающе перечислить ее признаки. Но Вы быстро убеждаетесь, чем дальше и глубже Вы идете, тем безнадежнее Ваша задача. Вы берете ее ствол. На первый взгляд геометрически — это конус. Но при более близком рассмотрении Вы убеждаетесь, что ввиду неправильности его поверхности Вы имеете дело не с конусом, а с какой-то иной фигурой. Она уже потому не конус, что имеет ряд выступов и впадин на поверхности. Когда же Вы обращаетесь в целях точного определения их формы к выступам, то оказывается, что они в свою очередь не подходят ни под какую известную Вам геометрическую фигуру. Они имеют свои выступы и свои впадины. Вы обращаетесь к последним, но с ними повторяется то же самое. Вы вооружаетесь лупой, микроскопом, но тоща перед Вами открывается новый мир многообразных геометрических форм на каждом данном выступе и в каждой впадине ствола. И Вы в бессилии должны будете опустить руки. Ведь Вам нужно определить геометрическую форму не только данного участка ствола, а всего ствола, и не только ствола, но и сучьев, листьев, корней. Но для исчерпывающего описания березы нужно знать не только ее геометрическую форму, а и объем, между тем его вычисление поставит Вас перед новыми бесконечными трудностями. Вам нужно знать не только объем, но и цвет, между тем на каждом участке березы в пределах каждого ее листа при внимательном и точном наблюдении Вы открываете бесконечную, не поддающуюся передаче гамму цветов и их оттенков. Однако и это не все. Вам нужно знать внутреннее строение всего растения, Вам нужно отразить всю причудливую архитектонику древесины, листьев, корней… И совершенно ясно, что если одна небольшая задача точного воспроизведения формы растения оказывается бесконечно сложной, то тем более неисчерпываемой представляется задача точного воспроизведения березы в целом. Этот небольшой отрезок действительности оказывается бесконечно сложным и многообразным. Но он только небольшой отрезок ее, а таких отрезков бесконечно много, и о каждом из них можно буквально повторить то же самое.
Но если внешний мир бесконечно многообразен, то приложима ли эта характеристика и к социально-экономической действительности? Мы не можем сказать, что социально-экономическая действительность бесконечна в пространстве. Теоретическая область социального хозяйства, если судить о нем по его пространственному аспекту, имеет свои пространственные границы. Равным образом мы не можем сказать, что она беспредельна во времени, хотя практически это недалеко от истины. И тем не менее нужно сказать, что интенсивно в каждый данный момент и в каждом данном проявлении она практически бесконечно многообразна и сложна. Можно сказать даже, что она значительно сложнее и многообразнее внешней природы, хотя многообразие это отлично от многообразия последней. Пусть Вам поставлена задача дать конкретное и точное и безусловно исчерпывающее описание предприятий какого-либо города, например Парижа. Совершенно ясно, что какую бы детальную перепись предприятий Вы ни провели, Ваше представление о каждом предприятии будет лишь схемой. Оно позволит Вам выявить подробно формы предприятий и многое скажет о каждом из них в отдельности. Но это многое не будет все: в своем описании предприятия Вы неизбежно искусственно остановитесь на какой-то стадии детализации и дальше ее не пойдете. Возьмите вместо всех предприятий какое-либо одно из них и опишите его со всей детальностью монографически. Вы дадите еще более подробную картину его, его организации и жизни. Но эта подробная картина будет все же лишь подробной схемой, не больше. Если она попытается дать исчерпывающее представление о нем в определенный момент, она будет не в состоянии в действительно исчерпывающей форме отразить все те черты и признаки, которые составляют не только материальную форму предприятия, но и его, если так можно выразиться, социальную душу, т. е. конкретные, реальные, живые взаимоотношения составляющих его людей, конкретные, реальные взаимоотношения предприятия с окружающим его социальным миром. На первый взгляд это утверждение, быть может, покажется странным. Однако в нем нет ничего странного. Пусть наше предприятие — тот мануфактурный магазин, который так красочно описан Золя в его романе [" Дамское счастье" ]. И пусть момент, к которому мы приурочиваем наше исчерпывающее описание его, совпадает с моментом, когда в нем назначена в целях рекламы распродажа по дешевым ценам. Оставим всю сложную структуру предприятия и необычайно сложную картину живых взаимоотношений между людьми в нем. Сосредоточим внимание только на одном, и казалось бы, наиболее простом элементе предприятия — на его товарах. Сколько исключительно ярких страниц посвятил Золя описанию этих мертвых вещей — товаров мануфактурного магазина! С каким увлечением говорит он о подавляющем многообразии товарного мира в отношении только материй, нарядов, о бесконечной игре красок, цветов и их сочетаниях. Вы скажете, что все это элементы физического мира и они говорят только о его многообразии. Да, но эти элементы физического мира в данном случае являются одновременно и элементами социально-экономического мира. Этот бесконечно многообразный мертвый товарный мир материй является вещным отображением живых общественных потребностей и общественных отношений людей. Лучшим подтверждением этого служит тот непрерывный, сплошной, полный страсти в погоне за модами поток покупателей, который, по словам Золя, штурмует магазин. Совершенно очевидно, что бытие мертвых материй не ограничивается их физическим существованием. Они являются центрами притяжения людей. И если в теоретической экономии мы говорим в данной плоскости лишь о платежеспособном спросе, то в реальной социальной действительности за этим стоят живые вожделения и потребности. И описывая предприятие в конкретной форме, мы должны были бы включить в это описание и те конкретные многообразные потребности, которые в данный момент направлены на товары. Но это лишь одна сторона дела. Те материи, о которых говорит Золя, представляют собой продукт труда многих и многих людей, связанных между собой узами сотрудничества. Будучи продуктом труда, каждая вещь товарного мира как бы воплощает в себе этот труд и те конкретные взаимоотношения людей, которые существовали между ними на почве труда.
Давая конкретное описание предприятия, мы должны были бы описать и конкретное экономическое строение товара, как описывали строение березы. Но это заставило бы нас сказать, какой конкретный труд и усилия хлопковода и льновода, прядильщика и ткача, горно-рабочего и механика, железнодорожника и конторщика и т. д. в конечном итоге нашли свое отражение в данной материи, какие общественные отношения, стремления, страдания и т. д. застыли в складках этой ослепительно яркой ткани. Нам скажут, что все это не интересует экономическую науку. Ее интересует конкретно затраченный труд, не стремления и горести людей, сопряженные с трудом, а количество затраченного необходимого труда вообще или еще просто издержки производства. Это действительно так. Но это есть, как мы увидим, следствие того, что экономическая наука конкретного описания социально-экономической действительности не дает и дать не может. Но отсюда вытекает не то, что эта действительность не обладает исключительной сложностью, а как раз обратное. И сложность эта даже взятого небольшого отрезка ее предыдущими рассуждениями охарактеризована еще не полностью. Товары имеют цены. Нам пришлось бы описать конкретную цену и ее строение. Но цены выражаются в деньгах. Нам пришлось бы описать деньги, и притом данные конкретные монеты. Пришлось бы опять описать их не только внешне, но и конкретно экономически, т. е. установить, какие конкретные затраты труда, какие конкретные общественные отношения материализовались в данных кусках желтого металла, каков конкретный размер общественной покупательной силы в них конденсирован, как конкретно расценивает их данный покупатель и т. д. Достаточно приведенного перечня возникающих вопросов, чтобы понять, что, даже беря очень небольшой отрезок социально-экономической действительности, каким является одно торговое предприятие, даже беря его лишь в определенный момент времени и лишь в отношении находящихся в нем товаров и денег, мы сталкиваемся с совершенно необозримым многообразием конкретных проявлений этой действительности. Если же взять тот же небольшой отрезок этой действительности, но в разрезе временного процесса, то многообразие и сложность его еще неизмеримо возрастет. Мы поставлены будем перед необходимостью следить за конкретным потоком товаров и денег и вместе с ними и всех тех социальных сил, которые в них переплетены, за потоком конкретных общественных отношений, желаний, стремлений, действий, которые связаны с оборотом товаров и денег. И это только в одном небольшом отрезке действительности. Каковы же безграничная сложность и многообразие социально-экономической действительности, взятой в целом со всеми предприятиями, городами, биржами, банками и т. д.
Итак, конкретная социально-экономическая действительность необозримо многообразна и сложна. В каждом данном отрезке она даже значительно сложнее, чем внешняя природа, т[ак] к[ак] значительно сложнее, многообразнее и концентрированнее ее отдельные элементы.
Мы стремились выше выявить многообразие конкретной действительности, как оно дано нам в непосредственном чувственном восприятии. Но конкретная действительность, данная нам в непосредственном чувственном восприятии, не только бесконечно многообразна, она и индивидуальна. Эго значит, что с точки зрения непосредственного чувственного восприятия каждый конкретный факт действительности, строго говоря, отличен от другого факта в пространстве и подвержен постоянным изменениям во времени. Именно поэтому каждый конкретный факт индивидуален, является единственным в своем роде. Данная книга в тех или иных отношениях всегда отлична от книги, лежащей рядом. Данное предприятие всегда в тех или иных отношениях отлично от всякого другого предприятия. Данная книга сегодня — конкретно и строго — уже не вполне такая, какой она была вчера. И данное предприятие сегодня отличается от того, каким оно было вчера. Каждое конкретное событие и каждый конкретный факт, как они даны в непосредственном восприятии, индивидуальны. И если тем не менее мы утверждаем, что книга А, которая лежит сегодня на столе, есть та же книга, которая лежала там и вчера, если мы утверждаем, что г[-н] N — это тот же человек, которого мы видели год тому назад, если, иначе говоря, мы признаем известную устойчивость вещей и на каждом шагу чувствуем их тождество, то эти наши утверждения есть не предмет просто непосредственного восприятия, а продукт восприятия и работы мышления. Каждому предмету мы приписываем известные основные признаки, и до тех пор, пока они сохраняются, сохраняется тождество предмета[132]. Эти признаки не исчерпывают всех тех качеств предмета, которые мы получаем от него в непосредственном восприятии. Однако при суждении о тождестве мы игнорируем некоторые из последних именно как неустойчивые и текучие. Но ясно, что при таком суждении мы имеем дело уже не с непосредственным восприятием предмета, а с понятием о нем. В непосредственном же восприятии каждый конкретный предмет оказывается индивидуальным. Можно было бы подумать, что индивидуальность конкретных фактов действительности говорит о том же, что и их многообразие, и не [требует] описаний новой характеристики действительности. Однако это не так. Верно, что понятие многообразия указывает не только на многочисленность, но и на различие между собой фактов действительности. Однако оно совершенно не указывает на то, что различно между собой все конкретное, воспринимаемое в действительности как во времени, так и в пространстве. Эту дополнительную характеристику и вносит специальное указание на индивидуальный характер конкретных фактов действительности.
Однако конкретная действительность не только индивидуальна и многообразна, но до известной степени и дискретна. Далеко не всегда она поддается непосредственному чувственному восприятию. Иногда она поддается ему лишь косвенно. Черты дискретности присущи даже внешней природе. Так, мы не можем непосредственно органами чувств воспринимать магнетизм, электричество. Поэтому мы лишены возможности непосредственно и конкретно воспроизвести и описать их. Мы воспринимаем их органами чувств лишь косвенно благодаря превращению их в другие виды энергии. Но если черты дискретности присущи даже внешней природе, то для социально-экономической действительности, как уже было отмечено выше, они являются одной из основных характеристик. Мы не можем непосредственно органами чувств воспринимать общественные отношения, идеи, стремления, желания и т. д. Мы воспринимаем их постольку, поскольку они запечатлены в вещах и выражаются в актах поведения. Но акты поведения могут быть в свою очередь восприняты или непосредственно, или лишь постольку, поскольку они материализуются в вещах. При отсутствии того и другого они, а также выражаемые ими идеи, стремления, желания в их конкретной форме проходят бесследно, остаются неуловленными. Таким образом, наиболее устойчивый субстрат общественных явлений — различные социальные вещи. Но социальные вещи отражают в себе далеко не все общественно-идеологические и психические явления и отражают их далеко не с той полнотой, чтобы по ним можно было восстановить все конкретные общественные явления во всей их полноте.
Из того, что выше было сказано об идеале научного познания и о действительности, как она дана нам в непосредственном восприятии, вытекают весьма значительные последствия по вопросу о возможности продвижения науки к указанному идеалу.
Во-первых. Если идея познания предполагает установление необходимых и однозначных связей между явлениями, то очевидно, что никакое познание вообще невозможно, если между явлениями в действительности нет и не может быть установлено таких связей.
Во-вторых. Поскольку действительности, и в особенности социально-экономической действительности, присуща черта дискретности, на основе непосредственных восприятий действительность, по крайней мере в некоторых отношениях, совершенно не может быть познана даже и в том случае, если между явлениями существуют вполне определенные связи.
В-третьих. В силу многообразия действительности мы не в состоянии охватить ее во всей конкретной полноте. «Познать мир, представляя себе порознь все единичные формы в том виде, как они существуют, — задача принципиально неразрешимая для конечного человеческого духа»[133].
В-четвертых Поскольку конкретные факты действительности, как они даны нам в восприятии, текучи, изменчивы, всегда индивидуальны, познание их как таковых, если бы даже оно в тех или иных пределах и было осуществимо, было бы лишено какой-либо устойчивости. То, что было бы установлено в данный момент в отношении А, имело бы значение лишь в данный момент, потому что А индивидуально, конкретно и никогда более в таком виде не встретится. Такое знание не давало бы нам никакой основы для ориентации среди бесконечного потока фактов действительности, ибо вместе с движением этого потока в той же мере менялось бы и содержание этого знания. Но этого мало. Основное состоит в том, что такое знание было бы не только бесплодно практически, но и лишено общезначимости теоретически. Восприятие есть индивидуально-психический акт. И строить знание о действительности лишь на основе данных ощущений и непосредственного восприятия ее фактов — значит базировать это знание на психологических основаниях. Но базировать его на таких основаниях вместе с тем значит лишить знание основного признака научного суждения, его общезначимости, т[ак] к[ак] на основе психологии никакой общезначимости знания понять нельзя[134].
Итак, наука стремится к познанию действительности, руководствуясь определенным идеалом научного познания. На пути к этому идеалу она наталкивается на серьезные и большие препятствия. Эти препятствия возникают на той основе, что действительность, как она дана в непосредственных восприятиях, бесконечно многообразна, индивидуальна и дискретна. Но наука существует как факт. И факт ее существования свидетельствует, что она преодолевает указанные препятствия. В чем же заключается основная черта тех средств, при помощи которых она преодолевает эти препятствия и продвигается к своему познавательному идеалу?
Общий ответ на этот вопрос дает анализ фактического хода развития и структуры различных наук, и особенно тех, которые добились наиболее значительных положительных результатов. Не входя в разбор этого вопроса здесь (об этом нам придется говорить еще ниже), мы тем не менее отметим основное направление или основной тон усилий науки на пути продвижения к идеалу познания. И это основное направление можно общим образом охарактеризовать как активное познавательно-методологическое преобразование или трансформацию той конкретной действительности, которая дана нам в восприятиях. В этом нетрудно убедиться. Конкретные восприятия действительности, говорили мы выше, текучи, изменчивы, индивидуальны и потому не могут служить основой для систематического, общезначимого и актуального значения. И каждая наука на первых же своих началах познания как бы отвергает конкретную действительность, данную в восприятиях[135]. Она разлагает ее на элементы и тем умерщвляет ее непосредственный конкретный облик, строит систему устойчивых понятий и тем устраняет безграничную текучесть конкретной действительности. Она пользуется приемом «идеализации», приемом введения идеальнопредельных понятий и образов, символов числа и меры и тем создает почву для однозначно количественного выражения своих выводов. Бесконечное многообразие конкретной действительности, говорили мы далее, делает безнадежной всякую попытку охватить действительность в ее конкретной полноте. Но наука и не ставит себе такой задачи по самому своему существу. Анализируя конкретную действительность, разлагая ее на более простые и однородные элементы, фиксируя их в системе понятий, она неизбежно и сознательно схематизирует или стилизует действительность, абстрагируется от тех или иных признаков конкретных явлений, рассматриваемых в данном разрезе, и тем создает возможность для общезначимой характеристики данного положения вещей, для типологических построений и для установления законов[136]. Таким образом, конкретная действительность, данная нам в восприятии, является для науки лишь исходным, отправным пунктом. В процессе же научного исследования она подвергается сложным познавательно-методологическим преобразованиям. «И даже та форма познания, которой выпадает задача описать и изложить в ее мельчайших деталях действительность, — говорит Кассирер, имея в виду естествознание, — должна сначала отвернуться от этой действительности и заменить ее символами области чисел и величин»[137]. Однако наука для достижения своего познавательного идеала нуждается не только в описании, айв объяснении явлений и в установлении их законов. И если уже простое описание нуждается в переработке конкретных восприятий действительности, то тем более это оказывается необходимым при объяснении явлений и установлении их законов, т.к. объяснение явлений и их законы как таковые никогда не даны в чувственном восприятии, а должны быть найдены и формулированы применительно к определенным условиям.
В настоящее время широко распространен, и в частности среди естествен ни ков-философов, взгляд, что всякое познание есть в конечном счете описание действительности и что идеал познания есть совершенное и однозначное описание действительности. Но что понимать под описанием? Если под описанием понимать и установление связей, и в частности закономерных связей, между явлениями, если полагать, что описание допускает при этом пользование идеальными понятиями, как математическая точка, прямолинейное движение, homo ockonomicus и т. д., если оно совместимо с математическим выражением законов, то можно признать, что не только познание в форме упомянутого выше описания в узком смысле, но и познание, состоящее в объяснении явлений, в установлении и формулировке законов, является описанием[138].
Однако под описанием при расширении сферы его значения все же хотят понимать лишь воспроизведение действительности, как она дана нам в ощущениях и восприятиях. Тоща нужно сказать, что такого описательного познания в чистом виде вообще не существует, а существует лишь то описание, которое было указано выше, как простейшая ступень нашего знания. В целом же научное познание совершенно не является описанием и воспроизведением действительности, как она дана в ощущениях и восприятии. «Если бы цель естествознания заключалась в том, чтобы просто повторить данную в конкретных ощущениях действительность, то это фактически было бы тщетной и бесполезной попыткой, какой — хотя бы и совершеннейший — образ мог бы достигнуть строгости и точности оригинала? Познание не нуждается в подобном удвоении, оставляющем неизменной логическую форму, в которой представляются нам восприятия»[139].
И если только что сказанное верно в отношении естествознания, которое имеет дело с конкретными вещами, то оно тем более верно в отношении социальных наук, которые, как мы видели, всегда имеют дело с дискретными вещами. Какой, действительно, образ социального хозяйства мы могли бы воспроизвести на основе наших непосредственных ощущений и восприятий, если все эти ощущения и восприятия сводятся к ощущениям и восприятиям отдельных людей, их действий, вещей и, кроме того, к смутному общему ощущению наличия сверхличной общественной] силы и необходимости, которая нами движет? Фактически, как ясно из предыдущего, познание вовсе не является чистым описанием действительности как она дана в конкретных восприятиях. Фактически познание является глубочайшим преобразованием конкретного образа действительности, данного в восприятии. И естественно, что в результате познания мы получаем не копию того образа ее, который дан нам в восприятии, а новый образ ее, новую схему ее в виде системы необходимых и однозначных связей. Но ще гарантия того, что полученный в результате научной работы новый образ действительности в виде системы однозначных связей не является произвольным, не является чисто субъективным построением? Этот вопрос, разумеется, вполне законен, т[ак] к[ак] он является вопросом о критерии истины, о критерии истинности построений самой науки. Он законен и представляется тем более трудным, что таким критерием не может уже быть сопоставление построений науки и конкретной действительности. Раз мы признали, что научная схема действительности не является простой копией конкретной действительности, данной в восприятиях, то очевидно, что они не только далеко не всегда могут совпасть, но иногда в данном смысле (т.е. в смысле совпадения) их нельзя даже и сопоставлять.
Из предыдущего ясно, что только чисто описательные части науки еще могут дать почву для прямого сопоставления с действительностью, данной в восприятии, т[ак] к[ак] эти части представляют собой продукт наименее сильной и глубокой переработай конкретного образа действительности. Но если описательные части науки в той или иной мере строятся уже на выводах абстрактно-теоретической науки, сопоставление их выводов с конкретной действительностью будет уже неизбежно затруднительно. Поэтому хотя такое сопоставление и может играть роль критерия истинности научного построения, но оно не может быть единственным и исчерпывающим критерием таковой. В таком случае всегда остается необходимость проверки научно-описательного построения и в той его части, в какой оно определяется абстрактно-теоретическими научными выводами.
Что же касается проверки выводов абстрактно-теоретических наук, то здесь сопоставление с конкретной действительностью как критерий их истинности часто не имеет даже смысла. Действительно, как можно сопоставлять научный образ радуги, который дает нам физика и который говорит, что радуга есть преломление световых лучей в бесчисленном количестве частиц воды, носящихся в воздухе, с тем образом ее, который мы имеем в конкретном восприятии? Или с каким конкретным образом восприятия можно сопоставить утверждение физики, что в безвоздушном пространстве тело падает по формуле S = Vj + gf2/2? Равным образом как можно было бы взять какую-либо конкретную цену, слагающуюся под действием множества конкретных условий, и проверить утверждение теоретической экономии, что в условиях равновесия народного хозяйства эта цена будет равна предельно максимальным издержкам производства? Очевидно, что здесь такое прямое сопоставление образов конкретной действительности с научным образом ее уже невозможно.
Но все же критерии истинности научных теоретических построений должны быть, и они есть. Критерием каждого научного положения является в конце концов его очевидность. Однако такого простого указания недостаточно. Очевидность сама по себе не есть объективная мерка, а усмотрение, к которому приходит тот или иной исследователь на основе ряда условий. В числе этих условий значительную роль могут играть и чисто субъективно-психологические условия. Отсюда то, что очевидно для одного, может быть совершенно неочевидно для другого. Поэтому необходимо углубить вопрос и найти те объективные условия, которые с необходимостью порождают самую очевидность и обосновывают ее. Одним из таких условий является факт коллективного опыта и соответственно коллективного признания данного научного построения. Несомненно, факт коллективного опыта делает субъективную очевидность более обоснованной и надежной мерой истины. Однако и к коллективному мнению применимо то же соображение, что и к индивидуальному: оно может быть субъективным и ошибочным. Следовательно, необходимо искать опоры для самого коллективного мнения. Такую опору дает принцип единства и внутренней непротиворечивости науки. С точки зрения этого принципа всякое новое научное положение, раз оно согласуется с научным опытом как целым при отсутствии иных и совершенно явно порочащих его соображений, может быть воспринято с очевидностью (как индивидуально, так и коллективно) в качестве истинного. Этот принцип для таких идеальных наук, как математика, является высшим и решающим. Но в отношении реальных наук это является, несомненно, новым и серьезным шагом вперед, но еще не завершением пути. Сам научный опыт как целое может быть и всегда бывает незавершенным. Поэтому если новое научное построение не противоречит ему, то это еще не значит окончательно, что оно верно: отсутствие противоречия может объясняться здесь также и тем, что именно в данном направлении научный опыт не завершен. Но раз это так, то при отсутствии других критериев в научном опыте могут наслоиться и несовершенные, верные лишь отчасти и даже неверные элементы. Вот почему и критерий соответствия с научным опытом для реальных наук не решает вопрос в окончательной форме. Для них необходимо искать дополнительной опоры. И опорой этой в конечном итоге является все же действительность. После всего изложенного это может показаться странным и даже противоречивым. Однако здесь нет ни того, ни другого. Здесь, как и выше, мы считаем, что при решении вопроса об истинности абстрактно-теоретических выводов не может быть речи об их совпадении с действительностью, как о совпадении копии с оригиналом. О сопоставлении абстрактно-теоретических выводов с действительностью речь может идти в трояком смысле.
Во-первых, там, где это возможно, в смысле сопоставления этих выводов с данными действительности, взятыми в экспериментальных условиях. Эксперимент дает нам отрезок действительности, но никогда не конкретной, а трансформированной, идеализированной. Эксперимент перестраивает конкретную действительность в соответствии с теми требованиями, которые вытекают из исходных посылок теории[140]. Поэтому действительность, взятая в экспериментальных условиях, стоит к выводам абстрактной теории в таком же отношении, в каком конкретная действительность стоит к выводам описательной дисциплины. И как в последнем случае мы можем описание сопоставлять с конкретной действительностью, так можем мы сопоставлять и экспериментальную действительность с выводами абстрактной теории. Поэтому проверять формулу закона падения тел в безвоздушном пространстве на данных конкретной действительности—значит заранее обречь себя на неудачу. Но проверить ее по данным эксперимента, который создает отрезок действительности, где влияние воздуха устранено, вполне целесообразно. И такое сопоставление является твердой основой для объективного обоснования истинности теории и ее очевидности.
Во-вторых, абстрактная научная теория и умерщвляет, и раздробляет конкретную действительность, удаляется от нее. Но, строя свои обобщения и законы, она затем в порядке синтеза позволяет вновь приблизиться к этой действительности. Теория не воспроизводит сложный отрезок действительности А, состоящий из а, Ь, с, d, е, как таковой. Но давая законы, охватывающие в отдельности по крайней мере основные элементы этого А, например элементы а, Ь, с, она позволяет включать/1 разными сторонами его в формулу этих законов. Она позволяет поэтому рассматривать по крайней мере основное ядро А как дифференцированное целое, как пучок или узел скрещения отдельных законов. Тем самым она дает возможность в значительной мере понять А. Но такое понимание/! во многих случаях жизни дает нам власть над ним. Зная явления и законы сопротивления материалов, мы совершенствуем наше строительное искусство. Зная явления строения и функционирования организма, мы боремся с его заболеваниями. Зная законы денежного рынка, мы рационализируем мероприятия банковской политики. Отсюда можно сказать, что практика ориентирована на данные научной теории, и успехи этой практики служат одним из самых серьезных и живых критериев истинности теории. Здесь мы не сопоставляем конкретной действительности с теорией непосредственно. Но мы сопоставляем практические результаты деятельности с теми ожиданиями результатов, которые вытекают из построенной теории. Практика и действительность, находящая свое выражение в практике, выступают, т[аким] о[бразом], в качестве реальной опоры для логической очевидности теории и критерия ее истинности. Но практика — это не эксперимент. Она всегда может дать иной результат против теоретического ожидания, если теория строит свои показания в расчете на одну совокупность условий, а практика протекает при вмешательстве еще иных, осложняющихся условий. Поэтому [при] апелляции к практике как критерию истинности теории всегда требуется тщательный сравнительный анализ условий, исходя из которых строит расчет теория, и тех условий, в которых фактически протекает практическая деятельность, приводящая к тем или иным результатам.
Наконец, в-третьих. Если теория, разрушая образ конкретной действительности, как говорилось выше, в порядке синтеза позволяет до известной степени вновь приблизиться к ней и воссоздать по крайней мере в основном схему этой действительности, то вместе с тем она в известных случаях позволяет с большей или меньшей точностью и предвидеть ход действительности. Отсюда ясно, что возможность предвидения на основе теории является вместе с тем и критерием истинности теории[141]. Строго говоря, этот третий случай апелляции к действительности в целях испытания теории есть разновидность второго: во втором случае успех воздействия на действительность есть оправдание правильности теоретического предвидения результатов практического действия. Однако эти два случая все же нельзя полностью отождествлять. Во втором случае предполагается возможность и осуществление практического воздействия на действительность, и лишь по результатам такого воздействия мы судим, правильны ли были предположения, опирающиеся на теорию, и правильна ли, следовательно, сама теория.
В третьем случае возможности такого практического действия может и не быть, и оно принципиально не предполагается. Если речь идет об испытании, например, астрономической теории путем сопоставления построенного на основе ее прогноза с ходом событий действительности, например прогноза затмения Солнца в такое-то время с фактическим наступлением затмения, то здесь нет речи о каком-либо воздействии на действительность и о результатах этого воздействия. Здесь и в подобных случаях мы имеем дело с прогнозом в чистом виде как с критерием правильности теории. Но в этом, третьем случае, как и во втором, всегда требуется тщательный анализ условий, на которые рассчитывала теория при построении прогноза, и условий, в которых протекали события фактически. Только при таком анализе мы можем дать правильную оценку прогноза и стоящей за ним теории.
Таким образом, мы видим, что в распоряжении науки имеются определенные критерии, которые в совокупности всегда позволяют прямо или косвенно решить, что образ действительности, создаваемый наукой, является не произвольным, а объективным. Этот образ не является копией действительности, а является системой необходимых связей. Он возникает ценой отказа от охвата и воспроизведения конкретной действительности как таковой во всей ее полноте. «Только потому, что наука отказывается дать прямое чувственное отображение действительности, только потому она и может изобразить саму эту действительность в виде необходимой связи оснований и следствий»[142]. Но именно этот образ действительности позволяет ей предвидеть события и ориентировать наши практические действия. Именно такой образ действительности, где это возможно, находит подтверждение в эксперименте. Он проникнут внутренним логическим единством, и если он не имеет санкций со стороны непосредственного чувственного восприятия, то он получает ее на указанных выше реальных основах со стороны логической очевидности. Такой образ действительности и выступает как подлинная объективная действительность.
Очевидно, что наука, создающая этот внутренне связанный и единый образ, образ объективной действительности, и сама может быть лишь внутренне согласованным систематическим единством, ибо ее содержание и есть объективная действительность. Но наука приходит к такому образу действительности и превращается в систематическое единство лишь в процессе сложной работы, руководимой идеалом научного познания.
Наука может разрешать стоящие перед ней сложные задачи, всегда и неизбежно лишь опираясь на ту или иную систему руководящих принципов и технических правил исследования. Совокупность таких принципов и правил исследования и составляет метод науки. Сюда относятся руководящие принципы (точки зрения) и правила, касающиеся образования научных понятий, объяснения явлений, установления и формулировки законов, построения адекватных суждений и теорий. Если эти вопросы метода брать в общей и наиболее абстрактной форме, если сводить их к общему учению об образовании понятий, построении правильных суждений и доказательств по правилам индукции и дедукции, то они по существу не подлежат рассмотрению здесь. Они составляют предмет логики и общего логического учения о методе.
" Научный метод, — пишет К. Пирсон, — один и тот же во всех отраслях знания, этот метод есть также метод всех логически дисциплинированных умов"[143]. И эта мысль, несомненно, правильна, если иметь в виду общелогические принципы и правила учения о методе. Но объект каждой науки или во всяком случае известной группы родственных наук всегда обладает рядом особенностей. И наличие именно этих особенностей, во-первых, создает более или менее специфические вопросы применения общих принципов и правил научного метода; во-вторых, выдвигает ряд новых вопросов, специфических для данной отрасли знания и не обсуждаемых общей методологией. Наличие этих двух групп вопросов, не освещаемых общим учением о методе, создает основание для существования специальных учений о методологии различных наук или групп родственных наук. Хотя эти учения внешне и не кристаллизовались в отдельные науки, но фактически они, конечно, существуют. Вопросы, анализируемые им, при наличии общего учения о методе, естественно, носят или сугубо специальный и технический, или, наоборот, достаточно общий и для данной отрасли принципиальный характер. Последняя серия вопросов специальной методологии по существу часто связывает данные науки с философией, и раэбор их входит соответственно в философию математики, в философию естествознания и т. д.[144]
Сказанное целиком приложимо и к социальным наукам, в частности к социально-экономическим наукам. Ведя свои исследования по существу, т. е. ведя материальные исследования и прибегая к различным концепциям и приемам исследования, они, естественно, стремятся осознать и систематизировать свои методы. В таких науках, далеких от совершенства, как социально-экономические, потребность в разработке методологических проблем по существу даже острее, чем в других, более сложившихся и определившихся науках. Причем и в социально-экономических науках методологические вопросы возникают на почве специфических условий применения положений общего учения о методе или на почве своих специфических методологических затруднений. Равным образом и здесь эти вопросы имеют не только специально-технический, но часто общепринципиальный и иногда философский характер[145]. Достаточно указать, какие методологические проблемы за последнее время волновали, в частности, мысль экономистов, чтобы видеть, насколько существенное значение имеют они для дальнейшего развития социальной экономии. К числу таких вопросов относятся вновь поставленные вопросы о каузальности и телеологии и отчасти в связи с этим о теоретических суждениях и суждениях ценности в экономике, вопросы об особенностях и принципах образования экономических понятий, о проблеме закономерности экономических явлений, о статистификации политической экономии и о количественном анализе в ней, об универсализме и сингуляризме при подходе к изучению экономических явлений, о ценностном и натуральном аспекте этих явлений, о разграничении экономической статики и динамики, не считая другие, менее принципиальные.
Выясненное выше глубочайшее значение метода для осуществления наукой ее познавательных задач и одновременно острота поставленных за последнее время перед социальной экономией важнейших для нее методологических вопросов создают для нас необходимость рассмотреть некоторые проблемы метода социальной экономии.
Не лучше ли, однако, воздержаться от этого и непосредственно перейти к вопросам материально-исследовательского характера? >гот вопрос возникает невольно. Действительно, А. Пуанкаре, имея в виду социологов, говорит, что они обременены фактами, считают нужным прежде всего «озаботиться изобретением метода, и этих методов придумали много, ибо ни один из них не напрашивается сам собой. Каждый тезис в социологии предлагает новый метод, который, впрочем, каждый новый ученый опасается применять, так что социология есть наука, наиболее богатая методами и наиболее бедная результатами»[146]. Пуанкаре имеет в виду социологию и, несомненно, несколько сгущает краски, так как заявления самих, и притом выдающихся, социологов говорят, наоборот, о пренебрежении к вопросам методологии среди социологов[147]. Но все же в словах Пуанкаре есть доля истины, и они в той или иной мере приложимы ко всем социальным наукам, в том числе и к экономике. Именно отсюда и возникают сомнения в плодотворности и целесообразности рассмотрения методологических проблем. Такие сомнения некоторыми экономистами и высказываются. Если Ганс-Людасси считает, что увлечение вопросами метода свидетельствует не о расцвете, а о неуверенности науки[148], то Лифман уже открыто заявляет о полной бесплодности рассуждений на темы о сущности и методах политической экономии для развития последней[149]. По существу близкую позицию с Лифманом занимает Гейман, считая, что увлечение вопросами метода является показателем плохою положения науки и что разработка их не ведет науку вперед[150].
Конечно, нужно признать, что знание методов еще не обеспечивает развития науки, что наука строится в процессе фактического исследования и что многие методологические вопросы решаются при этом по наитию в зависимости от дарования и др[угих] причин. Поэтому разработка вопросов методологии как таковых вне связи с фактическим материальным, в данном случае экономическим исследованием, сообразуясь лишь с общими идеями философии, логики и гносеологии, представляется бесплодной. Возражения Лифмана против такой разработки методологических вопросов были бы совершенно основательны. Но трудно отрицать огромное положительное значение системы методологии, когда она органически вырастает и проверяется в процессе самого исследования или на данных фактического развития науки. Отрицать значение за такой разработкой вопросов методологии означало бы защищать целесообразность освещения того пути, по которому идет развитие науки, и пользу применения тех своего рода «технических средств работы»[151], которые она выработала.
Это означало бы также отрицание ценности за той экономией мысли и умственной работы, которая обеспечивается установленным плодотворным методом, конденсирующим в себе накопленный коллективный научный опыт[152]. Между тем все ценнейшие работы по вопросам метода, как работы того же Пуанкаре, Маха, Планка, Павлова, Дюркгейма, Кассирера и др., выросли именно или в процессе фактического исследования, или по крайней мере на основе данных фактического развития науки. И поскольку возражения Лифмана, Геймана и др. направлены в общей форме против разработки методологических проблем, они лишены всякого основания.
В дальнейшем мы не имеем в виду систематически рассмотреть вопросы социально-экономической методологии в целом. Будут затронуты лишь те методологические вопросы, которые имеют непосредственное отношение к нашему исследованию по его материальному содержанию и которые вместе с тем приковывают в настоящее время внимание экономистов к себе. Ввиду сказанного, строго говоря, мы могли бы поэтому затрагивать их в соответствующих разделах материального исследования, не выделяя в особый раздел. Однако это уже вопрос не принципиальный, а вопрос целесообразности изложения. Чтобы достигнуть большей ясности в трактовке как методологических, так и материальных вопросов, чтобы вместе с тем избежать повторений, мы предпочли рассмотреть важнейшие методологические вопросы в особом разделе. Но и при таких условиях нам все же приходилось уже выше и придется в дальнейшем касаться некоторых, более частных методологических вопросов и в ходе материального исследования.
Специальное рассмотрение методологических вопросов, помимо того значения его, которое было уже выяснено, имеет еще одно значение, которое необходимо иметь в виду и на которое необходимо указать уже здесь. Выше было уже достаточно подчеркнуто, что научное знание, взятое в целом, представляет собой единство. Однако это единство внутренне дифференцировано и специализировано. Вопрос о том, как именно дифференцируется научное знание по отдельным наукам, является особым методологическим вопросом, имеющим свое большое значение для правильного понимания особенностей отдельных наук, для наилучшего разделения функций между ними и для систематичности их содержания. Наиболее общим и отправным принципом классификации наук служит предметный принцип. В соответствии с ним вместе с установлением понятия общества и затем хозяйства мы выделили в составе всего научного знания группу социальных наук, изучающих общество и общественные явления, а в составе социальных наук в свою очередь группу экономических наук, изучающих хозяйство и экономические явления. Но, как ясно из только что сказанного, экономические науки представляют собой группу наук, в составе которых теоретическая социальная экономия является лишь одной, хотя и важнейшей или основной, наукой.
Совершенно ясно, что отдельные экономические науки отличаются друг от друга, т. е. в свою очередь подлежат классификации. Но т[ак] к[ак] все они изучают тот же объект — социальное хозяйство, то их нельзя уже классифицировать по предметному принципу. И здесь вступает в силу второй основной принцип классификации наук, а именно принцип классификации в зависимости от метода, которым пользуются отдельные науки при изучении того же самого объекта. Но, как мы видели, метод — понятие сложное и потому может характеризоваться различными специфическими особенностями: общей точкой зрения в отношении объекта, принципом образования понятий, принципами и правилами построения теорий и т. д. Поэтому по существу классификация наук данной группы по методу означает классификацию их по ряду принципов, вытекающих из метода. Применение этих принципов позволяет представить каждую данную группу однородных наук как систему, где каждая наука выполняет свои задачи. Ниже, рассматривая важнейшие вопросы экономической методологии, мы одновременно установим общие очертания и систему экономических наук. Это позволит лучше и точнее выявить место среди них и специфические особенности теоретической социальной экономии, в плоскости которой лежат основные материальные проблемы нашего исследования .
Глава VI. КАТЕГОРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, НЕОБХОДИМОСТИ И СЛУЧАЙНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ Теоретические экономические науки стремятся не только к описанию, но и к объяснению изучаемых ими явлений. Но в чем состоит объяснение явлений? Все наше познание действительности состоит в установлении отношений или связей между явлениями![153]]. Даже простейшие этапы его в виде описания какого-либо явления А представляют собой установление отношений между теми элементарными явлениями-признаками, из которых слагается явление Л. Но описать явление — это еще не значит окончательно познать его. Познанная действительность представляет собой систему необходимых и однозначных связей между явлениями. В соответствии с этим объяснить то или иное явление — значит включить его в ту систему необходимых и однозначных связей, которая представляет собой познанную нами действительность.
Уже из самого определения понятия научного объяснения видно, что оно предполагает наличие необходимой и однозначной связи между явлениями действительности. Если бы между явлениями и не существовало необходимых и однозначных связей, то это означало бы, что явления действительности возникают, исчезают, изменяются совершенно свободно и самопроизвольно. Но тогда о них было бы никоща невозможно сказать больше того, что они не поддаются никакому познанию и тем более объяснению. Наука исходит из положения, что между явлениями существует необходимая однозначная связь. И тот факт, что наука существует, что она может предсказывать и указывать средства для достижения тех или иных целей на практике, является совершенно достаточным аргументом для нее, что она исходит из правильной общей предпосылки. Очевидно, что последнее положение имеет полную силу для всех наук, в том числе и для наук социально-экономических. И социально-экономические науки как науки возможны лишь при условии, что изучаемые ими явления находятся в необходимой и однозначной связи между собой. Но если это так, то принципиально для них имеет силу и то понятие объяснения, которое было дано выше. Однако это понятие само по себе еще не дает никаких указаний по вопросу о том, какова природа тех связей между явлениями, исходя из которой социально-экономические науки строят свое объяснение явлений, и каковы те формы, в которых эта связь находит выражение в социально-экономических науках. Выяснить эти вопросы и значит выяснить специфические методологические особенности, которые находят место при разрешении задачи объяснения в социально-экономических науках.
Вокруг вопроса о природе и характере тех связей, которые ищут между явлениями своей области социально-экономические науки, борются две основные точки зрения: телеологическая и каузальная.
Т[аким] о[браэом], мы приходим к выводу, что социально-экономические науки в своем объяснении явлений могут опираться только на категорию причинности. В этом отношении они принципиально стоят на той же позиции, что и естествознание в широком смысле слова. Они могут рассматривать свой предмет только как сферу явлений, происходящих в соответствии с принципом каузальной необходимости. Поэтому, уточняя данное выше общее определение научного объяснения, можно теперь уточнить, сказав, что объяснить социально-экономическое явление — это значит включить его в систему каузально необходимых однозначных связей, которая и представляет собой познанную нами социально-экономическую действительность.
Но если в мире социально-экономических явлений царит принцип каузальной необходимости, то это вовсе не значит, что люди не ставят себе целей, не переживают борьбы мотивов своего поведения, не сознают ответственности за свои поступки, не чувствуют удовлетворения от удач и разочарования от поражений. В сфере индивидуально-психической жизни все эти явления представляют собой самую подлинную реальность, о наличии которой мы знаем из самонаблюдения с такой же несомненностью, как и о существовании вещей вне нас. Но психология, которая изучает индивидуально-психическую жизнь, изучает ее все же под категорией причинности. В социальных, и в частности в социально-экономических, науках мы изучаем не индивидуально-психическую жизнь, а социальную и социально-экономические явления. Но поскольку необходимым элементом социальной жизни и реализации социальных явлений служит человек, принятие принципа причинности означает лишь, что с научной точки зрения действия.
Какую бы область действительности мы ни исследовали, принцип причинности всюду имеет в виду зависимость между реальными явлениями, протекающими во времени. И он говорит лишь о том, что «все изменения совершаются согласно закону связи причины и действия»[154], что «данному событию предшествует нечто, за чем оно следует по правилу»[155]. Иначе это можно выразить так: если наступает В, то наступает и А. Однако очевидно, что если В наступило и за ним последовало А, если В, наступив, продолжает существовать или, наоборот, затем исчезает, то согласно принципу причинности продолжает существовать или, наоборот, исчезает и А. Потому, учитывая все эти случаи связи причинной зависимости явлений, можно дать следующую общую формулировку принципа причинности: если дано реальное явление В, то дано и реальное явление А. В интересах дальнейшего [изложения] эта формула требует существенных пояснений.
Как понимать здесь А и В Нет никаких оснований требовать, чтобы А было совершенно простым. Да и где граница простого и сложного? А может быть в одних случаях проще, в других — сложнее. Во всяком случае мы вправе считать, что А может быть относительно простым, но равным образом оно может представлять собой и целый комплекс элементов или явлений А А[154]… А". То же самое приложимо и к В. То, что мы подразумеваем под В, есть всегда более или менее сложный комплекс явлений — В1, В[154]… В". В таком случае А вызывается к жизни собственно совокупностью других явлений В1, В[154]… В". Но если это верно, если верно также, что каждое явление имеет свою причину, то в таком случае это целиком относится и к каждому в отдельности В В2 … Вт. Пусть возникновение В1 обязано С, точнее С1, С2… С", возникновение В2 обязано Z), или точнее Z)1, D2… />", и возникновение Вт обязано Л/, или точнее Л/1, Л/2 … Л/т. В таком случае это правило мы можем приложить теперь к каждому С и каждому D и М. Не продолжая рассуждение, схематически вывод из него можно представить так: 
Нужно сейчас же отметить, что это лишь упрощенная схема связей между явлениями, в которых передается в конечном итоге возникновение А. В ней мы прослеживаем специально лишь корни А и совершенно игнорируем факт перекрестных влияний, тот факт, например, что какое-либо О влияет не только на возникновение В но так или иначе влияет и на В2 D1 влияет не только на В2у но и на В1 и на Вт и т. д. Вывод, который вытекает из такого представления о причинной связи, состоит в том, что, строго говоря, каждое событие корнями своими уходит в общую предшествующую констелляцию явлений всей той сферы, к которой относится данное событие, а через [нее] в общую предшествующую констелляцию Вселенной*. Однако так представляется положение дел лишь теоретически и принципиально. Но это не значит, что практически исследование причинных зависимостей каждого данною события приводит к какой-либо необходимости исследования его связей с элементами всей Вселенной или даже всей той сферы явлений (например, социально-экономических), к которой данное явление принадлежит по своей природе. Задача эта совершенно правомерно ограничивается, и притом в двояком смысле. Во-первых, явление/! считается объясненным, если установлены необходимые связи его с теми явлениями, которые вызвали его возникновение непосредственным образом, т. е. в нашей схеме — с явлениями В В2… Вт. Нужно отметить и подчеркнуть, что если бы по техническим или иным соображениям анализ явлений В В2… Вт или некоторых из них был затруднителен и малопродуктивен, то эти явления полностью или отчасти могли бы быть замещены явлениями более отдаленными по положению ряда, в нашей схеме — явлениями С1, С2… С", D D2… ГУ" и т. д. или соответствующей группой их. Причинная обусловленность А была бы, иначе говоря, установлена и в том случае, если бы были выявлены его связи не с В В2… Вту а непосредственно с С1, С2… С", D D2, ГУ" и т. д. С этой точки зрения методологически представляется вполне правомерным исходное положение т[ак] называемого] объективного метода изучения человеческого поведения. Если полагать, что тот или иной акт человеческого поведения (А) непосредственно вызывается совокупностью психических переживаний человека (В В2 … Вт) и что последние в свою очередь порождаются воздействием внешних раздражителей на его высшую нервную систему (С1, С2 … С"у D D2… ГУ")у то этот акт поведения причинно может быть объяснен как в том случае, когда будут установлены его необходимые зависимости от В В2… Вт, так и в том случае, когда они будут установлены непосредственно от С1, С2… С", D D2… ГУ". Сторонники объективного метода, считая невозможным точное исследование явлений В В2… Вт как таковых, и стремятся к установлению зависимости А от С1, С2… С" и т. д. Таким образом, первое ограничение задачи при установлении причинных зависимостей состоит в том, что в качестве причин берутся лишь те явления, которые определяют данное явление ближайшим образом. Причем в зависимости от условий исследования эти причины могут лежать как в сфере ряда явлений, которые определяют данное явление (А) непосредственно, так и в одном из ближайших предыдущих рядов. Но во всяком случае задача причинного объяснения какого-либо данного явления А сама по себе не предполагает вскрытия причинно-следственных связей во всей предшествующей А констелляции Вселенной, не предполагает, иначе говоря, regressus ad infinitum через явления В к явлениям С1, D1…, от последних к С .JD и т. д. и т. д. Выяснение общей структуры причинных зависимостей мира можно рассматривать как задачу всех наук в совокупности, но не как задачу данной науки по данному частному поводу. В отличие от тех явлений, которые выступают в качестве причин явления Ау явления, от которых зависят сами эти причины, называют иногда не причинами, а условиями или общими условиями явления А. Нам кажется, что это название не отличается удобством, ибо причины есть тоже условия А. Так как здесь все различие между теми и другими условиями лежит в их близости к явлению Л, то было бы правильнее тот ряд явлений, в причинную зависимость от которого ставится явление А, называть ближайшими причинами или условиями, а прочие ряды явлений отдаленными причинами или условиями. Но какое бы название мы ни давали тем и другим, совершенно ясно, что никогда нельзя говорить о каких-то конечных причинах явления в абсолютном смысле, т[ак] к[ак) всегда у этих конечных причин будут свои причины, т. е. будут еще более конечные причины данного явления.
Второе ограничение задачи установления причинной зависимости таково. Даже и среди того ряда явлений, в котором лежат ближайшие причины явления А, т. е. в нашем примере среди явлений В В2… Вт (или при исключении этого ряда из анализа среди явлений С1, С2… С", D D2 … Гг …) берутся не все явления, от которых зависит явление Ау т. е. берутся не все его ближайшие причины, а лишь некоторые. Берутся именно те, от которых явление А зависит в наибольшей степени. Так, если А представляет собой какоелибо социально-экономическое явление и оно зависит как от непосредственных причин от явлений физико-географических, биопсихических, технических, морально-правовых, политических и экономических, то мы можем иногда исключить из поля внимания физико-географические и биопсихическис явления, сосредоточив внимание лишь на цикле социальных причин, или можем пойти даже дальше и исключить также в той или иной мере и форме и социальные причины, кроме экономических, сосредотонив внимание на последних. Те причины, на которых мы останавливаемся окончательно, называют по отношению к остальным славнейшими причинами, остальные же — причинами второстепенными или иногда даже просто условными. Необходимо иметь в виду, однако, что это второе ограничение задачи причинного объяснения глубоко отлично от первого. В первом случае принципиально не исключается ни одной причины, от которой зависит явление А, а имеет место лишь отказ от исследования причин, от которых зависят самые причины. Поэтому здесь полнота и однозначность объяснения А нисколько не страдает. Во втором случае исключение из поля внимания тех или иных причин неизбежно идет за счет полноты и однозначности объяснения А: раз исключается хотя бы одна причина, от которой в том или ином отношении зависит А, то неизбежно в этом именно отношении А не будет объяснено и, следовательно, оно не будет однозначно определено. Но если это так, то законность исключения тех или иных причин требует всего своего обоснования. Это обоснование может состоять или в том, что фактически привлекаемые причины по существу почти нацело определяют А и влиянием прочих причин практически можно пренебречь, или в том, что задача объяснения А включает в себя объяснение его не по всей полноте его элементов (АА2…Ат), а лишь объяснение его в некоторых вполне определенных отношениях, например в отношении элементов Л1, Л2 …А6, А7. Отсюда ясно, что второй путь ограничения задачи причинного объяснения по самому существу своему выдвигает ряд сложных методологических проблем, например проблем определения удельного веса тех или иных причин, разграничения конкретного и абстрактного объяснения, пределов абстракции и т. д. С этими проблемами научное исследование встречается на каждом шагу, и от более или менее удачного разрешения их нередко зависят самые итоги исследования. Важнейшими из них нам придется заняться ниже.
До сих пор мы рассматривали вопрос со стороны причин, обусловливающих определенное следствие. Это может породить мысль, что в науке, и в частности в социально-экономической науке, мы имеем дело с односторонней причинной связью, согласно которой совокупность причин, обозначаемых нами через В, вызывает в качестве следствия А. Однако в действительности, и особенно р социально-экономической действительности, дело обстоит значительно сложнее. Раз А возникло или существует, оно само оказывается причиной или одной из причин других явлений. И поскольку это так, к А и его причинному влиянию на свои следствия, например на какое-либо явление Л', применимо все то, что сказано выше о причинной зависимости самого Л. Нам пришлось бы только на место А поставить Я" и на место В (точнее В В2… Вт) поставить А (точнее А А2… Ат). Следовательно, указанная роль А в качестве причины еще не вносит никаких осложнений в вопрос. Но это осложнение становится совершенно бесспорным и ясным, как только мы отмечаем, что>4 не только вообще оказывает воздействие на другие явления, но что оно оказывает воздействие и на те причины, которые его породили и благодаря наличию которых оно существует, т. е. на В В2… Вт или соответственно на С1, С2… С®, D D2… Dm. Осложнение вытекает здесь из того, что >4 оказывается не только следствием своих причин, но и их причиной. В этом легко увидеть явное противоречие, во-первых, и показатель внутренней несостоятельности понятия причинной зависимости. Некоторые ищут выход из него путем отрицания факта возвратного причинного влияния следствия на свои причины. Однако в действительности такое возвратное влияние следствия имеет место. Без него, как мы увидим ниже, невозможно понять ряд важнейших экономических явлений и процессов. Наоборот, указанного противоречия как показателя несостоятельности самого понятия причинно-следственной связи нет. В этом нетрудно убедиться, если вникнуть в механизм прямой и возвратной причинной зависимости и быть достаточно тщательным с понятиями.
Возьмем в целях анализа факт, с которым очень часто приходится иметь дело экономисту, а именно факт связи спроса, предложения и цены. Фактически спрос, предложение и цена в известных общественно-экономических условиях всегда существуют. Поэтому явления, которые здесь подлежат объяснению, состоят в изменении этих феноменов. Пусть в первый момент нам даны спрос D, предложение 5 и цена Р. Во второй момент мы констатируем, что цена изменилась: выросла и стала теперь Р'. Этот факт подлежит объяснению. Допустим для примера, что согласно произведенного анализа причинами такого изменения цены были соответствующие изменения спроса и предложения: спрос вырос и стал во второй момент D а предложение упало и стало S'. Тогда, будучи точными, мы должны сказать так: изменившиеся (точнее, в процессе изменения) спрос и предложение второго момента D' и S' действуют на цену, существовавшую в первый момент, т. е. на цену Р, и изменяют ее (точнее, вызывают процесс изменения ее), доводя ее до Р Но эта изменившаяся (возросшая) цена Р1 путем хорошо известных передаточных звеньев действует на спрос D1 и предложение S', доводя к третьему моменту до ?>" и S". В свою очередь получившиеся в третий момент спрос D" и предложение S" в процессе своего иэменения действуют на цену, образовавшуюся во второй момент, т. е. на Р и, изменяя, скажем, снижая, доводят до Р* и т. д. Отсюда ясно видно, что мы имеем дело с процессами изменения во времени трех рядов, т. е. с временными рядами. Говоря об их причинной связи, можно просто и общим образом сказать, что спрос и предложение действуют на цену, изменения спроса и предложения являются причиной изменения цены, а изменения цены являются причиной изменения спроса и предложения. И тогда получается впечатление, что D и S являются причиной Р, а Р — причиной D и S, т. е. впечатление круга. Но стоит принять во внимание, что имеешь дело с процессами изменения явлений, что на каждом временном этапе мы имеем дело со своим спросом и своим предложением, со своей ценой, и всякое впечатление круга исчезает. Тогда оказывается, что изменение данного спроса и предложения вызывает изменение данной цены, делая ее новой. И далее уже не просто цена и не прежняя, а именно новая цена действует на спрос-предложение и вызывает их дальнейшее изменение. В свою очередь на эту новую цену в следующий момент действует не просто спрос-предложение и не прежние, породившие ее, а новые, изменившиеся под ее влиянием спрос-предложение и т. д., если временные причинно-связанные ряды условно представлять в виде звеньев, если между этими, следующими друг за другом звеньями проводить отчетливое разграничение, то там, видно, мы увидим, что никогда то звено одного ряда, которое испытало на себе влияние соответствующих звеньев других рядов, не действует на эти же «соответствующие звенья других рядов», а уже на иные. Поэтому круг в положении, что причина вызывает следствие, а следствие в свою очередь действует на причину и оказывается как бы причиной причины, существует только в понятиях и только в том случае, если весь временной ряд каждого данного явления представлять себе как одно явление, а не как различные фазы становления явления. В реальном же процессе указанного круга вообще никогда нет. Сказанное на основе примера с ценой, спросом и предложением для наглядности можно представить в виде следующей схемы:

Здесь сплошные стрелки указывают, какое звено одного ряда воздействует и на какое именно звено другого ряда. Пунктирные же стрелки показывают направление процесса изменений, вызываемых упомянутым воздействием. Эта схема достаточно ясно иллюстрирует нашу мысль. Неудобство ее лишь в том, что она дробит процесс изменения рядов как бы на отграниченные звенья и представляет весь процесс в совершенно прерывном виде. Но достаточно представить себе промежутки между фазами очень малыми или твердо помнить, что речь идет по существу почти о непрерывных процессах причинного взаимодействия рядов, чтобы избежать неудобств приведенной схемы. Во всяком случае ее нельзя было бы заменить кривыми на обычной диаграмме, т[ак] к[ак] на одной такой диаграмме можно выразить лишь одностороннюю зависимость, изображение же двусторонней зависимости при помощи двух диаграмм лишило бы процесс единства и не иллюстрировало бы мысли. Таким образом, на основе предыдущего анализа мы приходим к такому выводу.
Мы подробно остановились на вопросе о двусторонней причинной зависимости и ее механизме потому, что с ней приходится сталкиваться экономисту при изучении явлений, протекающих во времени в виде процессов на каждом шагу. Достаточно, помимо примера со спросом-предложением и ценами, указать на связи товарных цен и процента, товарных цен и количества денег в обращении, заработной платы и производительности труда, производства и [потребления] и т. д. Но с такой двусторонней связью приходится иметь дело не только экономисту. С ними в очень широких пределах приходится сталкиваться социологу. В частности, один из самых основных вопросов социологии, вопрос о т[ак] Называемых] факторах исторического процесса или о зависимости техники, науки, социально-экономического строя, права, религии и т. д. друг от друга, можно сказать, целиком сводится к проблеме установления в корректной форме двусторонней или даже многосторонней причинной зависимости.
Если систематизировать случаи, когда исследователю приходится разрешать проблему причинной зависимости, то их можно свести к трем основным типам: 1) установление причины возникновения (или соответственно невозникновения) явления, например причины возникновения рабского хозяйства, возникновения капитализма, причин невозникновения экономического кризиса в данной стране, когда в других он был, и т. п.; 2) установление причин длительного или устойчивого сохранения явления, например русской общины, кустарных промыслов, высоких цен, низкого процента и т. д.; 3) установление причин изменения явлений, например цен, доходности, производства и т. п. В процессе исследования точного разграничения между всеми этими типами проблем причинного объяснения никогда не проводится. Однако совершенно ясно, что это различные проблемы. Имея в виду их, нельзя сказать, что абсолютно во всех случаях находит место двусторонняя причинная связь. Несомненно, существуют случаи, когда эта двусторонность по самому существу исключается. Так, если исследуются причины изменений урожайности и наряду с причинами технико-экономического порядка указываются также и причины почвенно-климатические, то очевидно, что сама урожайность уже не может рассматриваться как причина, действующая на почвенно-климатические условия. Или когда Дюркгейм в своем классическом исследовании установил социальные причины существования самоубийства, то очевидно, что самоубийство, строго говоря, уже не является фактором, воздействующим на эти причины. Однако, как уже отмечалось и выше, в области социально-экономической действительности мы, как правило, имеем дело именно с двусторонней зависимостью. И это особенно применимо к тому случаю установления причинных зависимостей, когда речь идет о причинах установления причинных зависимостей, когда речь идет о причинах изменения явлений. Но если так обстоит дело в действительности, то это не значит, что исследователь всегда выявляет или обязан выявлять такую двустороннюю связь. Он может методологически сознательно поставить себе более узкую задачу и исследовать лишь одну группу причинных воздействий. Во многих случаях это ограничение задачи может не причинить ущерба ценности его работы. Так наблюдается в особенности часто в случаях объяснения возникновения и отчасти существования явления. Так, исследуя причины возникновения крепостного хозяйства или экономического кризиса, исследователь по существу не обязан исследовать и эффект крепостного хозяйства, и кризиса, и в частности особенно эффект влияния их на причины, вызвавшие их к жизни. Однако при этом никогда нс следует смешивать, исследуется ли причинная зависимость односторонне по методологическим соображениям или она односторонняя по природе. Но самое важное состоит в том, что часто, особенно при рассмотрении причин существования и еще более причин изменения явлений, игнорировать двусторонность причинных зависимостей без ущерба для выводов уже вообще нельзя.
При исследовании причин существования и особенно изменения явлений в силу двусторонности причинных явлений между ними исследователь, беря ряды изучаемых явлений как нечто целое и, следовательно, отвлекаясь от их звеньев (см. выше), уже не может сказать, который же ряд является причиной и который следствием, например техника или хозяйство, хозяйство или право, цена или спрос-предложение и т. д. В таком случае характер его исследования логически приближается к исследованию тех зависимостей, которые имеют место в мире математических величин и образов, т. е. функциональных зависимостей. Как и математик, он может принять один ряд явлений за независимую переменную, а другой за функцию. Какой именно ряд он примет за независимую переменную и какой за функцию — этот вопрос для непредубежденного исследователя, раз им признана двусторонность причинных связей, не является вопросом материально-принципиальным и не может считаться решенным раз и навсегда. Он является вопросом методологическим. Иногда решение его не представляет труда, так как вытекает из самой постановки задачи исследования. Так, если Каутский или Кунов имели своей задачей объяснение известных явлений религиозной жизни, то естественно, что они принимали социально-экономические условия за независимую переменную, а религиозную жизнь за функцию. Если, наоборот, М. Вебер имел в виду показать влияние религии на хозяйственную жизнь, то столь же естественно, что он принимал ряд религиозных явлений за независимую переменную, а хозяйственный строй за функцию. Гораздо сложнее решение этого вопроса в том случае, когда изучается не существование, а параллельное изменение тех или иных социально-экономических явлений, находящихся во взаимной причинной связи во времени, например эволюция общества и, следовательно, параллельное изменение техники, хозяйственного строя, права, религии и т. д. То или иное решение вопроса о выборе независимой переменной здесь приобретает столь большое значение, что от него часто зависят результат и эффект исследования. По существу нам придется встретиться с этим вопросом ниже, и нам нет необходимости рассматривать его в данной связи.
Итак, мы констатируем, что исследование причинной связи может иметь форму или исследования односторонних зависимостей, или двусторонних. Последнюю форму исследования можно назвать для отличия ввиду близости ее к форме исследования математических зависимостей исследованием причинно-функциональных связей. Случай исследования односторонней причинной связи также имеет сходство с исследованием функциональных зависимостей: его можно рассматривать как исследование функциональной зависимости, когда выбор независимой переменной заранее предопределен. Ввиду такой общей аналогии между исследованием причинных и функциональных связей было предложено вообще исключить понятие причинной зависимости ввиду его неопределенности, а также генетической связи с метафизическими представлениями о мире и заменить его термином функциональной зависимости. Однако это едва ли целесообразно и едва ли можно оправдать. Функциональная связь, как она понимается математикой, говорит лишь о соотношении величин между собой, и она всегда обратима. Если у = /(г), то всегда их = ф (у). Этого нельзя сказать о причинной связи: она говорит о соотношении явлений, далеко не всегда говорит об их количественном соотношении, очень часто говорит о возникновении качественно новых явлений и, строго говоря, она никогда необратима. Это различие той и другой [связи] вытекает из того, что математическая функциональная связь идеальна, в то время как причинная связь имеет реальный физический, психический и т. д. характер. И если мы говорим о причинной связи, то имеем в виду всегда именно реальную связь между явлениями, как она была охарактеризована выше. Задача науки и состоит, между прочим, в том, чтобы изучать виды и формы причинных зависимостей. При этих условиях мы не видим, почему понятие причинной связи более метафизично и менее ясно, чем понятие функциональной связи. При такой интерпретации понятия причинной связи нет никаких оснований, кроме предубеждения, считать, что под причинами понимаются какие-то особые непознаваемые сущности, которые скрыты в вещах. Оснований для этого не больше, чем и для того, чтобы утверждать, что функциональная связь есть какая-то идеальная сущность, которая управляет величинами. Ввиду сказанного заменить понятие причинной связи понятием функциональной связи можно или ценой коренного изменения математического понятия функциональной связи в духе понятия причинной связи, и тогда вся реформа сведется к замене наименований, что несущественно, или ценой коренного изменения понятия причинной связи в духе понятия функциональной связи, и тогда значительная часть вопросов, исследуемых сейчас реальными науками, останется за бортом нового понятия. Эти вопросы или пришлось бы вообще исключить из ведения науки, для чего нет оснований, или же подвести их под какоелибо новое общее понятие, то тогда реформа все же не достигла бы цели. Гораздо более существенным вопросом является не вопрос о замене понятий или наименований, а вопрос о том, в какой мере математический анализ функциональных зависимостей может оказать действие при изучении причинных связей и их формулировок. Мы знаем, что науки о внешней природе используют математический метод при исследовании причинных связей и формулировке на основе их естественно-научных законов в очень широких пределах. Это позволяет им дать математически точное и однозначное выражение причинных связей между явлениями природы. Они, следовательно, не заменяют причинную связь функциональной, а используют математические функциональные связи как форму для выражения причинных зависимостей. Но, давая им такое выражение, естествознание исходит при этом из идеи однозначности самих причинных связей между явлениями. В какой мере идея однозначности причинных связей применима к социально-экономическим явлениям? В какой мере вообще, далее, доступно ее установление и выражение для социально-экономических наук и могут ли они в этом случае так или иначе опереться на математический метод? Успехи современного естествознания обязаны не только углублению и усовершенствованию экспериментального метода, но в значительной мере также и тому мощному оружию, каким в руках [исследователей] явился математический метод, в частности учение о функциях в форме анализа бесконечно малых. Достаточно отметить это и представить себе общие достижения естествознания, чтобы понять все значение поставленных вопросов для социально-экономических наук. Можно без преувеличения сказать, что своеобразие методологии экономических наук, которое будет выявлено ниже, в значительной мере связано с ответом именно на эти вопросы.
Мы уже упоминали, что возможность однозначного выражения причинных связей предполагает, помимо прочих условий, идею однозначности самих этих связей. Сущность этой идеи состоит в том, что данной причине В всегда соответствует определенное следствие А и, обратно, данное следствие А всегда предполагает определенную причину В. Заметим, что А и В понимаются здесь в том смысле, как это было разъяснено выше, и что, следовательно, здесь под В и А вовсе не имеется в виду обязательно одна простая причина и одно простое следствие. Из приведенной формулировки однозначности причинной связи ясно, что признание ее означает отрицание множественности причин и множественности следствий. Учение о множественности причин и следствий действительно внутренне несостоятельно. Легко показать, что, признав принцип причинности, необходимо отвергнуть учение о множественности причин и следсгвий. Учение о множественности причин утверждает, что В может быть причиной А, но может быть также и причиной каких-либо других явлений, например С, D. Но как это возможно понять? Это или совсем нельзя понять и тогда нельзя, очевидно, принять и учение о множественности причин, или можно понять только двояким образом. Высказанное положение можно, во-первых, понять так, что ранее В, которое было по существу В В", Вш, В14', вызывало как свое следствие А. Но теперь В изменилось, является уже В1, Вп, Bv, BVI и не вызывает в качестве своего следствия А. Но в таком случае очевидно, что было неточно сформулировано первое исходное положение, что В (т.е. В1, В", В111, В™) являлось когда-либо причиной А. В действительности причиной А было не В (т.е. В1, В11, Вш, В™), а только В™, В™, которые можно было бы для краткости назвать и одной буквой, но уже не В, а, например, В,. Действительно, достаточно было элементам Вш, В™ исчезнуть из комплекса В1, В", Вш, В™, — исчезло и следствие А. Поэтому неточно было сформулировано и заключительное положение, что В теперь стало вызывать своим следствием не А, а С, D. Эта формулировка неточна потому, что не В, т. е. В1, В", В111, Bw вызывает С, а В1, Вп, Bv, В4'1, которые для краткости можно также назвать одной буквой, но нс В и не В, а, скажем, В2. Отсюда ясно, что при таком понимании идея множественности причин представляет собой простой результат неточной и неадекватной характеристики комплекса причин в один и в другой момент, результат неточного обозначения одним и тем же понятием В по существу различных явлений. Рассматриваемое положение можно, во-первых, понимать так, [что] ранее В, которое было по существу В1, В", Вш, В™, имело своим следствием А. Но теперь благодаря вмешательству ХВ перестало вызывать А и вызывает D. Легко видеть, что в основе это понимание сводится уже к разобранному, так как здесь мысль о множественности следствий является результатом неадекватной формулировки причин в первом и втором случае. В первом случае действующей причиной было В, но во втором случае действующей причиной было уже не В, а ВХ. Поэтому понятно, что и следствием было во втором случае не Ау как в первом, a D. Еще более настойчиво некоторые склонны признавать идею множественности причин, во всяком случае более настойчиво, чем идею множественности следствий. Сущность ее состоит в том, что одно и то же следствие может быть вызвано различными причинами. В подтверждение ее ссылаются на отсутствие однозначной связи следствия с основанием в математике, где один и тот же результат может получиться при совершенно различных основаниях. Действительно, 6×6 всегда делает 36, но 36 может получиться к[ак] в результате умножения 6 на 6, так и 4 на 9,3 на 12,2 на 18 и т. д. Указывают, далее, на то, что и в реальной жизни одно и то же следствие очень часто получается в результате действия самых различных причин. Так, говорят, смерть может наступить как в силу старости, так и в силу самоубийства, убийства, и притом убийства путем удара тупым или колющим оружием, путем применения огнестрельного оружия и т. д. Однако идея множественности причин столь же несостоятельна, как и идея множественности следствий. Что в математике один и тот же результат может получиться при различных исходных данных, — против этого спорить нельзя. Но математика не знает и понятий ни причины, ни следствия. Что же касается реальных причинных связей, то идея множественности причин, как и идея множественности следствий, покоится целиком на неадекватности квалификации теперь уже не причины, а следствия. В самом деле, утверждение множественности причин или совсем нельзя понять, а следовательно, и принять, или его можно понять только в двояком смысле. Во-первых, в том, что если причина В вызывала следствие А (которое по существу было Л1, А' Аш, А™), то в силу изменения свойств А (которое стало, А Al Aw, /!v) оно может появляться также и в результате С. Но из сказанного ясно, что во втором случае термином А обозначается уже не прежнее А, а другое явление, отличное от прежнего/!, хотя оно и обозначается неточно тем же термином. Во-вторых, в том смысле, что если А возможно в результате В, то теперь благодаря появлению вместе с А еще и Z оно появляется также в результате С. Но совершенно ясно, что и здесь, во втором случае следствием является не прежнее/!, а другое явление —/!Z. Поэтому естественно, что оно имеет и другую причину. Применяя эти выводы к приведенному выше примеру со смертью, нужно определенно сказать, что здесь в различных случаях речь идет о реальных и различных следствиях, в которых конечный и общий для всех их момент смерти является лишь одним из элементов того комплекса, который является фактическим следствием. Если в случае естественной смерти этот комплекс можно обозначить как ХА, то в случае самоубийства его нужно будет обозначить YZA, в случае убийства огнестрельным оружием YZBA и т. д. Общим для всех этих случаев является момент прекращения жизнедеятельности организма (/!), и мы именем одного этого элемента во всех случаях неточно обозначаем весь комплекс явлений, являющийся каждый раз следствием. Отсюда кажущееся подтверждение идеи множественности причин. Кажущееся, так как принципиально в каждом отдельном случае комплекс явлений, входящий в следствие, может быть обозначен адекватно[159]. Таким образом мы видим, что идея множественности причин и следствий несостоятельна. Приняв принцип причинности, уже нельзя без противоречий защищать идею множественности причин и следствий. Эта идея возникает на почве трудности, а иногда и прямой невозможности фактически разложить причину и следствие на составляющие их элементы и дать каждый раз адекватное выражение как причины, так и следствия. Такой трудности и даже часто невозможности дать адекватное обозначение причин и следствий отрицать невозможно. Их невозможно отрицать не только в области социально-экономических исследований, но даже и в области физико-химических явлений. Даже строгие условия эксперимента далеко не всегда обеспечивают желательную точность. Это является, как мы увидим, одним из существенных препятствий для применения методов индукции при научном исследовании. Однако нельзя смешивать принципиальное понимание характера причинных связей с фактическими трудностями научного исследования этих связей. Из того, что указанные трудности существуют в практике исследования, не вытекает вывод об отказе от естествознания, от идеи однозначности причинных связей. Естествознание твердо стоит на базе этой идеи. Для социально-экономических наук, стоящих на почве признания принципа причинности, как ясно из предыдущего, нет иного пути: они могут принять только принцип однозначности причинных связей[160].
И значительная часть важнейших методологических проблем этих наук, как мы увидим, сводится к тому, могут ли, и если да, то в какой мере и какими путями, эти науки также достигнуть и формулировки однозначных причинных связей при исследовании. Своеобразие методов этих наук во многом обязано особенности их положения в разрешении именно этого вопроса.
Предшествующий анализ показывает не только то, что социально-экономические науки должны отвергнуть категорию объективной телеологии и принять категорию причинности, но также и то, как эта категория должна ими пониматься. Мы видим, что в основном она может пониматься ими в том же смысле, в каком она понимается и естествознанием. Для социально-экономических наук явления, изучаемые ими, находятся в односторонней или двусторонней однозначной причинной связи.
Но если явления социально-экономической жизни находятся между собою в однозначной причинной связи, если категория причинности находит свое полное применение в этой жизни, то есть ли рядом с ней место также и категории случайности? Вопрос о категории случайности и о случае, как мы скоро убедимся, имеет исключительно большое значение для методологии построения социально-экономических наук. На поставленный вопрос возможны только два ответа. Первый гласит, что категория случайности имеет объективный характер, как и категория причинной необходимости, второй — что категория случайности объективного характера не имеет и имеет совершенно иную природу, чем категория причинной необходимости. В пределах этих двух основных решений вопроса существуют лишь известные варианты их. Рассмотрим первый ответ.
Наиболее яркое выражение он нашел в работах Курно .
Согласно их взгляду каждое данное А, В, С и т. д. имеет свою причину или причины. Эти последние в свою очередь имеют свои причины и т. д. Следовательно, позади каждого данного события стоит своя цепь причин-следствий. Поэтому каждое событие можно объяснить, прослеживая ту цепь причин, которая к нему привела. Но упомянутые причинные цепи событий между собой в причинном отношении уже не стоят. Они развертываются как замкнутые, очерченные ряды. Представим теперь себе, что два или более таких причинных ряда пересеклись между собой в пространстве и во времени или даже только во времени. В результате такого пересечения возникает событие X. Его нельзя объяснить и понять, исходя из какого-либо одного пересекающегося причинного ряда, т[ак] к[ак] это событие^не обусловлено внутренним ходом развертывания причинного действия какого-либо из этих рядов [в] отдельности. Оно обусловлено скрещиванием рядов. Но в таком случае его вообще объективно нельзя понять, т[ак] к[ак] причинные ряды между собою в причинном отношении не стоят и потому для скрещивания их нельзя указать оснований. Событие, возникшее в результате скрещивания двух и более причинных рядов, и является случайным. Причем категория случайности имеет здесь объективный характер и не коренится в нашей неспособности объяснить явление, так как для пересечения причинных рядов именно в данном месте и в данное время или только в данное время объективно нет специальных причин. Все, что о нем можно сказать, это именно то, что оно случайно. Иллюстрируем изложенный взгляд тем примером, который при этом обычно приводится. По улице города идет человек. На этой улице каменщики строят новый дом. В тот самый момент, коща человек проходит мимо строящегося дома, каменщик роняет кирпич, который убивает проходящего человека. Что человек шел по улице, говорят, комментируя приведенный пример, это событие можно объяснить, исходя из причинной цепи, уходящей в условия и образ жизни этого человека. Можно объяснить также и то, что каменщик находился на стройке и уронил кирпич, если разобраться в обстоятельствах, приведших каменщика на стройку, в его свойствах как рабочего и в условиях его работы на данном доме. Но факт пересечения первого и второго причинного ряда, факт, что каменщик кирпич уронил именно в тот момент, когда человек проходил мимо дома, и так, что он попал ему на голову, объяснить нельзя, для этого никакой специальной причины указать невозможно. И поэтому данный факт смерти человека является чистым случаем в объективном смысле.
Такой взгляд на случай и категорию случайности, как бы он ни казался глубоким и ярким, все же принять нельзя. Начнем его разбор с чисто формального соображения. Если каждое событие А, В, С и т. д. имеет свою причину и стоит в конце определенного причинного ряда, то X, в данном случае смерть человека от удара кирпича, есть тоже событие. И раз оно событие, оно согласно первому положению имеет свою причину, стоит в конце определенного причинного ряда. Тогда его нельзя выделять из массы других событий и рассматривать как случай в объективном смысле. Если на это скажут, что хотя X и событие, но особое событие, т[ак] к[ак] оно произошло на точке пересечения двух независимых причинных рядов, то против такого соображения легко возразить. И всякое иное событие А, В, С тоже всегда и неизбежно происходит в результате пересечения двух или большего количества причинных рядов. Действительно, возьмем отдельно событие, что человек шел по улице. Разве оно не явилось результатом пересечения известных причинных рядов, например того ряда, который привел к возникновению у человека необходимости выйти из дому по делу, того, который привел человека к необходимости именно идти, а не ехать по улице, того, который заставил его идти именно по данной, а не по другой улице и т. д. Возьмем теперь событие: каменщик уронил кирпич на данном месте этой улицы. Разве оно в свою очередь не является результатом пересечения нескольких причинных рядов: того, например, который привел к необходимости строить дом именно на данной улице, того, далее, который привел каменщика именно на данную стройку, того, который в ходе стройки заставил каменщика и кирпич быть именно в данном пункте стройки и т. д. Отсюда ясно, что если событие X считать особым событием и случайным только потому, что оно есть результат пересечения нескольких причинных рядов, то с такой точки зрения решительно все события являются случайными, так как каждое из них возникает в результате пересечения нескольких причинных рядов. На это могут, однако, еще раз возразить, что так. Причинные ряды, в результате которых возникает событие А (движение человека по данной улице), а также те ряды, в результате пересечения которых возникло событие В (каменщик уронил кирпич), — особые ряды, они внутренне связаны между собою. Наоборот, причинные ряды, в результате пересечения которых возникает событие X, такой внутренней связью не обладают. Здесь мы приходим к исходным позициям рассматриваемого взгляда. И эти исходные основные позиции также не могут быть защищены. Действительно, какой же избрать критерий для решения вопроса о том, что одни ряды связаны, а другие нет? Вернемся к нашему примеру.
Где-то в глухой провинции родился человек, вырос, стал каменщиком, отправился в поиски работы, побывал в различных городах и, наконец, попал в данный город. В этом городе много лет тому назад на данной улице был построен деревянный дом. Его хозяин занимался торговлей и разбогател. Затем дом его сгорел, и он решил построить новый каменный дом. Почему эти два ряда, которые привели каменщика именно на стройку данного дома на данной улице, следует считать связанными, сливающимися в конце как бы в один и приводящими к событию В, т. е. к падению кирпича, а этот получившийся в результате слияния ряд и ряд, приводящий человека на улицу, наоборот, следует считать несвязанными, не сливающимися в итоге в один и не кончающимися определенным событием X — смертью человека от удара упавшего кирпича? Это событие X так же могло не произойти, как и то событие В, что каменщик уронил кирпич, или, наоборот, оно так же не могло не произойти, как и событие В. Если бы человек пошел по другой улице, он не был бы убит. Но если бы каменщик нанялся на другую стройку, то он не уронил бы кирпич. И если каменщик не мог не наняться на эту стройку и не уронить кирпич, то столь же верно и необходимо, как и то, что человек не мог пойти по другой улице и не быть убитым. Совершенно очевидно, что отстоять позицию специфической особенности одних причинных рядов как не связанных в отличие от других как связанных так же невозможно, как и разобранную выше мысль, что А1 — особое событие, потому что оно возникает в результате пересечения нескольких причинных рядов. Отсюда мы приходим снова к той же дилемме: или событие X как результат пересечения несвязанных рядов объективно случайно, и тоща случайны все события А, В, С и т. д., т[ак] к[ак] все они возникают в результате пересечения несвязанных рядов, или события А, В, С… как результат пересечения связанных рядов не случайны, но тогда не случайно и событие X, потому что оно возникло также на основе в такой же мере связанных рядов. Принять первую часть дилеммы невозможно, т[ак] к[ак] тоща, будучи последовательным, нужно было бы прийти к отрицанию возможности познания и науки, а она существует. Следовательно, можно принять только вторую часть дилеммы. Но она означает, что случая в объективном смысле слова нет и категория случайности не может быть поставлена рядом с категорией причинной необходимости. Из предыдущего ясно видно, что затруднения, которые встречаются на путях разобранного взгляда, вытекают из ошибочного основного или исходного представления его, из представления о Вселенной как о сумме независимых причинных рядов, которые могут пересекаться или не пересекаться. Достаточно принять это положение, и мы приходим ко всем тем затруднениям, которые были рассмотрены выше. Однако нет никаких оснований принимать это положение. Нет никаких специальных оснований, говорящих в его пользу, а те затруднения, к которым оно приводит, говорят прямо против него.
Наоборот, гораздо больше оснований в пользу того представления о причинных связях, которое было изложено выше. Согласно этому представлению за каждым данным событием А стоит не причинная цепь в виде замкнутого ряда, а все более и более разветвляющийся комплекс, в пределе охватывающий в определенном смысле всю Вселенную. С такой точки зрения каких-то независимых причинных рядов нет, и каждое данное событие представляет собой лишь определенную грань, проявление всего подвижного комплекса или целого, определенную искру, выходящую из его недр. С такой точки зрения все события имеют в одинаковой степени свои причины, все они одинаково фундированы ходом жизни всего комплекса как целого. Но тогда действительно нет случайных событий как событий, которые не имеют специальных, по принятой выше терминологии, ближайших причин. Не может быть речи и о категории случайности как об объективной категории, стоящей рядом с категорией причинной необходимости. К этому выводу мы приходим, т[аким] о[браэом], как отправляясь от критики, взгляда, принимающего категорию случайности в объективном смысле, так и независимо от этого, идя положительным путем и беря за исходную точку тот взгляд на строение причинных связей в действительности, который был изложен выше.
И однако о случайности мы постоянно говорим. Мы говорим о случайных событиях в обиходе повседневной жизни. Мы видим, что о случайных событиях говорит и наука. Есть ли какие-либо основания для признания категории случайности после всего, что было сказано выше, и если есть, то какие, и в каком смысле ее следует понимать? Мы полагаем, что для признания категории случайности действительно существуют прочные основания, и роль ее в науке, как и в жизненной практике, огромна. Однако основания эти иные, чем те, которые указываются взглядам, разобранным выше. Ого приводит нас ко второму взгляду на случай и категорию случайности.
Всякое событие, взятое во всей полноте характеризующих его признаков, индивидуально и неповторимо. Неповторимо хотя бы уже потому, что необратим ход времени и мирового процесса. Однако незначительные усилия познания бывают иногда достаточны, чтобы видеть, что относительно данных условий многие события повторяются, повторяются по крайней мере в основных своих признаках, которые свидетельствуют, что речь идет в основном о тех же событиях. Такие события можно назвать регулярными. Нам придется остановиться на них ниже подробнее. Здесь же нам необходимо отметить, что те события, которые при данном состоянии знания выступают как регулярные, не относятся к категории случайных. Если мы видим регулярную смену дня и ночи, то хотя бы мы и не имели других знаний об этих явлениях, мы не считаем их случайными. Первые халдейские пастухи, которые следили за движением небесных светил, равным образом не считали эти движения случайными: хотя они и не знали причин и законов их движения, но они видели их регулярность. Наоборот, экономисты-классики склонны были говорить лишь о случайных затруднениях в торговле, т[ак] к[ак] им была и не могла не быть неизвестной регулярность повторения экономических кризисов. Т[ак] к[ак] признак замеченной регулярности независимо от наличия или отсутствия других знаний ясно говорит о том, какое событие не является случайным. Вместе с тем он говорит, что случайными могут считаться только иррегулярные события. Однако не всякое иррегулярное событие является тем самым и случайным. Случайными являются лишь некоторые иррегулярные события.
Все события причинно обусловлены1. Изучая и объясняя их, наука стремится уста[но]вить их причинные связи. Таков основной и общий вывод, который мы можем сделать в результате предыдущего анализа категорий причинной необходимости. Обусловленными являются и все иррегулярные события. Однако необходимо строго различать между тем, что общностью категории причинной обусловленности, которой подчинены все события действительности, между общностью этой категории, которая может быть выявлена наукой фактически лишь в идеале, в пределе, и тем действительным знанием причинных зависимостей, которым мы можем обладать на каждой данной стадии развития науки. На каждом данном этапе состояния нашего знания всегда можно выделить события, причинную обусловленность которых мы знаем с той или иной степенью полноты. Так, мы можем знать, чем оно вызывается, каков механизм воздействия причин и каковы количественные соотношения причин и следствий. Или мы можем знать только причины и количественные соотношения их со следствиями. Мы можем знать, далее, лишь причины и механизм их действия, не зная количественных результатов этого действия. Мы можем знать только причины данного события, не зная ни механизма, ни количественных результатов их действия. Мы можем знать, наконец, лишь регулярные соотношения между явлениями, не зная точно их причин и полагая лишь, что в основе этих регулярных соотношений лежит действие и регулярных причин. По существу сюда (с точки зрения исследования причин) нужно отнести уже упомянутые выше установления регулярности событий.
Но на каждом этапе развития нашего знания есть также и события, причины которых мы совершенно не знаем. Причем причины одних из них мы не знаем потому, что причины эти не изучены, хотя по состоянию методов науки принципиально и могут быть с той или иной мерой полноты установлены. Наоборот, другая группа этих событий такова, что причины их при данном состоянии науки и ее средств в только что перечисленном смысле и не могут быть установлены. Т акие иррегулярные события, причины которых в научном смысле слова при данном состоянии научного знания и его средств не могут быть определены, мы и называем случайными. Мы выделяем в определении научный критерий определяемое™ причины, а не обыденный, и научные возможное™ их определения, а не обыденные. И это потому, во-первых, что все наше построение ведется в плоское™ науки и потому не обязано руководиться какими-либо обыденными критериями, если они научно нерациональны, во-вторых, потому что иначе мы могли бы оказаться перед неразрешимыми затруднениями. Обыденное мышление различных людей может быть глубоко различно и субъектавно. Обыденное мышление, например, верующего человека может объяснять всякое явление просто ссылкой на промысел Божий, удовлетворяться этам и тем снять самый вопрос о категории случая. Отсюда ясно, что критерии и средства обыденного мышления не могут быть положены в основу определения случая. Наоборот, то определение его, которое было дано выше, оказывается вполне пригодным. Если мы бросаем монету вверх, то факт ее падения для нас не будет случайным, т[ак] к[ак] мы знаем причины ее падения и даже законы их действия. Тот факт, что она упадет и ляжет на землю тем или иным из своих оснований, также не будет для нас случайным, т[ак] к[ак] мы знаем те основные причины, которые определяют условия равновесия тел. Но если она станет на ребро, этот факт будет для нас уже случайным, т[ак] к[ак] мы не знаем и не можем [знать] при наличных средствах науки тех специальных причин, которые в комбинации с основными известаыми нам условиями равновесия тел заставят ее в данном случае стать на ребро. Равным образом для нас будет случайным и факт выпадения именно орла, а не решетки или решетки, а не орла. Действительно, мы знаем, что при условии правильного строения монеты факт выпадения именно орла, а не решетки или наоборот может зависеть не только от действия силы тяжеста и формы монеты, но и от строения и движения воздуха, и от формы движения руки человека, который бросает монету, от силы, с которой производится бросание, от формы и свойств поверхноста, на которую монета падает, и т. д. И вот некоторые из этах причин в их точном выражении для нас неуловимы2. Отклонение бросающей руки на какую-нибудь ничтожную долю миллиметра здесь на фоне действия другах причин решает вопрос — быть ли орлу или решетке. Именно э™-то и подобные им, сами по себе очень малые, причины в каждом конкретном случае мы не в состоянии уловить. Здесь мы наталкиваемся как бы на интенсивное многообразие мира и на бесконечность этого многообразия.го многообразие состоит в том, что каждое самое ничтожное и малое явление обладает своими особенностями. Своими особенностями будет отличаться каждое движение руки, бросающей монету, своими особенностями будет отличаться тот участок воздушной атмосферы, который прорежет брошенная монета, тот пункт земной поверхности, о который она ударится при падении, то сотрясение воздуха, которое будет вызвано ее падением, те движения, которые она сделает после удара в силу упругости, и т. д. Этот факт интенсивного многообразия и является источником тех многообразных, но неуловимых причин, о которых мы говорили. Между тем они дают вполне определенное следствие, окончательно определяя, что выпадет — орел или решетка. Наших знаний оказывается достаточно, чтобы сказать, что монета необходимо упадет и что выпадет орел или решетка. Но их оказывается недостаточно, чтобы сказать точно, что же именно выпадет. Мы могли бы это сделать и, следовательно, объяснить явление орла или решетки лишь в том случае, если бы располагали иными средствами познания, были бы в состоянии уловить действие упомянутых малых причин и тем самым преодолеть многообразие этих причин, от сочетания и влияния которых зависит конкретный результат.
Возьмем другой пример, именно тот, который мы разбирали при критике взгляда на случайность как на объективную категорию: человек идет по улице города, ему на голову падает камень из рук каменщика, находящегося на стройке нового дома, и убивает его. Здесь факт смерти человека от удара упавшего ему на голову камня причинно так же обусловлен, как и все другие события. Но для того, чтобы объяснить его, нам нужно выявить те причины, которые привели данного человека на данную улицу, в данный ее пункт и именно в данное время, те причины, которые привели к стройке каменного дома именно на данной улице, в данное время, те причины, которые привели данного каменщика на данную стройку и на данной стройке в данный ее пункт, те причины, которые обусловили местонахождение кирпича и его падение в данное время из рук каменщика, причины, которые обусловили траекторию кирпича и силу его удара и т. д. Причины эти столь многообразны и сложны, что мы при данных средствах познания и при данном уровне знания не в состоянии их охватить3.
Здесь в отличие от первого случая мы сталкиваемся преимущественно с экстенсивным многообразием мира. Действительно, в первом случае факт бросания монеты был нам дан, и нам не нужно было его выяснять. Речь шла о совокупности причин, которые действуют на монету, которая уже брошена. Во втором примере, чтобы понять событие, мы должны охватить всю совокупность причин, которые, коренясь в общей констелляции мирового целого, вели к данному событию. Мы не в состоянии их охватить полностью и потому считаем факт смерти человека от удара кирпича, упавшего из рук каменщика, случайным.
Т[аким] о[браэом], некоторые события мы не в состоянии объяснить потому, что при объяснении наталкиваемся на факт интенсивного многообразия мира и соответственно на неуловимость всех тех малых причин, которые вытекают из факта этого многообразия. Другие события мы не в состоянии объяснить, потому что наталкиваемся на бесконечность экстенсивного многообразия мира и, следовательно, на слишком большое число и сложность причин, которые имеют место в силу этою многообразия. Но есть еще третья категория событий, затруднения в объяснении которых коренятся одновременно в условиях как интенсивного, так и экстенсивного многообразия мира. Общим для всех этих событий является то, что при данном состоянии научного знания и его средств мы не в состоянии их объяснить. И мы называем их случайными.
Отсюда ясны отличительные особенности категории случайности. Если категория причинности есть категория самого бытия, то категория случайности в конечном итоге есть категория нашего познания, есть категория, указывающая на наличие границ этого познания. На этом основании иногда говорят, что взгляд, отрицающий случай как объективную категорию, признает случай в субъективном смысле, признает категорию случайности в субъективном смысле. С нашей точки зрения, случайность или не случайность события решается не состоянием субъективных знаний, а состоянием науки. Это состояние науки есть объективный факт. Поэтому границы случайности определяются совершенно объективно. И если противопоставлять термин случайности в объективном и субъективном смысле, то при этом необходимо помнить, в каком значении употребляется здесь термин «субъективный». Во всяком случае было бы совершенно недопустимой ошибкой отождествлять его с «произвольным» или даже «индивидуально-психологическим». Речь идет только о таком понимании, которое видит корень категории случайности не на стороне бытия, а на стороне познания, точнее, научного познания.
Из сказанного ясно, что границы случайного до известной степени лишены строгой фиксации. С изменением объема и средств познания они меняются. Но не следует думать, что они меняются очень быстро и часто. Так как мы не отождествляем со случайным всего, причины чего неизвестны, а лишь то, причины чего при данном состоянии научного знания и его средств и не могут быть познаны, то очевидно, что границы случайности находятся в теснейшей связи с эволюцией средств познания. Средства, позволяющие нам видеть то, чего ранее мы не видели, средства, позволяющие нам улавливать и учитывать то, чего раньше мы не могли учесть, средства, позволяющие нам охватывать целое, чего раньше мы не могли делать, ограниченны и меняются медленно.
Глава VIII. КАТЕГОРИЯ СУЩЕГО И ДОЛЖНОГО В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ] НАУКАХ Социальное хозяйство есть определенный отрезок действительности. Должны ли мы при исследовании рассматривать его только как сущее, только под углом зрения категории Sein, или же мы можем, не выходя из пределов науки, рассматривать его также и с точки зрения долженствования, с точки зрения категории Sollen? Имеет ли та и другая точки зрения что-либо общее между собой или, наоборот, они принципиально различны и какое-либо сближение, а тем более смешение их совершенно недопустимо? И если рассмотрение явлений социально-экономической действительности с точки зрения категории должного допустимо, то в каком смысле и в каких пределах? Эти вопросы не перестают волновать социальные науки вообще, и социальную экономию в частности, до самого последнего времени. И это вполне понятно. С одной стороны, принятие категории должного вызывает величайшие теоретико-познавательные и методологические сомнения, с другой — глубочайшие силы постоянно привлекают человека к ней, навязывают ему се. Действительно, пока мы рассматриваем предмет под точкой зрения категории бытия, мы находимся в сфере объективной реальной действительности, можем высказывать о ней суждения, которые поддаются проверке на основе опыта. Наоборот, рассмотрение предмета под точкой зрения категории должного есть рассмотрение его не таким, каким он есть, а таким, каким, по нашему убеждению, должен быть. Но для того чтобы видеть, что данный предмет фактически не таков, каким он должен быть, для того чтобы решить, каким же он должен быть, нужно иметь критерий, идеал, с точки зрения которого можно было бы оценить существующий предмет как он есть и построить его идеальный, долженствующий быть образ. Совершенно ясно, что при выборе этого критерия и при построении в соответствии с ним идеального образа предмета мы уже находимся в сфере не реального бытия, а в области идеального. Здесь уже мы лишены возможности проверки своих суждений путем опыта и рискуем оказаться во власти личного усмотрения и субъективизма. Именно отсюда и возникают постоянные сомнения в том, что суждения под категорией должного могут иметь общезначимость и быть элементами научного знания.
Но как бы ни велики были эти сомнения, мы вновь и вновь возвращаемся к ним, и притом особенно в сфере социальных, и в частности в сфере социально-экономических наук. Человек не только и не столько познает сущее, но он еще действует, ставит себе практические цели, выдвигает идеалы своих стремлений. Он живет не столько в сфере «чистого'', сколько «практического разума». И эта двойственная природа человека при явном преобладании его практических устремлений является той неистощимой почвой, на которой держится его постоянная склонность рассматривать предмет прежде всего под практической точкой зрения, под точкой зрения категории должного. Именно здесь психологическое основание трудности для него отделить теоретическую и практическую точку зрения на предмет. Сказанное верно в отношении человека в его обыденной жизни. Но оно верно и в отношении научного мышления, т[ак] к[ак] наука создается людьми и вырастает в атмосфере социальной жизни со всей ее конкретной сложностью. Однако в отличие от обыденного мышления научное мышление не может пройти мимо тех сомнений, которые возникают в связи с введением категории должного при научном исследовании. Отсюда борьба научных течений вокруг категории должного. Если для других наук, в частности для философии, этики и пр., вопрос о допустимости категории должного есть вопрос уже старый, можно сказать «вечный», то сознательная и открытая постановка его как методологической проблемы в социально-экономических науках есть дело недавнего прошлого, второй половины XIX в.
В 70-х годах прошлого века формируется т[ак] называемая] этическая школа политической экономии. Имея во главе Шмоллера, она объединила около себя ряд выдающихся экономистов в Германии и отчасти в Англии, как Шюц, КДитцель, Кюнц, Г. Кон, Брентано, Конрад, Эйзснгардт, Геркнер, Лексис, Филиппович, Вагнер, позднее Гессе и др. В вопросе о категории должного представители этической школы встали на точку зрения, что она может иметь применение в социальной экономике'. И возникший в 1871 году Союз] социальной политики, в который вступили большинство экономистов Германии, но который находился под преобладающим влиянием именно этической школы, фактически поставил одной из основных своих задач научное обоснование принципов социальной политики и пропаганду их[161].
С другой стороны, уже в самом начале 80-х годов в своем исследовании о методах социальных и в особенности экономических наук, которое было, собственно, первым опытом систематического анализа методов социальной экономии, К. Менгер высказался решительно против этической школы и против применения в социальной экономии категории должного, хотя он одновременно и признал возможность практических экономических наук, как экономическая политика и наука о финансах*.
Начиная с 90-х годов на экономистов Германии и др[угих] стран начинают все большее влияние оказывать философские и методологические воззрения неокантианства, в особенности воззрения Фрейбургской школы во главе с Виндельбандом и Риккертом и воззрения Штаммлера. Влияние воззрений этих философских течений на экономическую мысль было в интересующем нас вопросе различно. Для одних, в частности для некоторых сторойников этической школы, они послужили основой для аргументации в пользу допустимости в социальной экономии категории должного. Другие, наоборот, восприняли преимущественно иные элементы указанных философских учений и использовали их как оружие против введения категории должного в социальную экономию. В 1904 г., приняв на себя редактирование журнала «Archiv fur Sozialwissenschaft und Sorialpolitik», М. Вебер опубликовал в нем статью[162], в которой, опираясь отчасти на некоторые стороны философии Виндельбанда и Риккерта, он определенно признал, что все построения под категорией должного, все положения политики, ориентированные на известный социальный идеал, так же как и защита того или иного идеала, не могут обладать общезначимостью и объективностью научных суждений. Появление статьи М. Вебера послужило поворотным пунктом в смысле оживления внимания и интереса около проблемы категории должного в социально-экономических науках и соответственно около вопроса о научной значимости т[ак] Называемых] суждений ценности. Исходя из других, чем Вебер, положений против смешения науки и политики, против внесения в социальную экономию категории должного выступили последовательно Зомбарт[163], Диль[164], Вебер[165], Поле[166] и Фойгт[167].
Свои статьи, направленные против политизирования в теоретической экономии, Поле выпустил в расширенном виде в 1910 г. специальной брошюрой под весьма характерным заглавием «Современный кризис в немецкой политической экономии»[168]. Причем Поле говорит здесь о ее кризисе именно как о следствии захва;
poutischcr [Heft 1. S.
тившего ее смешения и переплетения науки и политики, теоретических учений и политических воззрений. Бренато, хотя он и принадлежит в других вопросах к числу сторонников новой исторической, т. е. собственно этической, школы, специально по вопросу о научном значении категории должного и суждений ценности равным образом занял сторону противников[169].
Параллельно или точнее в противовес аргументации противников применения категории должного при рассмотрении социальноэкономических явлений развертывалась, однако, аргументация и сторонников ее применения. В этом направлении одно за другим последовали выступления Г. Кона[170][171], Геркнера11, Гессе[172], Филипповича[173], Шпрангера[174], Келера[175]. Сюда же нужно отнести выступления Штольцмана и Шпанна. В конце десятых годов настоящего столетия под сильным влиянием философии Канта и неокантианцев Виндельбанда и Риккерта за необходимость для политической экономии категории должного высказался выдающийся русский экономист Туган-Барановский[176]. Т[аким] о[бразом] он в известной мере сблизился с этической школой политической экономии. С другой стороны, методологически он сблизился с самобытным русским течением, известным под именем субъективной школы в социологии. Как в лице своих основоположников Михайловского и Лаврова, выступавших еще с 70-х годов прошлого века, так [и в лице] своих продолжателей, например Каресва, [Ч]ернова и др., эта школа твердо стояла на позиции необходимости и неизбежности для общественных наук категории должного и оценочных суждений.
Предыдущие указания позволяют утверждать, что действительно вокруг вопроса о применении категории должного в социальноэкономических науках за последнее время имеет место очень большое оживление внимания и мысли. Причем нужно заметить, что различны между собой не только позиции сторонников от позиций противников применения категории должного, но различны также позиции и отдельных сторонников категории должного в отношении оснований, пределов и форм их применения. Равным образом далеко не совпадают между собою по основаниям и радикализму и позиции противников применения категории должного. Чтобы лучше разобраться в вопросе, рассмотрим прежде всего, в чем состоит основная особенность взгляда на предмет под точкой зрения категории должного и откуда проистекает трудность вопроса о применении этой категории.
Результаты знания о любом предмете выражаются в суждении. Всякая научная теория, как бы она ни была сложна, представляет собой поэтому известное единство совокупности суждений. То же самое можно сказать и о любой науке в целом: она есть также единство совокупности суждений. Ввиду сказанного мы можем в дальнейшем, при анализе вопроса о применимости категории должного, для простоты оперировать не со сложными научными построениями, а с суждением как наиболее общим и простым элементом всякой научной теории.
Возьмем ряд суждений: 1) этот человек не считается с нуждами своих ближних; 2) характер человека зависит от полученного им воспитания; 3) этот человек вырос в очень неблагополучных условиях; 4) по всем данным, этому человеку будет трудно жить.
Возьмем другой ряд аналогичных суждений: 1) в настоящее время цены на хлеб равны X коп. за пуд; 2) средний уровень хлебных цен определяется издержками производства при существующих условиях; 3) импортные пошлины всегда являются фактором повышения хлебных цен; 4) по всем данным, хлебные цены в ближайшее время повысятся.
Во всех этих суждениях мы или констатируем, или объясняем, или предсказываем факты действительности. Во всех них мы выражаем то или иное знание действительности как таковой. Мы рассматриваем ее совершенно независимо от себя и лишь усматриваем ее свойства, усматриваем строй этих свойств, выражаем их и их строй в определенных понятиях. Наряду с этим все приведенные и подобные суждения доступны той или иной проверке в опыте, и притом в коллективном опыте. В силу объективности содержания этих суждений и возможности проверки их в опыте они принципиально обладают общезначимостью. Все такие суждения, в которых что-либо утверждается или отрицается относительно действительности как таковой, которые, следовательно, имеют содержанием саму действительность и могут быть проверены опытом, есть суждения теоретические. Все они рассматривают действительность под категорией бытия, и только бытия.
К числу их относятся, следовательно, суждения, которые констатируют, описывают или объясняют существующие или существовавшие факты и явления. К числу их относятся также и те суждения, в которых содержится прогноз будущих фактов и явлений, поскольку этот прогноз является выводом из изучения действительности как она есть и была. Критерием при решении вопроса о том, является ли то или иное суждение теоретическим, не может служить такой внешний признак, как присутствие или отсутствие в предложении, которым словами выражается суждение, термина " должен" . Не все суждения, содержащие термин «должен», тем самым уже не являются теоретическими суждениями. И наоборот, не все суждения, не имеющие этого термина, являются суждениями теоретическими. Это с ясностью мы увидим из дальнейшего. Но уже здесь отметим, что очень часто суждения чисто теоретического характера словесно содержат в себе термин «должен». Так, если экономист, установив определенные предпосылки, анализирует проблему хлебных цен и заявляет, что при взятых им условиях цена хлеба должна равняться издержкам производства при наихудших условиях, то здесь термин «должна» не превращает его суждения в суждение ценности, так как он содержит в себе простое указание на связь следствия к своему основанию. Точно так же если экономист, анализируя условия хлебного рынка, на основании этого анализа заключает, что, скажем, в течение ближайших месяцев хлебные цены должны упасть, то и здесь термин «должны» указывает только на связь следствия со своим основанием[177]. Возьмем теперь такие суждения: 1) Любите друг друга; 2) Нация должна стремиться к развитию всех своих материальных и духовных производительных сил. Можем ли мы сказать, что эти суждения являются такими же суждениями, как и те, которые были выше названы теоретическими? Очевидно, что нет. В только что приведенных суждениях нет ни одного признака, характерного для теоретических суждений. Здесь ничего не утверждается и не отрицается относительно свойств, которые принадлежат действительности. Наоборот, здесь высказывается лишь указание о том, какими свойствами эта действительность должна обладать. Но в таком случае, может быть, перед нами вообще не суждения? Однако это не так. Приведенные выражения содержат в себе определенную мысль, определенный смысл и удовлетворяют всем формально логическим свойствам суждения. Очевидно, что перед нами суждения, но суждения, глубоко отличные от теоретических суждений. В чем же лежат специфические особенности этих новых суждений, каково их строение и функция в отличие от теоретических суждений? Чтобы ответить на эти вопросы, выявим прежде всего те свойства новых суждений, которые являются в них не основными, а внешними и случайными. Вместе с этим сейчас же вскрываются перед нами и те свойства их, которые являются для них конститутивными. Вскроется одновременно и родство таких суждений, которые по внешним и случайным признакам представляются первоначально совершенно различными. Такими внешними случайными свойствами нового типа суждений нужно считать форму их словесного выражения. Эта форма нас не должна вводить в заблуждение, и за ней мы должны увидеть подлинную структуру нового типа суждений. Действительно, суждение «Любите друг друга» легко преобразовать или развернуть в следующее адекватное ему по смыслу сочетание суждений: 1) Любовь людей друг к другу есть высшее благо; 2) Люди, любящие друг друга, есть хорошие люди; 3) Поэтому любите друг друга.
Отсюда мы видим, что суждение, сформулированное в повелительном наклонении: «любите друг друга», представляет собой лишь краткий вывод, заключение силлогизма. И как таковой, он совершенно ясен из двух стоящих за ним посылок. Может показаться, что здесь пропущена еще одна посылка; может показаться, что за второй посылкой должно стоять еще такое суждение: я хочу, чтобы вы были хорошими людьми. Только тогда, казалось бы, вывод «любите друг друга» будет вполне последователен. Однако пропуска указанного звена нет, т.к. по смыслу оно значит то же, что и вывод «любите друг друга», представляя собой лишь иное словесное выражение его. Действительно, если даны две первые посылки, то вывод из них с равным смыслом может быть сделан в любой из следующих словесных форм: 1) я хочу, чтобы вы были хорошими людьми, чтобы вы любили друг друга; 2) я хочу, чтобы вы были хорошими людьми; 3) я советую вам любить друг друга; 4) любите друг друга; 5) пусть любовь воцарится между людьми и т. д.
Но если все это так и если словесная формулировка разбираемого суждения в повелительном или ином наклонении является лишь внешней краткой формой вывода из своеобразного силлогизма, то это позволяет нам сблизить между собой целый ряд суждений, которые на первый взгляд кажутся совершенно различными. Действительно, наряду с суждением «любите друга друга» возьмем суждение «это плохой человек». В нем нет непосредственно выраженного призыва, совета, приказа. Непосредственно в нем выражено мнение о человеке, указано одно из свойств человека. Поэтому внешне это суждение как будто родственно не суждению «любите друг друга», а тем теоретическим суждениям, в которых мы констатируем те или иные факты или свойства действительности. И однако это не так. Свойство человека, обозначаемое словом «плохой», нельзя найти у человека как такового, его можно проектировать на человека лишь при взгляде на него с определенной точки зрения. И легко видеть, что по существу суждение «это плохой человек» есть также краткий вывод из следующего силлогизма: 1) любовь людей друг к другу есть высшее благо; 2) люди, не любящие ближних, — плохие люди; 3) этот человек не любит своих ближних; 4) этот человек — плохой человек. Словесная формулировка вывода этого силлогизма равным образом может быть иной. Так, 3-е положение может быть совсем упущено. Оно может быть соединено с 4-м положением и сформулировано так: этот человек как не любящий ближних — плохой человек и т. д. Очевидно, что совершенно аналогичным же образом можно разобрать и обратное суждение: этот человек — хороший человек.
Освобождаясь таким образом от чисто внешних словесных признаков, мы убеждаемся, что между суждением «любите друг друга» и «этот человек — плохой (или хороший) человек» обнаруживается внутреннее родство. Мы наталкиваемся на группу суждений, в которых выражаются приказы, советы, пожелания, одобрения, порицания и т. д. и которые при всем различии их внешней формы обладают однородной логической структурой. В чем же состоит эта структура? Все указанные суждения в своем развернутом виде предполагают признание или наличие какой-то руководящей исходной нормы (критерия, идеального требования или масштаба), в свете которой суждение только и имеет свой смысл и свою значимость. В наших примерах такой нормой служит признание, что «любовь людей друг к другу есть высшее благо». Разумеется, здесь эта именно норма, а не другая, взята условно. Для иллюстраций можно было бы взять и иные нормы. Но достаточно устранить из поля зрения такую норму совершенно — и любое из суждений порицания, одобрения, приказа, пожелания и т. д. потеряет всякий свой логический смысл. Далее, всякое такое суждение опирается на одно или несколько суждений, которые устанавливают связь данного суждения с нормой. В наших примерах такими связующими суждениями служат суждения: в первом примере — «люди, любящие своих ближних, — хорошие люди», «я хочу, чтобы вы были хорошими людьми» или «вы хотите быть хорошими людьми», во втором примере — «этот человек не любит (или любит) своих ближних». Эти связующие звенья сами по себе по своей природе имеют уже чисто теоретический характер. Действительно, раз признана или указана норма, то их роль, их функция состоит уже в простом констатировании фактов, в установлении связи между этими фактами и не в чем другом. Иначе говоря, их роль есть та же роль, которую выполняют теоретические суждения. Действительно, после того как признана норма, что «любовь людей друг к другу есть высшее благо», какова роль суждений «люди, любящие своих ближних, — хорошие люди» или «я хочу, чтобы вы были хорошими людьми» и т. д. Они, как и всякие теоретические суждения, констатируют факты, устанавливают синтез их свойств. Таким образом, можно сказать, что анализируемая нами группа суждений, в которых выражаются совет, пожелание, порицание и т. д., логически всегда опирается на признание известной нормы и по крайней мере на одно связующее теоретическое суждение, которое возможно, однако, в свою очередь лишь при наличии нормы. Чтобы ярче выявить особенность изучения таких суждений, проведем сравнение их с каким-либо бесспорным теоретическим суждением. Возьмем широко распространенный в книгах пример с суждением «Сократ смертен» и сравним его с суждением из нашего примера «этот человек — плохой человек». Известно, что суждение «Сократ смертен» по существу является тоже кратким выражением вывода целого силлогизма. Но строение этого силлогизма и силлогизма, выражением которого является наше суждение, глубоко различно, что видно из следующей схемы:
| 1. Любовь людей друг к другу есть высшее благо (норма). 2. Люди, не любяпвк своих ближних,—. плохие люди (теоретическое] суждение] связи).
|
Различие логической структуры и основы суждений «Сократ смертен» и «этот человек — плохой человек» бросается в глаза. И различие это сводится, во-первых, к тому, что в случае вывода первого суждения не предполагается никакой высшей нормы, а при выводе второго она предполагается; во-вторых, к тому, что теоретические связующие суждения во втором случае силлогизма могут иметь смысл только при условии заданности нормы.
Все суждения, в какой бы словесной форме они ни выражались, которые по своей логической структуре опираются в конечном счете на ту или иную норму (критерий, идеал), в отличие от теоретических можно назвать практическими суждениями или суждениями ценности.
Покажем прежде всего, что установление понятия теоретических и практических суждений дает возможность легко и безошибочно определять, с каким суждением мы имеем дело, когда сталкиваемся с ним на практике. Возьмем, например, суждение, очень близкое к кругу вопросов социальной экономии, — «режим свободы внешней торговли неудовлетворителен». Какое это суждение? Если те или иные группы населения, например промышленные предприниматели, торговцы и т. д., находят режим свободы внешней торговли неудовлетворительным и я лишь констатирую факт их недовольства, тоща, конечно, это суждение будет чисто теоретическое. Но тоща его нужно и формулировать так: такие-то круги населения находят режим свободы внешней торговли неудовлетворительным. Тоща смысл моего суждения будет заключаться не в том, что мною производится оценка режима внешней торговли, а в том, верно ли я констатирую факт недовольства известных кругов населения режимом внешней торговли. Совершенно иной смысл приобретает суждение, если в нем я сам высказываю мнение о режиме торговли. В моих устах оно тоща приобретает совершенно тот же логический смысл, как и в устах любого предпринимателя, торговца и других лиц, которые выражают свое мнение о режиме торговли. Тогда приведенная формулировка суждения будет совершенно точной и само суждение будет иметь практический характер, характер суждения ценности.
Действительно, нетрудно видеть, что это суждение является выводом примерно такого (или аналогичного, но логически однозначного) силлогизма: 1) развитие всех материальных и духовных производительных сил нации есть благо; 2) только тот режим внешней торговли удовлетворителен, который способствует развитию указанных производительных сил; 3) режим свободы внешней торговли не способствует этому; 4) режим свободы внешней торговли неудовлетворителен. Мы видим, что анализируемое суждение целиком удовлетворяет признакам практического суждения, указанным выше. К тому же выводу мы пришли бы при анализе и различных иных практических суждений, с которыми сталкивается экономист, например таких суждений, как «необходимо допустить свободу объединений предпринимателей», «необходимо признать свободу профессиональных союзов», «следует установить социальное страхование рабочих», «целесообразна политика высоких, а не низких хлебных цен» и т. д.
Мы показали, что те суждения, которые названы нами практическими или суждениями ценности, имеют сложный и своеобразный характер. Но возникает вопрос, имеют ли такое сложное строение многие простейшие суждения, в практическом характере которых никто, однако, не сомневается. Как, например, суждения: «Закрой дверь», «купи табаку», «эта шляпа очень хороша», «этот работник никуда не годится» и т. д. На этот вопрос нужно ответить. Вопервых, какие суждения в жизненном обиходе считаются практическими и какие нет, — это нс может служить решающим доводом за или против того или иного понятия. Во-вторых, можно с уверенностью сказать, что все приведенные и подобные простейшие суждения вполне удовлетворяют признакам практических суждений, какие были указаны выше. Все они логически являются выводом из такого силлогизма, который первой посылкой имеет признание известной руководящей нормы, какая бы она ни была (см. ниже). Возможно, конечно, и даже несомненно, что высказывающий такие простейшие суждения нс осознает всей структуры своей мысли и произносит их автоматически, как простое выражение желания, влечения, реакции и т[ому] п[одобных] психических состояний. Но, во-первых, когда мы высказываем теоретические суждения «этот человек идет», «6×7 = 42» и т. п., мы также поступаем автоматически, выражая свое непосредственное впечатление, воспроизводя запомнившийся арифметический результат и не отдавая себе отчета в той логической структуре, которую имеют наши суждения. Однако от этого такая структура не исчезает, и в этом отношении нет никакого различия между теоретическими и практическими суждениями. Во-вторых, нас интересуют, разумеется, в первую очередь не эти простейшие практические суждения, а те, которые претендуют на то, чтобы быть элементами научного познания. Эти суждения достаточно сложны, дифференцированы, и в них установленная нами структура практических суждений выступает с полной ясностью. Именно на таких дифференцированных суждениях после указания принципиального логического тождества всей группы практических суждений и следует, разумеется, вести анализ.
Многие считают необходимым при определении суждений ценности указывать как на их характерные свойства на то, что такие суждения предполагают в отличие от теоретических суждений наличие определенного положительного или отрицательного чувства, того или иного волевого импульса на стороне лица, высказывающего эти суждения. Однако анализ практических суждений с этой стороны был бы анализом психологии их выражения, нас же интересует и должна интересовать именно логическая сторона суждений, раз они являются таковыми и претендуют на значимость. Кроме того, определенные чувства и волевые импульсы могут сопровождать выражение и теоретических суждений. И очень трудно по такому субъективно-психологическому признаку, как характер переживаний, установить существо той или иной группы суждений. Это и не требуется, поскольку имеется возможность выделить их по тому, гораздо более существенному признаку, как логическая структура. Наконец роль чувства и волевых устремлений, на наш взгляд, должна быть действительно учтена при анализе практических суждений, но не при их определении, а при, как мы увидим, рассмотрении вопроса о нормах, которые лежат в основе таких суждений. К этому важнейшему вопросу о нормах в суждениях ценности мы и переходим.
Мы видели, что суждение ценности, хотя и предполагает по меньшей мере одно связующее теоретическое суждение, но в конечном счете в своем логическом значении опирается на какую-то исходную норму. Очевидно поэтому, что окончательный вывод о суждениях ценности и их отношении к науке можно дать только после анализа вопроса о нормах, лежащих в основе практического суждения. Что же такое эти нормы? Каковы их виды и природа?
Если экономист высказывает суждение, что необходимо ввести охранительные пошлины на текстильные изделия, то мы на основе предыдущего утверждаем, что он высказывает суждение ценности, практическое суждение. Следовательно, в основе его лежит какая-то норма. Пусть, анализируя вопрос, мы приходим к выводу, что в целом построение экономиста здесь таково: 1) развитие] отечественной текстильной промышленности целесообразно; 2) охранительные пошлины на текстильные изделия способствуют ее расцвету; 3) следует ввести пошлины на текстильные изделия. В таком случае отправной нормой для экономиста служит положение: расцвет отечественной текстильной промышленности целесообразен. Но легко видеть, что само это положение есть в свою очередь суждение, и притом суждение практическое. Следова[тельно], если мы ищем значимость своих суждений, мы должны посмотреть, на какую норму опирается это суждение. Примем, что это суждение предполагает в качестве своей нормы более общее положение: развитие отечественной промышленности целесообразно. Но эта более широкая норма есть в свою очередь практическое суждение и предполагает свою норму. Пусть, идя таким путем, мы дошли до очень общей обосновывающей наши суждения нормы, которую в свое время формулировал Лист: необходимо стремиться к развитию всех материальных и духовных производительных сил нации. Нас не интересует здесь вопрос о том, приемлемо или неприемлемо это положение по существу. Нас интересует исключительно логическая и методологическая сторона вопроса. И с этой точки зрения мы можем сказать, что формулированная общая норма есть в свою очередь практическое суждение и требует своей нормы. Так мы можем двигаться неопределенно далеко, к все более и более общим нормам. Но ясно, что ще-то мы должны будем остановиться, ясно, что какую-то общую норму мы должны будем принять как таковую и верховную. Тот анализ, который мы провели на основе практических суждений и отправляясь От вопросов внешнеторговой политики, мы могли бы применить к любой другой области экономической политики: аграрной, рабочей, денежной и т. д. И здесь, отправляясь от частных суждений и норм, мы неизбежно восходили бы к более общим суждениям и нормам. Причем ясно, — и так обстоит дело в действительности, — что, восходя от различных специальных суждений и норм ко все более общим, мы достигли бы норм, которые простирают свое определяющее влияние на ряд отраслей, и теоретически до единой нормы, которая была бы руководящей для всей сферы экономической политики.
Но практические суждения мы высказываем не только в сфере вопросов экономической политики. Мы высказываем их в любой области, где только проявляется человеческая деятельность, или точнее в любой плоскости, в какой ее можно рассматривать: в плоскости различных сфер морали, религии, права, искусства и т. д. И можно показать, что во всех этих случаях каждое частное практическое суждение будет [требовать] той или иной нормы и каждая такая норма, будучи в свою очередь практическим суждением, будет требовать с той или иной степенью последовательности более общих норм, пока мы не приостановим этот принципиально regress us ad infinitum. Вопрос о высшей религиозной заповеди, о высшей норме этики (которая нередко совпадает с высшей религиозной заповедью), о высшем критерии в искусстве и т. д. и есть борьба за выяснение высшей нормы, и есть попытка приостановить укаванный regressus.
Из предыдущего можно сделать несколько общих выводов о норме. Всякая норма практического суждения есть в свою очередь практическое суждение, но более общее. В силу этого нормы практических суждений каждой данной сферы человеческой деятельности, где они высказываются, связаны между собой и по меньшей мере имеют ярко выраженную тенденцию располагаться по своей общности и значению иерархически. Отсюда на верху этой иерархической лестницы мы имеем дело уже с немногими нормами. Принципиально каждая данная область деятельности имеет одну высшую норму. В каком соотношении находятся высшие специальные нормы, — это специальный вопрос, которым мы не будем заниматься здесь. Отметим лишь, что фактически имеют место тенденции не только координировать, но и субординировать им, например высшей религиозной или этической норме, субординировать им если не все другие высшие нормы, то по крайней мере некоторые. Таковы тенденции субординировать религиозной норме нормы этики, нравов, экономической политики. Таковы же тенденции субординировать другие нормы высшей норме этики.
Но если каждое частное суждение ценности в любой данной области содержит в себе ту или иную оценку действительности, требование к ней и иногда указание, в каком направлении ее следует изменить, если каждое частное суждение ценности опирается на известную норму, которая, будучи в свою очередь суждением ценности, опирается на новую высшую норму и т. д., если взгляд на действительность через призму суждений ценности начинается с оценки этой действительности, требований к ней и завершается теми или иными высшими нормами, т. е. тоже оценкой действительности и требованиями к ней, то это значит, что такой взгляд на действительность есть взгляд на нее под категорией должного. Этот взгляд на действительность под категорией должного, находящий свое выражение в суждениях ценности, по самому существу пропитан духом активности, духом стремления изменить действительность, перестроить ее. Отсюда ясно, насколько точка зрения на мир под категорией должного глубоко отлична от взгляда на него под категорией сущего. Это не значит, что взгляды на мир под той и другой точкой зрения не находятся ни в каком соотношении между собой. Мы видели и еще увидим, что это не так. Но отсюда специфическое своеобразие того и другого не исчезает. И это своеобразие взгляда на мир и на вещи под категорией должного дает возможность понять то огромное место суждений ценности, какое они занимают в практической жизни, в частности в практической хозяйственной жизни. Каждый человек в ходе своей жизни на каждом шагу высказывает суждения ценности. Он высказывает их, когда говорит о моральности или неморальности поведения, о допустимости или недопустимости различных актов поведения с религиозной и правовой точки зрения, с точки зрения этикета и изящества. Он высказывает их постоянно в процессе своей хозяйственной и политической деятельности. Частные суждения, ценности, насыщающие практическую жизнь каждого человека, с большей или меньшей ясностью координируются у него его представлениями о более общих и наконец о высших нормах. В совокупности своей они рисуют ему мир и жизнь не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Вот почему система суждений ценности человека, раз в ней сказывается влияние высших норм, выступает как форма выражения его идеалов. Но мы знаем, что взгляды человека в основе своей есть всегда взгляды той общественной среды, которая его окружает, и тех общественных групп, в которые он включен. В силу этого суждения ценности и те идеалы, которые находят выражение в них, в значительной мере носят не индивидуальный, а социальный характер. Общество имеет более или менее сложное организационное строение, более или менее резко выраженную дифференциацию на группы. И потому, как правило, в обществе нет единой системы идеалов, нет единой системы суждений ценности. Система общественных идеалов и суждений ценности изменяется вместе с изменением структуры общества. Но идеалы, выражаемые в суждениях ценности, вдохновляют человеческие массы, толкают их на те или иные пути действий и потому являются активной силой изменения самого общества. Они представляют собой вид социальной действительности и как таковые могут быть предметом объективного научного анализа.
При такой природе суждений ценности какое же отношение может быть к ним со стороны науки и могут ли они входить в состав науки, в частности экономической? Об отношении науки к суждениям ценности мы уже, собственно, сказали: они, как и выражаемые в них общественные идеалы, могут быть предметом науки как факты социальной действительности. Однако, как было уже указано выше, этим ограничиться не хотят. Многие, в частности многие экономисты, полагают, что суждения ценности могут входить в состав науки, в данном случае в состав экономической науки. Именно этот вопрос является предметом спора, и именно его нам нужно решить на базе предыдущего анализа. Защищая возможность включения суждений ценности в науку, никто не хочет лишить ее выводы объективности и общезначимости. Отсюда очевидно, что речь не идет о том, чтобы просто взять соответствующие суждения ценности, как они сложились и циркулируют в обществе: это означало бы ввести в науку как ее элемент обыденные мнения. В частности, экономисты не ставят вопрос о том, чтобы ввести в экономическую науку и специально в экономическую политику суждения ценности как они сложились в обиходе практики. Эти суждения все же обывательские суждения. И кроме того, чьи именно суждения нужно было бы взять? Общественных кругов много, много у них и разноречия в суждениях ценности. Речь идет, очевидно, об образовании новых научных суждений ценности или по меньшей мере научно переработанных суждений, хотя бы и заимствованных из практики жизни.
На основе всего сказанного выше нам представляется задача создания научных суждений ценности принципиально неразрешимой. Больше того, она представляется нам по существу внутренне противоречивой и потому бесплодной. Суждения ценности и в руках ученого остаются суждениями ценности. Если верен предыдущий анализ их строения, они опираются на некоторые связующие теоретические суждения. Нельзя, конечно, отрицать, что ученый может глубже, точнее и правильнее конструировать суждение ценности, поскольку это зависит от тех теоретических элементов, на которые оно опирается. Но теоретические элементы суждения ценности являются таковыми лишь постольку, поскольку дана норма, обосновывающая суждение ценности. В конечном счете поэтому вопрос об образовании научных суждений ценности есть вопрос о научном обосновании норм, и притом точнее высших норм. Но всякая, даже высшая, норма суждения ценности есть тоже суждение ценности и потому как таковое может быть обосновано опять лишь нормой.
Отсюда нам кажется совершенно очевидным тот порочный круг, в котором оказывается всякий, кто хочет обосновать суждение ценности, т. е. в конечном счете обосновать высшую норму. Жизненная практика, пропитанная суждениями ценности и устремлениями к идеалу, не обосновывает суждений ценности и норм, она творит их. Ученый, пытающийся обосновать нормы и тем самым суждения ценности, по существу хочет создать научную мораль, научную религию, научное искусство и т. д. Однако это стремление безнадежно. Религию, нравственность, искусство и т. д. можно научно изучать, но задача создания научной религии, научной нравственности совершенно равносильна задаче создания нравственной науки, религиозной, художественной и т. п. науки.
Поставленный перед задачей обоснования высших норм, на которых держится вся система принятых им суждений ценности, ученый, как и всякий другой человек, будет вынужден в конце концов принять те или иные, пусть еще более высокие и объемлющие, нормы как таковые без доказательств. Нельзя спорить, что при выборе их он может использовать свое знание истории человечества, исторических тенденций развития его хозяйства, права, техники и т. д. Эго, конечно, окажет влияние на его мировоззрение и на то, какие именно высшие нормы и идеалы он примет. Но это не даст ему обоснования таких норм и идеалов, и примет он их все же, не доказав их. Примет он их такими потому, что в действительности, сколько бы ее ни изучали, можно найти только действительность, между тем норма говорит всегда о том, что должно быть, об идеальном. Уже Кант, исходя из совершенно других положений в данном вопросе, пришел к непререкаемому выводу, к выводу, что перед вопросами об идеальном теоретический разум останавливается в бессилии. И он рекомендовал здесь обратиться к практическому разуму, приняв его указания только как веру. Как веру в конце концов примет [ученый] свои высшие нормы и идеи, которые он пожелает положить в основу научных суждений, как веру, которая, может быть, помимо его сознания определится совокупностью тех общественных условий, под влиянием которых он жил.
Здесь необходимо, однако, рассмотреть одну не лишенную теоретического интереса возможность выхода из затруднения. Эта возможность такова. Пусть высшая норма дан[ной] сферы суждений ценности недоказуема, пусть, например, идеал экономической политики (или mutatis mutandis — этический, религиозный, политический идеал) недоказуем. Но мы примем его как постулат, как регулятивную идею, а затем, исходя из него и опираясь на него, построим всю систему экономической политики (соответственно этики, религии и т. д.). Эта система внутренне будет теперь уже обязательна. Такова, например, логическая сущность построения царства Тел оса у Штаммлера. Нетрудно видеть, что по методу такое построение до известной степени аналогично построению математики, в частности геометрии, где вся система выводов держится на аксиомах и постулате. Изменение постулата приводит к иной системе геометрии. Рядом с геометрией Евклида мы имеем геометрию Римана и Лобачевского, причем все они теоретически совершенно правомерны и внутренне одинаково общеобязательны. Можно согласиться, что при принятии того или иного практического постулата или идеала вся система опирающихся на него суждений ценности, например система экономической политики, принципиально говоря, получит черты внутренней общеобязательности. И все же положение дела здесь будет глубоко отлично с положением его в математике. В математике речь идет не о суждениях ценности, а о теоретических суждениях. Изучая не Евклидово пространство, он изучает объект, который создан его творческой интуицией. Мы не знаем в реальной действительности идеального пространства, которое имеет в виду Евклидова геометрия. Поэтому математика вообще изучает объект, созданный творческой интуицией. Но она изучает его, она изучает его как объективно данный ей предмет. И она не предписывает, не предлагает, не считает должным, чтобы жизненная практика руководилась правилами геометрии Римана или Лобачевского, Лобачевского или Евклида. Практика ориентируется на пространство Евклида. Это ее дело, и она решает этот вопрос совершенно независимо от того, что думает о нем математика. Практика широко использует при этом выводы математики, поскольку последняя исследовала пространство Евклида. Математика не может, конечно, против этого возражать, и как люди математики должны быть удовлетворены, что они полезны.
Совершенно иначе обстоит дело с проблемой идеала, с проблемой высших норм и всей системы оценочных суждений. Идеал и система оценочных суждений как таковые не имеют познавательного значения. Смысл и назначение их состоит именно в том, чтобы сказать людям, что нужно делать, что нужно одобрять и что порицать. Поэтому идеал может быть живым, действенным, может возбуждать и направлять людей, или он вообще не имеет никакого смысла, является мертвым. И вопрос о том, является ли данный идеал живым или мертвым, решает не ученый, не логическое доказательство, а совокупность условий общественной жизни, определяющих веру социальных масс. Из истории мы знаем немало примеров, коща строго и логично построенные идеалистические системы оставались мертвыми и когда, наоборот, простая, безыскусственная и с научной точки зрения даже малофундированная идея вызывала потоки социального энтузиазма и покоряла миры. Очевидно, что дело создания живого идеала не в его научном доказательстве, не в построении внутренне обязательной системы суждений ценности исходя из постулированного идеала, а в провозглашении идеи, которая падает на благоприятную почву. Но в таком случае это не дело ученого как такового. М[ожет] б[ыть], тот или иной ученый, зная хорошо обстановку и обладая достаточной интуицией, легче, чем кто-либо другой, сможет формулировать такую идею. История этого не подтверждает, однако. Но если бы это было даже и так, все же, провозглашая новый идеал, такой ученый выполнял бы уже не научную функцию, а иную. Т[аким] о[бразом], мы приходим к выводу, что научных суждений ценности как суждений, утверждающих ту или иную высшую норму и идеал, быть не может. Поэтому такие суждения не могут быть и элементом науки.
Но науку создают люди, а люди, как мы отмечали уже, по самому существу своему склонны к выражению суждений ценности. Поэтому суждения ценности постоянно проникают и в науку. Проникают они и в социально-экономическую науку. Они проникают очень часто бессознательно. Но мы уже говорили, что многие экономисты и совершенно осознанно, и принципиально защищают такие суждения, думая, что они при этом не выходят из рамок науки и не лишают свои выводы общезначимости. Мы полагаем, что во всех случаях, когда сознательно или бессознательно суждения ценности вводятся в социальную экономию, для этого нет никаких научных оснований, что доказательства, приводимые в пользу суждений ценности, неосновательны, что внедрение их в социально-экономические науки является результатом смешения теоретической и практической точек зрения и что от такого смешения точек зрения наука только теряет, ничего не приобретая. Краткий обзор основных форм и случаев введения суждений ценности в экономические науки подтвердит наши выводы .
обсуждении которых, тем не менее, суждения ценности все же играют огромную роль. Возьмем, например, вопрос о проценте на капитал. Всем известна страстная борьба около этой проблемы. Но очень часто, даже в самую постановку ее вносится уже оценочный момент18. Так, выдающийся американский экономист Кларк, приступая к исследованию проблемы распределения, открыто заявляет, что если нельзя доказать неизбежности процента исходя из самой природы хозяйственной жизни общества, то взимание его оказывается величайшей несправедливостью и капитализм не имеет никакого оправдания. Некоторые авторы вносят, и притом совершенно сознательно, оценочный момент в основу всех, даже чисто теоретических, построений социальной экономии. Так, например, Туган-Барановский полагает, что значение практических интересов в сфере социально-экономической действительности так велико и они так различны, что экономист становится всегда перед проблемой, с точки зрения чьих интересов он должен изучать явления? Если с точки зрения интересов того или иного отдельного класса, то он должен признать правомерность существования не одной, а многих социальных экономий. Действительно, как он должен поступить даже в таком сравнительно простом вопросе: является ли заработная плата доходом или расходом? С точки зрения интересов рабочего, она — доход, а с точки зрения капиталиста, — расход. И выход, обеспечивающий единство экономической науки, он видит лишь в том, чтобы при построении ее встать на оценочную, высшую, этическую точку зрения, на точку зрения принципа равноценности человеческой личности. Эта высшая точка зрения во всех случаях дает возможность возвыситься над групповыми и классовыми интересами и приобрести «твердую почву для построения общеобязательной экономической науки»[178].
Однако было бы нецелесообразно заниматься выяснением роли и соотношения теоретических и оценочно-практических построений в современной социальной экономии. Роль суждений ценности и в ней очень велика. Но в отличие от прежнего времени во второй половине XIX века вопрос о месте и значении теоретических суждений ценности в социальной экономии был поставлен как самостоятельная методологическая проблема. Эти два типа суждений были разграничены. Следовательно, если исключить случаи бессознательных ошибок, можно полагать, что-то или другое место обоим суждениям отводится различными авторами в их построении вполне сознательно. В силу этого представляется гораздо более целесообразным остановиться на общем выяснении вопроса о теоретических суждениях и суждениях ценности именно как общей методологической проблемы.
Обсуждение вопроса о теоретических суждениях и суждениях ценности нашло место преимущественно в немецкой литературе конца XIX и начала XX века.
18 Ср. Е. Бем-Бавсрк. Капитал и прибыль. История и критика теорий процента на ;апитал. Спб., [1909].
причине, с одной стороны, психологической трудности для него разделить эти две точки зрения, особенно при рассмотрении социально-экономических проблем, с другой — вновь и вновь возобновляющихся попыток логически и теоретико-познавательно обосновать общезначимость и, следовательно, чистый научный характер суждений ценности. Достаточно бросить самый общий взгляд на ход развития социальной экономии как науки, чтобы видеть всю правильность этих выводов.
Мыслители античного мира, касавшиеся социальных и экономических проблем, как Ксенофонт, Платон, Аристотель, рассматривают их преимущественно под категорией должного. Они совершенно не проводят специальной грани между теоретической и практической точкой зрения. И хотя попутно они высказывают отдельные положения, имеющие, бесспорно, теоретическое значение, однако основная задача их сводится к обсуждению вопросов о том, каким должно быть общество и государство, каким должен быть его хозяйственный уклад[179]. Тот же практический характер имеет и подход к экономическим проблемам и у отцов церкви[180]. Схоластика, поскольку она касалась социально-экономических проблем, равным образом рассматривает их под углом зрения должного. Именно с этой точки зрения строит свое учение о цене, справедливой цене. Обсуждая другую популярную в то время проблему — проблему процента, она и ее рассматривает по[д] общим углом зрения: должен существовать процент или он не допустим[181]. Конечно, и схоластики при этом высказывают ряд суждений, которые, будучи взяты сами по себе, имеют теоретическое значение. Но они высказывают их без сознательного разграничения теоретической и практической проблемы, высказывают попутно в зависимости от общей практической постановки вопроса. Система меркантилистов равным образом по существу была системой практической политики, системой, которая в основном отвечала на вопрос, каким должно быть народное хозяйство и как должна вести себя в отношении его государственная власть. Физиократов считают основоположниками политической экономии как самостоятельной теоретической науки. Несомненно это так, ибо в учении физиократов можно найти уже систему теоретических экономических взглядов. Но тем не менее если брать это учение именно таким, каким оно исторически было, то в связи с интересующим нас вопросом в это положение нужно внести ряд оговорок. Физиократы не проводят методологической грани между чисто теоретическими и практическими (экономико-политическими) суждениями. Последние для них столь же научны, как и первые. Но этого мало, и это имеет свои более глубокие корни в самом характере учения физиократов. Продолжая мысль стоиков, физиократы развили учение о l’ordre naturel, который царит в мире. L’ordre naturel в сфере общественной жизни людей для них l’ordre naturel social. Под влиянием главным образом Локка физиократы выдвигают далее учение о естественном праве как о праве, которое имеет место в условиях l’ordre social naturel. Наряду с l’ordre naturel social физиократы выдвинули понятие l’ordre social positif, который представляет собой уклонение от Pordre social naturel. Та новая наука — экономическая наука, которую они провозгласили, изучает законы именно l’ordre social naturel, указывая уклонения от них в виде l’ordre positif. Но что такое эти законы l’ordre social naturel. Это законы, которые в наибольшей степени благоприятствуют благополучию человека. Однако природа их дуалистична: они одновременно законы физические и моральные. И именно потому, что они одновременно и моральные, человек, душа которого обладает свободой воли, может следовать им, но может и уклониться от них, что ведет к образованию l’ordre positif.
Несомненно, роль физиократов в развитии идеи естественнонаучного закона применительно к общественно-экономической жизни огромна. Но совершенно ясно, что в их представлении концепция закона совпадает с современным понятием естественно-научного закона только одной своей стороной. Взятый с другой стороны, их закон есть вместе с тем моральная норма, норма долженствования. И именно потому, что они, с одной стороны, считали законы Pordre naturel законами наиболее совершенного строя, а с другой стороны, рассматривали их как нормы долженствования, все их учение является столько же анализом сущего — а они, несомненно, сделали немало для уяснения законов капиталистического строя той формации, которая была им современна, и для установления методов его анализа — сколько одновременно критика сущего в лице l’ordre positif, и освещение должного, наиболее совершенного социально-экономического строя, соответствующего l’ordre naturel. Вот почему вся их научно-аналитическая деятельность была одновременно и пропагандой известного общественного идеала, в который они верили. Отсюда их вдохновение и энтузиазм, до известной степени сектантский характер всего их течения и мессионизм во взглядах на свою роль. Отсюда отсутствие у них потребности в более строгом разграничении теоретических суждений и макси политики.
Ко времени деятельности основателей и вождей классической школы условия несколько изменились, но нельзя сказать, чтобы они стали в корне иными. Та законченная вера в l’ordre naturel вообще, и в Pordre social naturel в частности, которая была у физиократов, поблекла. Хозяйственная действительность в связи с промышленной революцией стала сложнее и требовала уже больше работы чисто теоретической мысли. Классики, и в особенности Рикардо, сделали для построения здания чисто теоретической социальной экономии, вероятно, больше, чем какая-либо другая школа. Но тем не менее и у них мы не находим строгого разделения теоретических и экономико-политических оценочных построений, и у них на всем их учении лежит, хотя и менее яркая, чем у физиократов, печать, что учение это — столько же теория капиталистического строя, строя свободной конкуренции, сколько и проповедь хозяйственного строя, опирающегося на принцип свободы индивидуальной хозяйственной деятельности как идеала. Это особенно ясно видно на воззрениях А.Смита. Смит был не только экономистом, но и философом. Смит находился под влиянием философско-этических идей Шефтсбери и более всего — Гетчесона и Юма. Одновременно он испытывал влияние старых доктрин естественного права, представленных Гроцием, Гобсом, Пуфендорфюм и Локком. Поэтому отчасти корни его воззрений те же, что и у физиократов. Но вместе с тем Смит воспринял многое и от самих физиократов[182]. На основе этих идей сложились воззрения Смита на человека, управляющие им психические силы (эф>ф)екты), на принципы общежития и естественно-право[во]й порядок его, наконец на явления социального хозяйства. Если вдуматься в вопрос, то следует прийти к выводу, что весь классический труд Смита о богатстве народов написан под углом зрения, какие условия и каким образом ведут людей к наибольшему благосостоянию, как он его понимал. Иначе говоря, основная установка Смита, собственно, не чисто теоретическая, а практическая. И мы знаем, что хотя у Смита и нет представления о l’ordre naturel в духе физиократов, но все же при наличии ряда чисто теоретических анализов, которые, взятые сами по себе, и послужили вместе с учением физиократов фундаментом теоретической экономии, все исследование о богатстве народов является ответом на основную практическую проблему, поставленную Смитом. Оно является доказательством, что общественно-хозяйственный строй, опирающийся на игру частных интересов в пределах и под защитой права, является наиболее благоприятным для благосостояния нации.
Рикардо, находившийся под влиянием идей Бентама, Джемса Милля и Смита, уделял меньшее внимание вопросам общего мировоззрения. Он более определенно и резко ставил чисто теоретические экономические проблемы, и, строго говоря, именно он оформил теоретический уклад политической экономии как науки. Однако и он считал возможным вместе со Смитом и доктриной естественного права в качестве научной истины утверждать', что при свободной конкуренции интересы индивида и целого не сталкиваются, что режим свободной конкуренции в общем с теми или иными практическими отступлениями является наиболее целесообразным и ближе всего отвечающим интересам нации.
Еще более резко экономико-политический й практический уклон идеи классической школы получили у ее крайних приверженцев: с одной стороны, у манчестерцев во главе с Кобденом, с другой — например, у таких экономистов, как Бастиа. Работы Кобдена и Бастиа с его «экономическими гармониями» являются уже не столько исследованием, сколько открытой идеализацией режима свободы конкуренции и капитализма.
Итак, мы далеко от мысли, что работы классической школы, и в особенности Рикардо, не дают теоретического анализа экономических проблем. Наоборот, мы склонны считать Рикардо непревзойденным теоретиком экономической науки. Но мы утверждаем, что у классиков, даже и у Рикардо, нет строгого разделения теоретических и оценочных (экономико-политических) суждений, что, как правило (исключая, б[ыть] м[ожет], Рикардо), основное руководящее значение в его работах имеет задача решения практических оценочных проблем. Иначе говоря, основные вопросы ставятся оценочно, а именно так: какие условия лучше всего благоприятствуют определенному состоянию, принимаемому за идеал, скажем, материальному благосостоянию нации? Способствуют ли, в частности, этому идеалу условия свободы хозяйственной деятельности или вмешательство правительства, свобода внешней торговли или протекционизм, высокие хлебные цены или низкие и т. д. При такой постановке вопросов теоретический анализ, как бы он ни был ценен, привходит как вспомогательное орудие. При такой постановке вопросов, далее, получаются и ответы, которые имеют характер оценочных максим или правил, а именно: строй, опирающийся на свободу хозяйственной деятельности, является наиболее совершенным, свобода торговли наиболее благоприятствует процветанию нации и т. д. Наивно думать, как делают некоторые, что классики считали капиталистический свободно-конкурентный строй логической категорией в том смысле, что будто, по их мнению, всегда и всюду существует только строй именно с указанными признаками. Такое утверждение противоречит прямым заявлениям классиков. Оно несовместимо с тем фактом, что Мальтус предпринял обширные экскурсии и лично мог убедиться в существовании совершенно иных хозяйственных условий у различных народов. Но верно то, что классики анализировали по существу только капиталистический строй и нигде не говорят о его преходящем значении. Это становится понятным в свете тех соображений, которые были развиты выше. Классики поступали так не только потому, что лучше всего знали капиталистический строй, что он дает наибольший материал для теоретического исследования, но также и потому, что они считали его в условиях свободы хозяйственной деятельности строем наиболее совершенным. Они не только изучали, но и пропагандировали его, до известной степени так же, как это делали в свое время физиократы. Именно поэтому классики не могли говорить и о преходящем характере этого строя.
Правильность отмеченного значения чисто оценочно-практической постановки вопросов и их решения в классической школе, как и вообще в политической экономии до новейшего времени, на наш взгляд, находит блестящее подтверждение в ходе дальнейшего развития экономической мысли. Как мы видели, классики наряду с анализом чисто теоретических проблем защищали и ряд чисто практических, оценочных тезисов, в частности что строй свободной хозяйственной деятельности, свободной торговли и конкуренции является наиболее благоприятным для процветания общества, что интересы индивида и общества в условиях такого строя гармонируют. Но вытекали ли эти оценочные практические тезисы классиков с необходимостью из их теоретического анализа или они принимались ими в значительной мере независимо от этого теоретического анализа в силу общих воззрений их на условия идеального общежития, отвечающего их представлению о естественном праве?
Мы знаем, что Сисмонди в общетеоретических воззрениях своих, т. е. в учении о ценности и цене, в учении о распределении и доходах, в общем оставался на почве доктрины классиков. Но потрясенный картиной экономических кризисов и обнищания части массового населения, он отверг именно те построения классиков, которые выражали их оценочное отношение к достоинствам строя свободной конкуренции.
Еще более показательным является выступление ФЛиста. Лист взял под сомнение именно представление классиков об общественном идеале. Он нашел, что представление классиков об обществе слишком атомистично и проникнуто духом механического материализма. В противовес их пониманию общества он выдвинул понятие нации как целого, в противовес их представлениям о процветании общества как о накоплении только материального богатства он выдвинул задачу развития производительных сил нации, и притом не только материальных, но и духовных. И отправляясь от своих новых пониманий общественного идеала, он отверг именно практические выводы классиков, отверг их веру в универсальное благодетельное значение режима полной свободы хозяйственной деятельности, и в частности свободы международной торговли. Лист признал, что именно в интересах развития нации как духовного целого на известных исторических этапах благодетельной оказывается система покровительства. Совершенно очевидно, что основная плоскость борьбы Листа против классиков лежала в плоскости не теоретических проблем, а понимания общественного идеала и соответственно интересов общественного развития. Правда, полагая, что практические выводы классиков, их оценочные суждения вытекают из их теории, Лист нападал на их учение о ценности и цене. Но нужно признать, что именно в плоскости критики теории классиков Лист оказался совершенно беспомощен и не дал ничего своего. Ясно, что сущность дела лежала здесь именно в том, что Листу были чужды представления классиков о естественном праве и идеале общежития. Лист не верил в какой-то единый и благодетельный для всех народов и во все времена общественный строй, опирающийся на свободную игру индивидуальных хозяйственных интересов.
Если борьба Сисмонди и Листа против классиков проистекала не столько из их чисто теоретических разногласий с классиками, а преимущественно из разногласий в представлениях об общественном идеале, то это не значит, что их выступление осталось бесплодным в теоретическом отношении. Наоборот, они пробуждали интерес к проблеме исторической относительности и изменчивости общественно-хозяйственного строя и в этом смысле могут считаться вместе с Контом и Миллем идейными родоначальниками исторической школы в социальной экономии. И мы знаем, что именно под знаком отрицания веры классиков в единый и наиболее благодетельный общественный строй свободной хозяйственной деятельности в трудах Рошера, Книса, Гильдебранда, Шмоллера и их последователей развернулась работа по исследованию социального хозяйства в его многообразном историческом становлении. В данной связи мы не будем останавливаться на методе и результатах работ исторической школы специально. Отметим лишь, что самое формирование исторической школы в противовес классической было фактом огромного значения для развития методологии социальной экономии. Это формирование, происходившее под знаком оппозиции классикам, потребовало по существу в истории социальной экономии впервые отчетливого и критического осознания самой проблемы метода экономического исследования. Однако нас пока интересует специальный разрез в борьбе экономических течений, разрез, связанный с соотношением и ролью чисто теоретических и оценочно-практических суждений. И мы закончим данную часть настоящего экскурса еще указанием на выступление Маркса.
Если Сисмонди и Лист, отвергнув общественные идеалы классиков, дали только толчок развитию исторического направления политической экономии, то Маркс теоретически встал полностью на положения классиков, развил их и, развивая, трансформировал. Но вместе с тем Маркс пришел к совершенно иным выводам в оценке капиталистического общества. Под влиянием идей Гегеля и отчасти позитивизма он стоит всецело на точке зрения относительности всякого исторически данного общественного строя. Стоя на этой почве и исследуя, как и классики, капиталистический строй, он вскрывает его внутренние противоречия, приходит к выводу о неизбежном его крахе и намечает контуры будущего социалистического и точнее коммунистического строя, борьбу за который он считает и своим общественным идеалом. Как и классики, следовательно, Маркс наряду с глубокими теоретическими изысканиями приходит к оценочным практическим заключениям. Но если классики дали апологию капиталистического строя, то Маркс, наоборот, — его жесточайшую критику и апологию коммунизма. Как и классики, Маркс полагает, что его оценочные выводы целиком вытекают из его теоретических изысканий, хотя мы знаем, что его теоретические изыскания появились значительно позднее, чем он провозгласил осуждение капитализму и апологию коммунизму. Коммунистический манифест Маркса и Энгельса появился в 1848 г., в то время как первая работа, излагающая экономические взгляды Маркса «К критике политической экономии» появилась лишь в 1859 г., первый том Капитала — в [1867], второй и третий тома — в 1885 и 1894 гг., уже после смерти Маркса. В отличие от классиков Маркс уже отчетливо различал сущность чисто теоретического, объективно-научного исследования и оценочно-практических суждений, отражающих лишь идеологию автора. Тем большее значение приобретает его уверенность, что его выводы относительно капитализма и коммунизма вытекают из его теоретических построений и что провозглашаемый им социализм в отличие от утопического есть научный социализм.
Предшествующий экскурс убеждает нас в том, что до второй половины XIX века в социальной экономии нет сознательного и отчетливого разделения и различения теоретических суждений и суждений ценности, или практических. Как правило, авторы убеждены, что те суждения, которые фактически являются суждениями ценности, являются столь же научными и обоснованными, как и те, которые являются суждениями теоретическими. Фактическая роль суждений ценности в социальной экономии прошлого чрезвычайно велика. Они служат одной из основных плоскостей, в которых происходит борьба идей. Эта борьба идей имеет поэтому характер борьбы мировоззрений. Вместе с тем те или иные практические суждения выступают в качестве стимула для чисто теоретических изысканий. Огромная роль суждений ценности и необычайная склонность к высказыванию их, как это очевидно, вытекает из глубочайшей связи социальной экономии с практикой и интересами общественной жизни, а также из того, что именно эти суждения ближе и теснее всего выражают практические интересы людей.
Несомненно, роль суждений ценности фактически не менее велика и в социальной экономии последующего, и в частности нашего, времени. Достаточно указать на острую борьбу экономистов около вопросов государственного вмешательства и свободы хозяйственной деятельности, трестирования и синдицирования, протекционизма и фритредерства. Но если эти вопросы сами по себе до очевидности связаны с непосредственными практическими интересами, то легко указать и другие вопросы, которые, казалось бы, по существу имеют более ясно выраженный теоретический характер и в.
.
- [1] Примечание редакции. Редакция считает проблему предвидения не толькотеоретически важной и трудной, но и практически весьма актуальной, особенно в наших условиях. Помещенная статья И. Д. Кондратьева посвящена наиболее общимвопросам предвидения. В дальнейших выпусках «Вопросов конъюнктуры» будут помещены работы, посвященные и более специальным и конкретным вопросам прогноза и методов его построения. Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую признательность всемсотоварищам по работе в Конъюнктурном институте, в особенности Т. И. Райнову, Н. С. Четверикову и Е. Е. Слуцкому, обмен мыслями с которыми оказал ему незаменимую помощь при составлении настоящей статьи.
- [2] 1 См. Берри Л Краткая история астрономии. М., 1904. С. 353−354. 2 Точка орбиты, ближайшая к Солнцу.
- [3] 3 См. Берри Л Указ. соч. С. 412−413.
- [4] Ср. Simmel G. Sozioloeie. Leipzig, 1908. S. 1. Cp. Max Э. Познание и заблуждение /Пер. Г. Котляра. С. 9. Ср. Каутскии к. Социальные инстинкты в дарвинизме и марксиэ-ме // Дарвинизм и марксизм. 2-е изд., 192S. С. 1S3.
- [5] См. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах. С приложениями: I. К. Маркс. О фраж^узскомматериализме XVIII в. II. К.Маркс. О Фейербахе / Пер. Г. В. Плеханова, 1906. С. 93(курсив Маркса).
- [6] См. Энгельс Ф. Указ. соч. С. 66.
- [7] Ср. Вундт В. Система философии, 1902. С. 8,9.
- [8]м. Les barometres, economiques // Rapport presente au Comitc cconomique de laSocictc (dcs Nations. Geneve, 1924; см. также Iacombe Ed. La prevision cn mature descrises economiqucs. P., 1926. Ch. V-X.
- [9] См. Клейнпетер Г. Теория познания современного естествознания. Спб.: Шиповник, 1910. С. 126, 127. См. также Рикксрт Г. Границы естественно-научного образования понятий / Пер. А. Водсна. С. 116,117.
- [10] См. Мах Э. Анализ ощущений. 2-е изд. М., 1903. С. 272, 273; Он же. Основныеидеи моей естественно-научной теории познания // Новые идеи в философии. № 2.См. Пстцольд. Проблема мира с точки зрения позитивизма. Спб.: Шиповник. 1909.С. 203, 207.
- [11] Ср. Милль Дж.Ст. Система логики / Пер. В. И. Ивановского, 2-е изд. С. 586,587.
- [12] Ср. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. II. Спб., 1913. С. 380,381. Не принимая общей неокантианской идеалистической концепции автора, мы полагаем, что в указанной книге дано превосходное изложение учения об историческихисточниках, которое, как указывает и сам автор, может быть согласовано и с реалистической теоретико-познавательной точкой зрения. Ср. С. 386, 387.
- [13] См. Лаппо-Данилевский А. С. Указ. соч. С. 381, 382. См. Bcmheim. Lehrbuch derhistorischen Methode, 1908. C. 252, 253; Он же.
Введение
в историческую науку. М., 1918. С. 65, 66.
- [14] См. Лаппо-Данилевский А. С. Указ. соч. С. 407−515. См. Bcmhcim. Lehrbuch dcrhistorischen Methode (соотв. главы); Он же.
Введение
. С. 115,116. Это хорошо сознавал уже Конт, когда, классифицируя науки, утверждал, чтоконкретно-описательные науки опираются на науки абстрактные. См. его вторуювступительную лекцию в «Cours de philosophic positive» (T. 1. P., 1892. P. 57, 58). См. также Вундт. Указ. соч. С. 16.
- [15] Ср., например, Taylor A. Primitive culture. Vol 1. Р. 15−23 и др.
- [16] 8 Мы знаем, что исторически существовали люди, известные под именемпророков. Но их огромное социальное значение вытекало не из пророчества в указанном выше смысле, которое невозможно, а из того, что они на основе определенныхобъективных социальных условий были суровыми обличителями общественнойморали своего времени и провод"шками определенных социально-религиозных идеалов. Ср. Comill, ист israelische Profetismus, 1906. См. Булгаков С. Н. История экономических учений. 2-е изд. Вып. 1. М., 1911. С. 19. 9 Ср. Бухарин Н. И. Исторический материализм. М., 1922. С. 47, 48. См. Grimane-Ш R L^grcvision en sociologie // Revue Internationale de sociologie. 1911. № 12. An. 19.
- [17] Вопрос о том, обязательно ли связь между событиями нужно квалифицироватькак причинно-необходимую и не может ли она быть иной (ср. Штаммлер Р. Хозяйство и право. Т. II / Пер. под ред. И А. Давыдова, 1907. С. 3, 4, 114), мы не подвергаемздесь критическому разбору.
- [18] Ср. Мейерсон Э. Тождественность и действительность. Спб.: Шиповник, 1912. С. 13,14; Пуанкаре А. Случайность / Наука и метод. 1915. С. 75.
- [19] Ср. Зигварт Хр. Логика / Пер. ИАДавыдова. 3-е изд., 1909. Т. II. Вып. 2. С. 76,77.
- [20] Ср. Durkheim Е. Les regies de la methode sociologique. Ed. 4-me. P. 153−158. Cm.Bain. Logic. Vol. II. P. 17 и сл.; Лосский H.O. Логика. Ч. Г1922. С. 180 и сл.
- [21] Мейерсон Э. Указ. соч. С. 13 и сл.
- [22] Ср. Зигварт Хр. Логика / Пер. ИАДавыдова. 3-е изд., 1909. Т. II. Вып. 2. С. 76,77.
- [23] Ср. Cournot A. Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caracteresde la critique philosophique. P., 1851. Vol. 1. P. 50 и сл.
- [24] См. об этом: Чупров АЛ. Очерки по теории статистики. 2-е изд. Спб., 1910. С. 144и сл.
- [25] Ср. Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятии. С. 352 и сл.См. Hessen S. Individuellc Kausalit^t, 1909. Passim.
- [26] Ср. Чупров АА Очерки. С. 97 и сл.; Кистяковский Б. Понятие случайного и закономерного в природе и социальном мире // Социальные науки и право. М., 1911. С. 6 и сл. Поэтому говорить о типичных и нетипичных явлениях, как делает, например, ААКауфман и др. (см. Кауфман АЛ Введение в теоретическую статистику. Изд. ЦСУ, 19z3. С. 21 и сл.), можно лишь в относительном смысле.
- [27] См. Laplace. Theorie analytique des probabilites (CEuvre… P., 1847. T. VII. P. VI-VII).
- [28] Ср. Зигварт Xp. Указ. соч. T. II. Вып. 2. С. 215 и сл. Ср. Пуанкаре, А Наука и ме-тод.С. 7>77.
- [29] Ср. по этому поводу замечания Э. дю Буа-Реймонта в кн. «О границах познанияприроды» (М., 1900).
- [30] Ср. Милль Дж.Ст. Система логики. С. 284 и сл.; Wundt W. Logik. В. Ill, 1921. S.127−128; Пуанкаре А. Ценность науки. М., 1905. С. 175 и сл.; Eulcnbure Fr. Naturgesetzeund Sozialcgcsctzc // Archiv fur sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1910. B. 31. S. 728−730; Pareto V. Traite dc sociologic general P., 1917. V. 1. P. 28, 43 и др.; Кондратьев H. Основные учения о законах развития общественной жизни // 11овые идеи в экономике. № 5. Спб., 1914.
- [31] См. об этом: Рикксрт Г. Границы естественно-научного образования понятий. С. 351 и сл.
- [32] Ср. Simmel G. Die Problcmc der Gcschichtsphilosophic, 1923. S. 96 и сл.
- [33] Ср. Пуанкаре А. Ценность науки. С. 174 и сл.
- [34] Ср. Grimanelli Р. Op. cit. Р. 862.
- [35] Ср. Eulenburg Fr. Op. cit. P. 739 и сл.
- [36] Ср. Лосский Н. О. Логика. Ч. 1. С. 94 и сл.
- [37] Ср. Бутру Э. О случайности законов природы. М., 1900. Гл. III.
- [38] Ср. об этом Кассирер Э. Познание и действительность. Спб.: Шиповник, 1912.С. 12 и сл.
- [39] Ср. Бухарин Н. Теория исторического материализма. С. 88 и сл.; Лосский Н. Материя в системе органического мировоззрения. М., 1918. С. 3 и сл.
- [40] Резерфорд Э. Электрическая природа материи (напечатана в виде приложенияк книге: Свеберг Т. Е. Материя. М., П13). См. также Френкель Л. И. Строение материи. 1913.
- [41] Ehrenberg. Theoretische Biologie. Berlin, 1923. S. 10 и сл.
- [42] Ср. Бухарин Н. Указ. соч. С. 90 и сл.; Durkheim Е. Les regies. Р. XIV и сл.;Simmcl G. Soziofogie. S. S и сл.
- [43] Ср. Борель Э. Случай. М., 1923. С. 5 и сл.; Васильев А. В. Теория вероятностей. Этому пониманию случая, которое видит основание его в конечном счете в ограниченности знания, противопоставляется другое, которое видит случай в объективномфакте пересечения двух или более независимых причинных рядов (ср. Windelband. Die Lehren vom Zufall, 1870. Ср. также Rumclin G. uber den Zufall. Kanzlcrrcdcn, 1907. S. 492 и ел.). Однако мы не можем признать правильным такое противопоставление. Два или более причинных рядов представляются нам независимыми лишь потому, чтомы не знаем их зависимости. Поэтому, отвергая идею онтологически независимых рядов (см. выше), мы считаем, что случай и в так называемом объективном смысле имеет основанием ограниченность нашего знания, в частности ограниченность его в отношении законов сочетания единичных событии (второй вид основания для относительно случайного по нашей концепции).
- [44] Ср. Экснер Ф. О законах в естественных и гуманитарных науках / Пер. В. О. Хвольсона, 1914.
- [45] Ср. Чупров АЛ. Указ. соч. С. 224 и сл.; см. Лахтин Л. К. Курс теории вероятностей, 1924. С 97 и сл.
- [46] Ср. Choisenard Р. Les probability en science d’observation. P., 1923. Ch. 111.
- [47] См. Дюркгсйм Э. Самоубийство / Пер. под ред. В АБазарова, 1912. С. 178 и сл.;Майр Г. Закономерность в общественной жизни. М., 1899. С. 42э и сл.
- [48] Ср. Филипченко ЮА Изменчивость и методы ее изучения. М.: ГИЗ, 1923.passim. Ср. Зава до вс кий М. М. Статистический метод в изучении наследственности ПСтатистический метод в научном исследовании. М.: Изд. Ком. Академии. С. 113−1/9;Се ребро вс кий АС. Статистический метод в биологии // Статистический метод в научном исследовании. С. 130−165.
- [49] Ср. статьи Г. Вульфа, В. Костицына, АТимирязсва, С. Богуславского в сборнике" Статистический метод в научном исследовании" .
- [50] См. Boltzmann. Vorlcsungcn liber Gasthcoric; B.B.I. 1895. II. 1898; Он же. Ueberdie Uncntbehrlichkeit der Atomistik in dcr Naturwisscnschaft // PopulSre Schriftcn. 1925.S. 141; Он же. Ueber statistische Mechanik // Ibid. S. 345 и сл. Блох E. Кинетическая теория газов. М.: ГИЗ, 1925. С. 72 и сл.
- [51] Наиболее решительно это сделано Ф.Экснером. См. Экснер Ф. О законах в естественных и гуманитарных науках. См. также Романовский Е. Статистическое мировоззрение // Вестник статистики. Кн. X. 1922. С. 5−28. Менее решительно в дуалистической форме это сделано Э. Борелем (см. Борель Э. Случай), М. Планком встатье «Динамическая и статистическая закономерность (см. Планк М. Физическиеочерки.); см. также Умов НА Эволюция физических наук и ее идейное значение //Собр. сочинений. Т. III. С. 500 и сл.
- [52] См. Борткевич В. И. О статистической закономерности // Вестник права. 1903.Октябрь. С. 144 и сл.
- [53] Ср. Романовский Е. Указ, соч, С. 9.
- [54] Ср. Каутский К Размножение и развитие в природе и обществе / Пер. Д.Б.Ря-занова, 1919. С. 16 и сл.; Marx К. Das {Capital. Hamburg, 1872. S.4 и ел., 654 и сл.; ParetoV. Op. cit. S. 44−45.
- [55] Бутру Э. Указ. соч. Р. 55.
- [56] Ср. Дюгсм Э. Физическая теория и се строение. Спб.: Образование, 1910. С. 205и сл.; Пуанкаре А. Ценность науки. С. 174 и сл.
- [57] Ср. Экснср Ф. Op.cit. Р. 6 и сл. Ср. Пуанкаре А. Наука и метод. С. 7 и сл. Ср. Планк М. Указ. соч. Р. 70 и сл.
- [58] Ср. Гуссерль Э. Логические исследования. 4.1. Пролегомсна к чистой логике.Спб.: Образование, 1909. С. 222 и сл.
- [59] Ср. Пуансо Л. Начала статики, 1920. С. 4 и сл. Гебель В. Я. Основной курс теоретической механики. М., 1922. Ч. 1. С. 6−8,60 и сл.
- [60] Comptc A. Cours de philosophic positive. P., 1893. Vol. 4. P. 253 и сл., 430 и сл. Ср. Уорд Л. Очерки социологии. М., 1901. С. 138 и сл.; Xcnopol A.D. La theorie dc 1'histoire.P., 1908. P. 332 и сл.
- [61] Cp. Marshall A. Principles of economics. L., 1910. Кн. V. Гл. 2,3,5,15. См. Clark I.B.Essentials of economic theory. N.Y., 1924. P. 195−203.
- [62] См. Кондратьев Н. Д. К вопросу о понятиях экономической статики, динамики иконъюнктуры // Социалистическое хозяйство. 1924. Кн. 2.
- [63] Ср. Зигварт. Логика. Т. II. Вып. I. С. 222 и сл.; Вып. II. С. 36 и сл.
- [64] Ср. Лаппо-Данилевский А. С. Указ. соч. Вып. 1.1910. С. 151 и сл.
- [65] Ср. Планк М. Указ.соч. Р. 70; Гессен С. О. Предисловие к книге Риккерта «Науки/) природе и науки о культуре». Спб.: Образование, 1911. С. 7−9; Denis Н. Sur laprevision cn Sociologic // Revue international ос sociologic. An. 18. № 1. T. 18.1910. P. 1и ел.
- [66] Ср. Дарвин Дж. Гов. Приливы и родственные им явления в солнечной системе.М.: ГИЗ, 1923. С. 184 и сл.
- [67] Ср. Eulcnburg F. Op. cit. S. 738−739.
- [68] Cp. Wundt W. Op. cit. B. Ill, S. 124 и сл., 138 и сл., 650 и сл.; Mille. Op. cit. Р. 469 исл.; Зигварт. Указ.соч. Т. II. Вып. 2. С. 86 и сл., 234 и сл.; Eulenburg F. Op. cit. S. 728 исл.; Кондратьев Н. Основные учения о законах развития общественной жизни. С. 1 и сл.
- [69] Ср. Пуанкаре А. Наука и гипотеза. М., 1903; Зигварт. Указ. соч. Т. II. Вып. 2. С. 1.
- [70] Ср. Eulcnburg F. Op. cit. В. XXXI. S. 739 и on.
- [71] Ср. Чупров АА. Указ. соч. Очерк II.
- [72] Ср. Durkheim Е. Lcs rfeglcs de la mcthode. P. 153 и сл.
- [73] Ср. Милль Дж. Ст. Указ. соч. С. 164 и сл.
- [74] Ср. Ковалевский М. М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880.
- [75] Ср. работы экономистов исторической школы: Knies К. Die politische Oekonomievom Standpunktc dcr gcschichtlichen Methode. Braunschweig, 1853. См. Шмоллер Г. Наука о народном хозяйстве, се предмет и метод. М., 1897. С. 58 и ел.
- [76] Ср. Чупров АЛ Указ. соч. С. 221 и сл.; Czuber Em. Die statistischenForschungsmethoden. Wien, 1921. S. 3 и др.; Bowley A.L. Elements of statistics. L., 1920. Part II, passim.
- [77] Ср. Чупров A~A Закон больших чисел // Вестник статистики. 1914. Кн. 1 и 2. Ср. Bovdcy A.L. Op. cit. Part 1. P. 4 и сл.
- [78] Ср. Зигварт. Указ. соч. Т. II. Вып. 2. С. 244 и сл.; Wundt W. Op. cit. В. III. S. 137−138,493−512.
- [79] Ср. Клоссовский А. В. Основы метеорологии. Одесса, 1918. С. 273−280.
- [80] Некоторые авторы полагают, что таких законов социально-экономической жизни вообще нет, а потому их невозможно и открыть. Ср. Xenopol A.D. Op. cit. Р. 332 исл. Однако это мнение несостоятельно. Оно основано на смешении динамическойсоциологии и истории. Из того, что история в строгом смысле имеет в виду однократный процесс развития и не может установить исторических законов, нс следует, чтоне существует динамических законов и они не могут быть установлены обобщающими социальными науками.
- [81] Ср. Grimanelli Р. Op. cic. Р. 866 и сл.
- [82] Ср. Де Роберти Е. В. Новая постановка основных вопросов социологии. М., 1909.С. 177 и сл.
- [83] Ср. Denis Н. Op. cit. Р. 2 и сл.
- [84] Ср. Littre Е. Conservation, Revolution et Positivisme. P., 1879. P. 286 и ел., а такжесделанные им почти тридцать лет спустя после выхода первого издания книги примечания (см. Р. 289) о предвидении.
- [85] См. Контрольные цифры народного хозяйства на 1925/26 год. М.-Л.: Плановоехозяйство, 1925: С. 7 (курсив наш).
- [86] Там же. С. 21.
- [87] Контрольные цифры народного хозяйства на 1925/26 год. С. 22.
- [88] Там же. С. 7.
- [89] Ср. Moore H.L. Forecasting the yield and price of cotton. N.Y., 1917. P. 52 и ел.; SarlcCh.F. Forecasting the price of hogs // American Economic Review. Vol. XV. N 3. Supplement N 2. September. 1925; TTie problems of business forecasting Ed. by W.M.Persons, W.T. Foster, M.I. Hettinger. N.Y., 1925 (статьи: H.C. Taylor, HA Wallace, I.B.Kincer etc).
- [90] Cm. Ibid.
- [91] Ср. Lacombc Ed. La prevision en mature de crises economiques. P., 1926. Ch. V-X;Lcs barometres Economiques.
- [92] Cm. Lacombc Ed. Op. cit., а также Les barometres economiques; Bachi R. Mctodidi previsioni economica. Roma, 1913.
- [93] Cm. Babson R.W. Business barometers used in the management of business andinvestment of money: A text book on applied economics for merchants, bankers andinvestors. Wellesley Hills, Mass., 1923.
- [94] Benner’s prophecies of future ups and dawns in prices: What year to make moneyon pig-iron, hoes, com and provisions. Cincinnati, 1895; Brookmire I.H. Methods ofbusiness forecasting based on Fundamental statistics // American Economic Review. Vol.III. N 1.1913. P. 43−58.
- [95] Cp. Brookmire. Op. cit. См. также цит. выше раб. Лакомба и 'Les barometreseconomiques'.
- [96] Ср. Ginestet Р. Les indices du mouvement general des affaires // Publications deI’lnstitut de Documentations Economiques et Sociales. P., 1925. P. 243 etc.
- [97] Ср. La combe. Op. cit. P. 102 и сл.
- [98] Cp. Jevons St. w. The solar period and the price of com; Он же. The periodicity ofcommercial crises and its physical explanation; Он же. Commercial crises ana sun-spots //Jevons S.W. Investigations in currency and finance. L., 1884.
- [99] Cp. Moor H.L. Economic cycles: their law and cause. N.Y., 1914; Он же. Generatingeconomic cycles. N.Y., 1923.
- [100] См. Туган-Баранове кий М. И. Периодические промышленные кризисы. Спб.1914. С. 289 и сл.
- [101] См. Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы. С. X-XI.
- [102] См. Georges-Cahcn М., Laurent Е Rapport sur les indices des crises economiques// Commision des crises economique (1908;1911). P., 1911.
- [103] Cm. Brezigar E Vorboten einer Wirtschaftskrise Deutschlands. Berlin, 1913. Passim.
- [104] На первой попытке Персонса мы здесь не останавливаемся. См. его «Construction of a business barometer based on annual data (American Economic Review. December. 1916). См. разбор этой попытки у Ю. Павловского в статье «Хозяйственное предвидение как проблема статистики* (Russian Economist. L, 1923).
- [105] См. Persons W.M. An Index of General Business Conditions П Review of economicstatistics. 1919; The Harvard Index of General Business Conditions. Harv. University Committee on Economic Research, 1923. Монуар M. Эконом, показат. Гарвард. Унив.(Вести. Статист. Ки. XVII). О работах Персонса и Гарвардского бюро см. подробнуюстатью С. П. Боброва в настоящем сборнике. См. также «К вопросу об экономическомбарометре» (Плановое хозяйство. 1926. № 1).
- [106] The Harvard Index of General Business Conditions.
- [107] См. Обзоры Гарв. бюро, печатающиеся регулярно в «Review of economic statistics», а также систематически издаваемые бюро «Weekly Letters» .
- [108] См. Barometer for Economic Conditions in the U.K., compiled by London School ofEconomics (Manchester Guardian Commercials. Reconstruction in Europe. Iss. III). Cm. ежемесячные публикации «London and Cambridge Economic Service» .
- [109] Cp. Beveridge W.H. Business cycles and their Study // London and CambridgeEconomic Service Monthly Bulletin. 1923. Vol. 3. P. 1−7.
- [110] Ср. Denis Н. Op. cit. S. 1−11.
- [111] Ср. Ильин В. Развитие капитализма в России, 1908. Гл. I. Ср. Струве П. Критические заметки. К вопросу об экономическом развитии России. Вып. I. Спб., 1894. Особенно гл. VI. Ср. Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем.Т. 1. Спб., 1907. Ч. II. Гл. I, IV-V.
- [112] Ср. В. В. Судьбы капитализма в России. Спб., 1882. Он же. Очерки теоретической экономии. Спб., 1895. Ср. Николай-Он. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. Спб., 1893, passim, особенно гл. XV, XXV и XXVII.
- [113] Ср. Лист Фр. Национальная система политической экономии / Пер. под ред.К. В. Трубникова. Спб., 1891, passim, в частности с. 443 и сл.
- [114] См. Lendru-Rollin АЛ. Dc la dcicadance de l’Anglelcrre. V. 1−4. P., 1850.
- [115] См. Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего / Пер. М. П. Щепкина. Сп<�ь, 1860. С. 193 и сл.
- [116] Ср. Крукс В. Хлебный вопрос. М., 1909.
- [117] Ср. Брукс-Адамс. Новая Держава. М., 1909.
- [118] Многочисленные примеры предвидения этого типа можно найти у Кондорсэ, Конта, Мальтуса, Рикардо, Родбертуса и др. См. также примеры: Braga Т. Previsionssociologiqucs // Revue international de sociologie. XIX. 1919. P. 549−563.
- [119] Ср. Брукс-Адамс. Новая Держава. М., 1909.
- [120] Примечание редактора. При подготовке рукописи приняты следующие обозначения: () употребляются как обычный знак препинания, использованный самим автором; [ ] употребляются в случаях реконструкции основного текста рукописи; о используются для редакторских замечаний по поводу расшифровки рукописи: <7> —расшифровка оставляет сомнение; <�нрэб> — обозначено наличие нерасшифрованного слова — неразборчиво; <~.> — обозначено отсутствие в рукописи начала или концафразы; • — обозначение мест в рукописи, где автор предполагал дать сноску; 1 —обозначение данных автором сносок.
- [121] <�пропуск> Н.Бухарин. Op.cit. С. 88 и сл.
- [122] Бух[арин] Н. [Указ.соч] С. 89 и сл.
- [123] Ср. Г. Ф. Морозов. Op.cit. С. 9, 28, 36,46.
- [124] Н.Бухарин. Op.cit. С. 90 и сл.
- [125] Современная физиология не видит различия между рефлексами и инстинктами.Со. И.II.Павлов. Рефлекс цели; Он же. Рефлекс свободы (та и др[угая] статья всборнике Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных. Москва-Петроград: Госуд. издательство, 1923. С. 204, 208 и сл. В дальнейшем ссылки на работы акад. Павлова делаются по только что указанному сборнику).
- [126] Ср. И. П. Павлов. Естественно-научное изучение так называемой душевной деятельности высших животных. (Там же] С. 41 и сл.; Исследование высшей нервной деятельности. (Там же]. С. 161 (в указ, сборнике).
- [127] Ср. Н.Бухарин. Op. cit. [С.] 93 и сл.
- [128] Ср. Н. Бухарин. Op. cit. С. 146 и сл.
- [129] Ср. Smith A. An inquiry into nature and causes of the wealth of nations. L., 1904Vol. 1. Ch. VI. P. 49−56.
- [130] Ср. Э.Кассирер. Познание и действительность. Спб., 1912. С. 395−397.
- [131] Rickcrt Н. Die Grcnzcn dcr Naturwissenschaftlichen. Begriffsbiidung. TUblingen]und Leipzig], 1902. S. 34); Чупров AA Очерки по теории статистики. Спб., 1910. С. 41 иел.; Кассирер Э. Ibid.
- [132] Ср. Э.Кассирер. Op.rit. С. 311 и сл.
- [133] Ср. H.Rickert. Op. cit. [S. 34].
- [134] Затронутый в тексте вопрос приводит, т[аким] о (бразом), к проблеме правомерности психологизма в теории знания. Вопрос этот за последние десятилетия подвергался оживленному обсуждению. Мы не можем останавливаться на нем подробно, т[ак] к[ак] это завело бы нас слишком далеко в сторону. Нам кажется, однако, чтопринципиальная невозможность для психологизма обосновать законы логики и общезначимость научных суждений, а также что в силу этого он ведет к скептицизму и солипсизму вполне доказаны. См. Э.1ссерль. Логические исследования. Персв. [Бернштейна ЭА.1 под ред. С Л.Франка. [Спб., 1909. С. 12−1671; НЛосский.
Введение
в философию. Спб., 1911. Ч. 1. С. 30 и сл. (С. 17).
- [135] ^ Ср. Э.Кассирер. Op.cit. С. 155 и сл.
- [136] Ср. АА.Чупров. Op. cit. С. 44.
- [137] Э.Кассирер. Op. cit. С. 158.
- [138] Ср. Э.Кассирер. Op. cit. С. 339.
- [139] См. Э.Кассирер. Op. cit. С. 216.
- [140] Ср. Э.Кассирер. Op.cit. С. 326 и сл.
- [141] Ср. Н. Д. Кондратъев. Проблема предвидения 17/1 Вопросы конъюнктуры. Т. 2.Вып. 1. М., 1926. С. 1 и сл.
- [142] Ср. Э.Кассирер. Op.cit. С. 216.
- [143] Ср. К.Пирсон. Грамматика науки. С.-Петербург, 1911. С. 24. См. также Лос-ский Н.
Введение
в философию. Спб., 1911. С. 13−14.
- [144] Ср. НЛосский. Op. cit. С. 15.
- [145] Ср. RDurkhcim. Les regies de la mtfthode sociologique. Paris, 1907. P. 1, etc.;СЛ.Франк. Очерки методологии общественных наук. Москва. 1922. (С. 5−6]; Gans-Ludassy J. Die wirtschaftliche Energie. T. 1. System der okonomischen Methodologie. Wien, 1893. S. [7]; С. И. Солнцев.
Введение
в политическую экономию. Петроград, 1у23.С. 93 и сл.
- [146] А.Пуанкаре. Наука и метод. Одесса, 1910.
- [147] См. А.Пуанкаре. Op. cit. С. 8.
- [148] См. Gans-Ludassy. Op. cit. С 113 и сл.
- [149] См. R. Liefmann. Grundsatzc dcr Volkswirtschaftslehre. 1 Band. Stuttgart-Berlin, 1917. C 16.
- [150] Cm. Heimann Ed. Op. cit. C. 807.
- [151] См. Пуанкаре. Op. cit. C. Ill .
- [152] См. правильные соображения по этому вопросу у С. И. Солнцева. Op. cit. С 99-ШО.
- [153] Ср. Э. Кассирер. Op. cit. С. 39S-396.
- [154] Ср. Кант. Критика чистого разума. Перевод НЛосского. Спб., 1907. С. 144.
- [155] См. Ibid. С. 148.
- [156] Ср. Кант. Критика чистого разума. Перевод НЛосского. Спб., 1907. С. 144.
- [157] Ср. Кант. Критика чистого разума. Перевод НЛосского. Спб., 1907. С. 144.
- [158] Ср. Кант. Критика чистого разума. Перевод НЛосского. Спб., 1907. С. 144.
- [159] Этот вопрос имеет огромное практическое значение для уголовного следственного дела и выяснения виновности обвиняемого. Вопрос этот подробно обсуждался вспециальной литературе по криминалистике, судебной экспертизе и т. д. Господствующее мнение в ней говорит не в пользу идеи множественности причин.
- [160] Ср. E.Durkheim. Les regies de la methode sociologique [Paris, 1912]. P. 155−156.
- [161] Ср. Diche К. Theoretische Nationalokonomie (Bd. 1]. Jena, 1922. S. 383 etc.
- [162] Ср. М. Weber. Die «Objektivitat» sozialwissenschaftlicher und sozialErkcnntnis // Archiv f[iir] Soziah*iss[enschaft] und Sozialp[olitik]. Bd. XIX. 190 422−87].
- [163] Ср. выступление Зомбарта на съезде Verein fur Sozialpolitik в Вене в 1909 году (см. Verhandlungen des Vereins f[iir] sozialpolitik. Bd. С ХХХП. Leipzig, 1910).
- [164] Cp. K.Diehl. Die Bedeutung der Wissenschaftlichen Nationalokonomie fur diepraktisene Wirtschaftspolitik. 1909.
- [165] Cp. A.Weber. Die Aufgaben der Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft. Tubingen, 1909.
- [166] Cp. L.Pohle. Politik und Nationalokonomie (статьи в Zeitschrift furSozialwissenschaft. Leipzig, 1910). Мы не упоминаем статьи Поле, появившейся в1904 г. в том же журнале под заглавием: «Der Kampf am die Wohnungsfragc». В этихстатьях Поле полемизирует не столько против методологического смешения категории сущего и должного, сколько против направления политики катсдер социализмав данном частном вопросе. Поэтому указанные статьи хотя и симптоматичны, ноимеют меньшее методологическое значение. По тем же соображениям мы не упоминаем более ранних выступлении: J.Wolf. Sozialismus und KapitalistischeGesellschaftsordnung. Stuttgart. 1892; Он же «Illusionister und Realister in derNationalbkonomie' (статью в журнале Zeitschrift fur Sozialwissenschaft. Berlin, 1898 [S. 4−11]. и работ: R-Ehrcnbcrg. Sozialrcformcr ufnd] Untcmchmer. Jena, 1904; Его же. Gegcnden Ratedersozialismus! Heft 2,3. Berlin, 1910.
- [167] Cm. A.Voigt. Teleologische und Obiektive Volkswissenschaftslchre, an Beispielenerlantert // Zeitschrift fur Sozialwissenschatt. Leipzig, 1913 [S. 521−540].
- [168] Cm. Pohlc L. Die [ge]genwartigc Krisis in dcr dcutschcn Volkswirtschaftslehre[Leipzig, 1921. 2 Aufl.]
- [169] Ср. Brentano L. Uber Werturteile in der Volks wirtschaftslchrc // Archiv fTurlSoziafwfissenschaft] u|nd] Sozialpjolitik). Bd. XXXIII. 1911 (Heft. 3 S. 69S-714J. К. Днль отмечает, однако, что в своих других работах Брента, но рассматривал защищаемые им позиции социально-экономической политики, то есть суждения, касающиеся должного, как суждения научные (См. Diehl К. Theorctische Nationalokonomie.Bd. 1. S. 396 etc.).
- [170] Cp. G.Cohn. Uber den wissenschaftlichen Character der Nationalbkonomie //Archiv f[Ur] Sozialwfisscnschaft] und Sozialp (olitik). Bd. XX. 1905 [Heft 1. S. 461−478).
- [171] Cp. H.Herkner. Der Kampf um das sittliche Wirturicil in der Nationalbkonomie //Schmollcrs Jahrb (uch). 1912 (Heft 2. S. 1−42).
- [172] Cp. A.Hesse. Die Werturteile in der Nationalbkonomie // Conrads Jahrbuchcr [furNationalokonomie und Statistik). Jena, 1912 [Heft ½. S. 179−20i).
- [173] Cp. Philippovich E. von. Grundriss dcr Politischcn 5konomie. Bd. 2. DieVolkswirtschaftspolitik. Teil 1. Vorwort. Tubingen, 1914.
- [174] Cp. Spranger Eduard. Die Stellung der Wcrturieilc in der [Nationalokonomie] //Schmollers Jahrbfuch). Miinchen, Leipzig, 1914. Bd. 38 [Heft 2. S. 33−59).
- [175] Cp. Kbhlcr W. Die Object hi t? t Untersuchungen liber die logische Struktur desWerturteils // Schmollers Jahbfuch). 1915. Bd. 39. HeffT [S. 17−76).
- [176] См. М.И. Туган-Барановский. Основы политической экономии. Спб., 1909. С. 32-
- [177] Необходимо отметить, что наличие термина 'должен' иногда неосновательновводит в заблуждение даже крупных и выдающихся ученых. Так, например, Фр. Сампан в своей работе La methode positive en science economique [P., 1912] <�обрыв руко-писи>.
- [178] Ср.М.И.Туган-Барановский.Основы политической экономии.Спб., 1909.С.38 и сл.
- [179] < пропуск > Бсм-Бавсрк Е. Капитал и прибыль. История и критика теорий процента на капитал. Спб., 1909. С. 32 и сл.
- [180] Бем-Бавсрк. Op. cit. С. 34 и сл.
- [181] Бем-Бавсрк. Op. cit. С. 35 и сл.
- [182] Ср. Diehl К. Theoretische Nationalokonomie. Bd. 1.2 Aufl. Jena, 1922. S. 157 etc.