Стиль и синтез.
Евгений Замятин как мастер словесной живописи
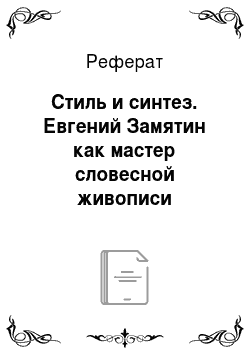
Рассказ «Знамение» открывается картиной, которая может характеризовать ран земной: «Озеро — глубокое, голубое. И у самой воды, па мху изумрудном — белый-кипенный город, зубцы, и башни и золотые кресты, а в воде опрокинулся другой, сказочный городок, бело-золотой на изумрудном подносе Ларивонова пустынь. Поет колокол в сказочном городке, колокол медлительный, негулкий, глубокий, гудит в зеленой… Читать ещё >
Стиль и синтез. Евгений Замятин как мастер словесной живописи (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Стилизация и синтез. Сказ как форма стилизации. Портрет и образ
С той поры, как Россией был заново открыт Евгений Замятин, прошло чуть больше двух десятилетий. Кажется, отсуетилась даже мода на антиутопию, но в сознании широкого (насколько сегодня вообще может быть широким круг читателей серьезной литературы, почти поэзии?) круга читателей имя Евгения Замятина ассоциируется в первую очередь с романом «Мы»31. Стоит, однако, окунуться в «в контекст» эпохи Евгения Замятина, как высветится лесковская преемственность (дело тут не только в его «Блохе»), где его словесное ремесло будет сродни и ремизовскому, и пришвинскому («Мирская чаша»), и клюевскому, и даже цветаевскому… Именно изнутри эпохи можно понять, почему дорожил он общением с художниками, например Юрием Анненковым15 и Борисом Кустодиевым. Нина Берберова в книге «Курсив мой» пишет: «На похоронах его было человек десять. М. И. Цветаеву, Ю. П. Анненкова и А. М. Ремизова я помню; остальные улетучились из памяти». Наверное, и эта «странность памяти» не случайна. В минуты расставания «навсегда» родные оказываются рядом. Частью об этом родстве писалось, частью — разговор об этом впереди.
Е. Замятин, вернувшийся в 1917 г. из-за границы, где как инженер был занят строительством ледокола, обращается к писательскому делу. Это дело требовало от него, организатора «Серапионовых братьев», исследования собственной писательской[1][2]
лаборатории. Именно благодаря ему свежо зазвучали идеи синтеза искусств™, провозглашенные символистами и за полтора десятилетия изрядно «потертые».
Конечно, Е. Замятин почувствовал дыхание новой (необычайно сложной, «взбаламученной», «взвихренной») Руси, и постарался ее запечатлеть. «Синтетизмом» он называет метод работы Ю. Анненкова в «Портретах»[3][4]. Сам мыслящий математически, Замятии в статье, которая входит в книгу, пишет: «Уравнение искусства — уравнение бесконечной спирали. Я хочу найти координаты сегодняшнего круга этой спирали, мне нужна математическая точка на круге, чтобы, опираясь на нее, исследовать уравнение, и за эту точку я принимаю — Юрия Анненкова». В этом определении искусства Замятии перекликается с Андреем Белым[5] — и символистом, и математиком, и музыкантом, и… рисовальщиком (не скажу художником).
Дело ведь явно не только в том, что инженер не имеет права не владеть начертательной геометрией, вынужден мыслить «объемно», но ему живопись и ее искания и открытия родственны из;
начально. Наверное, этим объясняется замятинское мастерство словесного портретиста. Он иллюстрирует словесно портреты кисти 10. Анненкова. «Портрет Горького. Сумрачное, скомканное лицо — молчит. Но говорят три еще вчера прорезавшиеся морщины над бровью, орет красный ромб с Р.С.Ф.С.Р. А сзади, странное сочетание: стальная сеть фантастического огромного города — и семизвездные купола Руси, провалившейся в землю — или, может быть, подымающейся из земли. Две души».
Дар Е. Замятина, конструктора и живописца, отразился в портрете Андрея Белого: «Математика, поэзия, антропософия, фокстрот — это несколько наиболее острых углов, из которых складывается причудливый облик Андрея Белого, одного из оригинальнейших русских писателей, только что закончившего свой земной путь: в синий, снежный январский день он умер в Москве». Словесно, но вполне в духе художника Ю. Анненкова выписан этот портрет. Есть и еще одно «стило» у мастера-живописца Е. Замятина, оно родственно кустодиевскому[6].
Познакомившись с художником лично, писатель уверял, что это знакомство — раньше или позже — должно было состояться (есть некакая предопределенность в том, что родственные души встречаются). «День был морозный, яркий, от солнца или от кустодиевских картин в мастерской было весело: на стенах розовели пышные тела, стлались зеленые летние травы, — все было полно радостью, кровыо, соком. А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна, сидел возле узаконенной в те годы «буржуйки» в кресле на колесах, с закутанными мертвыми ногами и говорил, подшучивая над собой: «Ноги что… предмет роскоши. А вот рука начинает побаливать — это уже обидно…» — это вновь портрет в интерьере, выполненный Е. Замятиным.
Конечно, тяга к изображению жизни во всей ее многосложности и многоцветий отчетливее, кажется, видна в рассказах послеоктябрьского периода: «Глаза» (1917), «Сподручница грешных» (1918), «Знамение» (1918), «О том, как исцелен был инок Ер аз м» (1920), «Русь» (1923). Это словесное истолкование, комментирование полотен Б. М. Кустодиева. Заметна эта тяга и в сказках, где отчетливо проступает образ повествователясказителя.
Замятин в статье «Закулисы» пишет: «…Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты (только — суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства)… Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова — и им самим договоренное будет врезано в него неизмеримо прочнее, врастет в него органически. Так синтетизм открывает путь к совместному творчеству художника — и читателя или зрителя». Конечно, это личное открытие писателя Е. Замятина уже сделано на рубеже веков, оно почти афористично звучит у А. П. Чехова, практически в то же самое время — у гениального филолога А. А. Потебни, но «взвихренная Русь» потребовала напряжения всех душевных сил для этого самого сотворчества писателя и читателя. Новая рубежная эпоха сегодня вглядывается в стиль Замятина, надеясь постичь «синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды"*0.
Живописание Е. Замятина, как мы успели заметить, особой природы: в нем ощутимо нетерпение открывателя, в нем нет суетливости, но есть поспешание, в котором желание крупным планом подать отдельные детали, чтобы читатель смог домыслить целое. Так, «Сподручница грешных» — (церковное именование иконы «Споручница грешных» намеренно искажено, что указывает на образ рассказчика) открывается олицетворенным пейзажем, своеобразной увертюрой к предстоящим событиям: «Глубь, черно, лохмато, лог, в логу — лес. Сквозь черное — высоко над головой монастырские белые стены с зубцами, над зубцами — звезды». В этом живописании важна и антитеза черное, повторенное дважды (эллипсис — нечто — дан только эпитет), — белые стены монастыря. Чернота неопределенности и безмерности греховных помыслов сталкивается с чистой обороной для души, даже грешной безмерно. И «Сподручница грешных» не поможет им в их мирском деле, а спасет (на сей[7]
раз хотя бы) их души. И стены с зубцами — пока что указывают на умозрительную «оборону», подлинной же окажется любовь бескорыстная, но не похоть, материнская, сильная своей беззащитностью, подобная смиренной любви Богородицы. Пейзаж не просто поэтичен, водном предложении образно-интонационный строй, рифма, аллитерация «шелеста» создают космическое пространство грядущих событий, когда тривиальная ситуация «изъятия церковных ценностей» приобретает бытийный смысл.
Метафоричность развертывающегося пейзажа служит решению сразу нескольких задач: формированию образа повествователя, каждого из участников «мероприятия», образа времени: «Из лога вылез месяц, посинелый, тоненький, будто на одном снятом молоке рос. Вылез — и скорее вверх по ниточке — от греха подальше, и на самом верхотурье ножки поджал». Гоголевский юмор сменится у Е. Замятина грустной улыбкой над человеческой породой и природой.
«Торопитсямесяц, все выше чуть видать уж. Зеленеют черные листья. Заря — как скирды в сухмень горит, ровным огнем. День будет благодатный, тихий». Так картина приобретает новые очертания, новые смыслы сообщаются и обыденным словам «день и ночь». Пока что ночь человеческого духа. Этот панорамный пейзаж противопоставлен иконе Богородицы и портрету настоятельницы. «Ушла в монастырь, и теперь — девяносто дочерей у Нафанаилы. Усохла вся, черненькая, маленькая — жих-морозь, а ходит все так же: вперевалочку; старушечий рот корытцем, а глаза — прежние: большие, синие, ясные». И этот портрет многократно повторен в интерьере: «Штора желтая, позолочено все в комнате, веселое: посуда в горке позолочена, просвира трехфунтовая, и по окнам — в вазах медвяные липовые ветки и купавки и лютики». Интерьер уже в цветосветовых сочетаниях икоиописен. Особое значение выпевания, а не просто оказывания придают слогу Е. Замятина инверсионный синтаксис и синестетичность цвета, звука, света, запаха и даже вкуса. «Пахло яствами из подвала под трапезной. Колоба па сметане, пироги с молочной капустой, блинцы пшенные. девочек своих угощала нынче игуменья. К поздней обедне звонили по-праздничному — в большой колокол. Монашенки в но-
вых рясах, все больше румяные, нажми — сок брызнет, изпод черного — груди, как ни прячь, упрямые прут". Радость жизни, живописуемая, кажется, красками и вообще средствами, подобными кустодисвским, не противоречит Божьему промыслу о человеке па земле — так с радостным приятием этой жизни выписан монастырский праздничный мир.
Рассказ «Знамение» открывается картиной, которая может характеризовать ран земной: «Озеро — глубокое, голубое. И у самой воды, па мху изумрудном — белый-кипенный город, зубцы, и башни и золотые кресты, а в воде опрокинулся другой, сказочный городок, бело-золотой на изумрудном подносе Ларивонова пустынь. Поет колокол в сказочном городке, колокол медлительный, негулкий, глубокий, гудит в зеленой глуби. И так хорошо, тихо жить отделенным от мира зеленой глубыо хлебарям в белом подвале послушно месить хлебы, грудникам терпеливо доить коров вечерами сложить духовнику немудреные грехи и всем вместе встретить радостно Красную Пасху». По одному только эпитету можно судить о том, что в этом описании важны не только цвето-световые соответствия, — сказочно-идиллическое, почти райское пространство формируется внутренними рифмами, градацией, образным строем соотносимо с небесным градом Иерусалимом. Сопоставление словесного живописания Е. Замятина с мастерством А. Ремизова и Н. Клюева позволит уточнить черты стиля эпохи и индивидуального стиля каждого.
- [1] и Лихачева Т. В., Мннералова И. Г. Эволюция образа Неба в романеЕ.И. Замятина «Мы» // III Пасхальные чтения. Гуманитарные науки иправославная культура. М., 2005. С. 246—251.
- [2] Золотницкий Д. И. Личные и творческие контакты Е. Замятина иБ.М. Кустодиева. Доклад; Едошина И. Л. «Житийный сюжет» в интерпретации Е. Замятина и Б. Кустодиева (проблема онтологии) // Потаеннаялитература: вопросы истории и типологии. Программа научной конференции 21—24 декабря 1999 г.
- [3] зг* Минералова И. Г. Русская литература Серебряного века. Поэтикасимволизма. М., 1999, 2003, 2005, др.
- [4] Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. Т. 1. Л.:Искусство, 1991.
- [5] Об Андрее Белом: «Склоненная над письменным столом голова, прикрытая темной бархатной шапочкой, окаймленная ореолом легких, летучих, седых волос. На столе раскрыты толстые тома атомической физики, теории вероятностей… Кто это? Профессор математики? Но странно: математик читает свои лекции… в петербургском Доме искусств. Быстрые, летящие движения рук, вычерчивающих в воздухе какие-то кривые. Вывслушиваетесь — и оказывается, что это — кривые подъема и падения гласных, это — блестящая лекция по теории стиха. Новый ракурс: этот человек — с долотом и молотком в руках, на подмостках в полутемном куполекакого-то храма, он выдалбливает узор капителя. Храм этот — знаменитый „Гётеанум“ в Базеле, над постройкой которого работали преданнейшие адепты антропософии. И после тишины Гётеанума — вдруг неистовыйгвалт берлинских кафе, из горла трубы, из саксофона, взвизгивая, летятбесснята джаза. Человек, который строил антропософский храм, в сбившемся набок галстуке, с растерянной улыбкой — танцует фокстрот…» (Замятин Е. И. Андрей Белый //Лица. Нью-Йорк, 1955. Электронная версия: beliy.ouc.ru/e-i-zamayatin.htm).
- [6] Лебедева В. Борис Кустодиев. М., 1997.
- [7] Замятин Е. Закулисы // Как мы пишем. Л., 1930.