Лекции.
История русской философии xx века
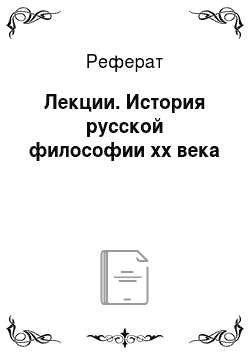
У истоков этой религии, по мнению Мережковского, стоял В. С. Соловьев с его идеей Богочеловечества. «Вл. Соловьев, — пишет он, — почувствовал, что все историческое христианство — только путь, только преддверие к религии Троицы. Учение о Троице он пытался сделать живым откровением, синтезом человеческого и Божественного Логоса, ставшего Плотью, как бы исполинским сводом нового храма Св. Софии… Читать ещё >
Лекции. История русской философии xx века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Лекция 1 РУССКИЙ ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕНЕССАНС КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в. БОГОИСКАТЕЛЬСТВО
XX век для России был самым трагическим столетием ее истории, временем социального эксперимента, проведенного с целым народом и закончившегося полным провалом, временем неисчислимых жертв двух мировых войн и устрашающих своей жестокостью репрессий со стороны правительства по отношению к собственному народу.
Не менее трагичной была судьба русской мысли XX в., познавшей все тяготы идеологического тоталитаризма. Испытав несомненный взлет в начале века, после революции 1917 г. она постепенно утратила национальное своеобразие своих сущностных характеристик, превратившись в интернациональную марксистско-ленинскую философию.
Развитие русской философии в XX в. было проанализировано многими известными русскими философами — Н. А. Бердяевым, В. В. Зеньковским, А. Ф. Лосевым, Н. О. Лосским, С. Л. Франком, Б. В. Яковенко и др. В их историко-философских работах были обозначены этапы и обобщены результаты ее развития, дана характеристика ее национальных особенностей и основных философских направлений и школ. Было отмечено также, что русская культура и философия конца XIX — начала XX в., как и европейская, переживала мировоззренческий кризис. Этот кризис коснулся всех областей жизни и знания, о чем говорят названия вышедших тогда работ: «Кризис современного правосознания» (П. И. Новгородцев), «Кризис исторической науки» (Р. Ю. Виппер), «Кризис жизни» (А. Белый), «Кризис культуры», «Кризис современной культуры и его отражение в новейшей философии» (А. М. Ладыженский) и др. В западно-европейской мысли ощущение кризиса наиболее талантливо выразил Ф. Ницше, заявивший, что нигилизм, нежелание деятельности и «обезвоживание мира» привели к трагизму бытия, в результате развития цивилизации человек потерял свою индивидуальность.
Русская философия, как и Ницше, связывала кризис с «обезвоживанием» мира. «Сущность XX века заключается в оставлении Богом человека», — писал В. В. Розанов', а Л. Шестов в «Апофеозе беспочвенности» современный кризис культуры определял как время, когда «прежняя бессознательно дающаяся даром вера в осмысленность человеческого бытия разрушилась»2. В докладе «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» (1892) Д. С. Мережковский так описал мировоззренческую ситуацию рубежа веков: «Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимость верить и так не понимали разумом невозможность верить… Никогда еще пограничная черта науки и веры не была такой резкой и неумолимой, никогда еще глаза людей не испытывали такого невыносимого контраста тени и света»3. Кризис сознания и культуры, по Мережковскому, был вызван кризисом веры и научного знания. Он предложил выход из создавшегося мировоззренческого тупика, определив тем самым начало русского религиозного ренессанса: «Религия еще не культура, но нет культуры без религии»4, и одним из первых начал поиск этой новой религии.
Несколько десятилетий спустя, осмысливая феномен «духовного движения» России начала XX в., Н. А. Бердяев дал достаточно точную, продуманную и выстраданную характеристику этого явления: «В России появились души, очень чуткие ко всем веяниям духа. Происходили бурные и быстрые переходы от марксизма и идеализму, от идеализма к православию, от эстетизма и декадентства к мистике и религии, от материализма и позитивизма к метафизике и мистическому мироощущению. Веяние духа пронеслось над всем миром в начале XX века. Наряду с серьезным исканием, с глубоким кризисом душ была и дурная мода на мистику, на оккультизм, на эстетизм, на пренебрежительное отношение к этике, было смешение душевно-эротических состояний с духовными. Было немало вранья. Но происходило несомненно и нарождение нового типа человека, более обращенного к внутренней жизни. Внутренний духовный переворот был связан с переходом от исключительной обращенности к „посюстороннему“, которая долго господствовала в русской интеллигенции, к раскрытию „потустороннего“. Изменилась перспектива. Получилась иная направленность сознания. Раскрылись глаза на иные миры, на иное измерение бытия. И за право созерцать иные миры велась страстная борьба. В части русской интеллигенции, наиболее культурной, наиболее образованной и одаренной, происходил духовный кризис, происходил переход к иному типу культуры, более, может быть, близкому к первой половине XIX века, чем ко второй. Этот духовный кризис был связан с разложением целостности революционного интеллигентского миросозерцания, ориентированного исключительно социально, он был разрывом с русским „просветительством“. С позитивизмом в широком смысле слова, был провозглашением прав на „потустороннее“. То было освобождение человеческой души от гнета социальности, освобождение творческих сил от гнета утилитарности»5.
По мнению С. А. Левицкого в русском религиозно-духовном ренессансе существуют две «формации». Одна из них, вышедшая из кругов литературы и литературной критики, составляет круг символистов (Мережковский, Гиппиус, Розанов, А. Белый), другая — философы, прошедшие «прививку» марксизмом (Струве, Булгаков, Бердяев, Франк), которые впоследствии составили авторский коллектив «Вех». В первые годы становления ренессанса доминировали его «эстетствующие» представители, в дальнейшем — «философы». Левицкий пишет: «Как и следовало ожидать, в философских писаниях „эстетов“ было больше интуиции, но также — вещательства, безответственных „дерзаний“ и (также немаловажно) литературной позы. В деятельности же „кающихся марксистов“ было больше философской культуры, выдержанности, трезвости, хотя и здесь вначале было немало ницшеанствующих дерзаний»6. В плане же социально-политическом «эстеты» были «левыми», утверждавшими апокалипсические, анархические идеи, а «кающиеся марксисты», находясь в оппозиции господствующему режиму, были больше «реформистами».
Анализируя истоки русского духовно-религиозного ренессанса, Н. Бердяев отмечал как минимум три таких «источника». Во-первых, это марксизм 1890-х гг. Как идеологическое течение, он «…не был изначально усвоением тоталитарного марксистского миросозерцания, но был продолжением целостного революционного настроения предыдущих поколений. В нем обнаружилось большое культурное усложнение, в нем пробудились умственные и культурные интересы, чуждые старой русской интеллигенции»7. В социальной сфере марксизм привлекал русское «образованное общество» своим родовым признаком — устремленностью к практическому преобразованию российской действительности, своим прагматизмом в достижении поставленных целей, наконец, своей ученостью. Не менее привлекательной была и его борьба с религией. И это, последнее, не было парадоксом. Духовный кризис коснулся как самой религии, гак и православной церкви, которая утратила в русском обществе всякий авторитет. И прежде всего из-за своей связи с самодержавием. Современники констатировали «неразличимость светской и церковной власти», а также то, что «их смешение проникает все наше церковное управление» (С. Н. Булгаков). Марксизм привлек в свои ряды многих русских мыслителей, которые составили ядро так называемых легальных марксистов. «Прививку» марксизма испытали С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. Франк и многие другие. Обладая определенными философскими пристрастиями в сфере философии, они не могли согласиться с жесткой экономической детерминацией марксистской философии в объяснении социальных процессов. По мнению С. Булгакова, часть русских марксистов изначально усвоила идеалистическую философию Канга и неокантианцев и пыталась соединить ее с социальной системой марксизма. Попытка «легальных марксистов» облагородить марксизм этическими идеями Канта не удалась. Все они без исключения покинули марксизм, осуществив известный переход «от марксизма к идеализму». Фактическим свидетельством этого перехода у Н. Бердяева была статья «Борьба за идеализм», у С. Булгакова — сборник статей «От марксизма к идеализму», а также сборник статей «Проблемы идеализма», авторами которого были вчерашние марксисты Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Огруве, С. Франк.
Сборник был издан Московским психологическим обществом. В нем приняло участие двенадцать авторов: помимо названных «легальных марксистов», к которым можно отнести также и Кистяковского, среди них были либерально ориентированные профессора столичных университетов — братья Трубецкие, Лаппо-Данилевский, Новгородцев, Ольденбург. Именно эти авторы определили две ориентации статей сборника — критическую и позитивную. Критика материализма и позитивизма содержалась в статьях Е. Н. Трубецкого «К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идей в истории», Кистяковского — «Русская социологическая школа и категория возможности при решении социально-этических проблем», Лаппо-Данилевского — «Основные принципы социологической доктрины О. Конта». А позитивная разработка идей идеалистической философии содержалась в статьях Бердяева — «Этическая проблема в свете философского идеализма», Булгакова — «Основные проблемы теории прогресса», Новгородцева — «Нравственный идеализм в философии права», Франка — «Фр. Ницше и этика „любви к идеальному“».
Резюмируя основное содержание сборника, его идеолог П. Б. Струве писал год спустя в статье «О чем думает одна книга?»: «„Проблемы идеализма“ знаменуют собой укрепление и расширение того союза между идеализмом философским и идеализмом практически-политическим, начало которому положил своей блестящей публицистической деятельностью Владимир Соловьев. Этот союз нужен и для философской мысли, и для дела освобождения… Для русской идеалистической философии дело ее самопознания и чести — быть на стороне свободы и права; для русского освободительного движения тоже дело его самопознания и чести — возвести себя к высшим и непререкаемым идеям, отказаться от которых означало бы для человечества открыть двери звероподобию…»8. Таким образом, «Проблемы идеализма» — это начало обсуждения в русской общественной мысли иных, чем предложили революционные направления, путей общественной эволюции, отрицающих революцию, ставку на политический переворот и утверждающих, что только духовный прогресс может быть основой социальных изменений в обществе.
«Вехи» продолжили это противопоставление, но уже на итогах Первой русской революции, обозначивших многие негативные явления именно революционного пути развития общества. Почти половина авторов этого сборника участвовала в «Проблемах идеализма» и продолжила его идеи, обозначив и углубив некоторую складывающуюся традицию.
Сборник «Вехи», опубликованный в 1909 г., стал самым известным сборником статей о русской интеллигенции. Его популярность была бесспорна. Какая еще книга в России менее чем за год выходила пятью изданиями? О какой из них высказывались представители всех политических партий, течений и школ отечественной мысли? Этот сборник объемом менее 10 печатных листов вызвал огромный поток критической литературы — более десятка книг, не одну сотню журнальных и газетных статей.
Представители «нового религиозного сознания» постоянно осмысливали духовный и социальный опыт российского общества, его возможности и перспективы изменения социальной действительности. Это обстоятельство вывело их на проблему интеллигенции и ее судеб в истории русского освободительного движения. Революция 1905 г., деятельность политических партий, озабоченных своим составом и союзниками, актуализировали эту проблематику.
Своеобразным был духовный мир русского интеллигента. Его отличал аскетизм, даже «неотмирность» (боязнь быта, презрение к культуре). В «веховской» статье С. Н. Булгаков, говоря об интеллигенции, подчеркивает, что в ней несомненно была, «может быть, и не столь большая, доза бессознательно-религиозного отвращения к духовному мещанству», к «царству от мира сего», с «его успокоенным самодовольством»9. Наконец, русскую интеллигенцию отличала неизбывная мечта о светлом будущем (социализме, коммунизме, мировой революции, Граде Божием, рас на земле) и стремление приблизить его. Опять же С. Н. Булгаков так оговаривал эту особенность: «…известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божьем, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества — если не от греха, то от страданий — составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции»10. Вполне естественно, русская интеллигенция искала пути применения своим силам для того, чтобы это светлое будущее приблизить.
Инициатором выпуска «Вех» и редактором сборника был М. О. Гершензон — известный историк русской общественной мысли. Участникам сборника он поставил только одно условие: статьи друг друга не читать и не обсуждать. Этот факт мало известен, а единомыслие авторов поражает. Бердяев, Булгаков, Гершензон, Изгоев, Кистяковский, Струве, Франк развернули систему аргументов в доказательство двух тезисов, заявленных уже в предисловии: 1) о первичности теоретических и практических сторон духовной жизни над внешними формами общежития; 2) о тупиковом характере того направления общественно-политической деятельности русской интеллигенции, которое признает первичность общественных форм.
Статья Н. А. Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда» (первая в «Вехах») посвящена особенностям философских исканий русской интеллигенции и ее связи с мировой культурой. Одной из наиболее характерных особенностей русской интеллигенции, по мнению автора, является ее кружковый характер. В ее среде господствовал «утилитарно-моральный критерий» отношения к духовной жизни, сужающий горизонты ее сознания. «Народнически-утилитарно-аскегическое отношение к философии» Н. А. Бердяев объясняет тем, что «интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества»". Не изменили отношения к философии и «марксистские победы над народничеством». Социальные идеалы — это кумир, которому поклонялась русская интеллигенция, и поэтому она принимала лишь ту философию, которая их «санкционировала» бы. По Н. А. Бердяеву, это, как правило, малоценный материализм и атеизм. Вывод малоутешителен: «интеллигентская правда», укладывающаяся в формулу «да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее; долой истину, если она стоит на пути заветного клича „долой самодержавие“»12, победила «философскую истину». Выход из этого кризиса безоглядного идолопоклонства Н. А. Бердяев видит в «признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее»13. Для русской философии, как и для русской интеллигенции, характерна «жажда целостного миросозерцания, органичсского слияния истины и добра, знания и веры». Это порождает у Н. А. Бердяева определенный оптимизм. В его статье много интересных наблюдений, «эскизов» для будущих работ.
«Героизм и подвижничество. (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)» — таково название веховской статьи С. Н. Булгакова, самой большой в сборнике. Героизм русской интеллигенции — общепризнанный факт, несомненная ее заслуга. Правда, автор считает, что лежащее в основе героизма самопожертвование имеет свою теневую сторону — духовную гордыню, или политику облагодетельствовать человечество, всех страждущих своими собственными силами, внешними по отношению к ним. В основании такого миропонимания лежит, но мнению С. Н. Булгакова, своеобразное понимание религии человекобожества. «Основным догматом ее, свойственным всем ее вариантам, является вера в естественное совершенство человека, в бесконечный прогресс, осуществляемый силами человека, но, вместе с тем, механическое его понимание. Так как все зло объясняется внешним неустройством человеческого общежития и потому нет ни личной вины, ни личной ответственности, то вся задача общественного устроения заключается в преодолении этих внешних неустройств, конечно, внешними реформами»14. Не вызывает сомнений народолюбие русской интеллигенции, ее моральная чистота.
Однако выше героизма С. Булгаков ставит подвижничество как систему самоотречения, нравственного самовоспитания.
В статье редактора сборника М. О. Гершензона «Творческое самосознание» нет, по нашему мнению, той четкости и логики, что в статьях Бердяева, Булгакова, Струве. Однако главная ее идея — потребность в «творческом личном самосознании» всех и каждого, которое приведет к национальному подъему, — прослеживается четко. Известность статьи М. О. Гершензона в другом: именно она, как никакая другая, дала повод для нападок на «Вехи», поскольку считается, что она в концентрированном виде выражает «веховское» неприятие революционных методов борьбы. Суть рассуждений М. О. Гершензона в следующем: свою родословную русская интеллигенция ведет со времен петровской реформы. «Как и народ, интеллигенция не может помянуть ее добром. Она, навязав верхнему слою общества огромное количество драгоценных, но чувственно еще слишком далеких идеи, первая почти механически расколола в нем личность…»15. В результате русская интеллигенция живет двойной жизнью. С одной стороны, внутренне, она живет как бы вовне, ее сознание не обладает «чутьем органических потребностей воли», а с другой стороны, внешне, она оторвана от народа, от его цельной души и цельного религиозного миросозерцания. Длительный период такого извращенного существования привел к тому, что современная русская интеллигенция превратилась в «сонмище больных, изолированное в родной стране». А далее по тексту идет печально известная фраза: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»16. В этом и состоит трагедия русской интеллигенции: между нею и народом — барьер непонимания, его надо преодолеть через возрождение самосознания, которое в конечном итоге, по М. О. Гершензону, означает религию. Данный вывод по непонятным причинам все критики М. О. Гершензона и «Вех» опустили, или же они не приняли во внимание, что начальную фразу «каковы мы есть» автор выделил курсивом. Именно она и лишает смысла столь резкие нападки. Ну, а коль скоро они прозвучали, Гершензон, начиная со второго издания, публикует к этой фразе примечание, в котором подчеркивает и разъясняет трагичность судеб русской интеллигенции, оказавшейся между властью и народом, при этом «народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, против которой она боролась, оказывается ее защитницей, хочет ли она того или не хочет»17.
А. С. Изгоев в веховской статье «Об интеллигентной молодежи, или Заметки об се быте и настроениях» обращает внимание на тот негативизм по отношению к внешней жизни, который воспитывает у молодежи увлеченность революционными методами изменения социальной действительности. Русская молодежь получает свое воспитание не в семье («У русской интеллигенции семьи нет. Наши дети воспитательного влияния семьи не знают»), не у педагогов или профессоров, а в товарищеской среде, которая уводит ее в подполье, делает отщепенцами. Особенно это относится к студенческой молодежи, которая признается «квинтэссенцией русской интеллигенции». Русские студенты учатся плохо и мало («русское студенчество занимается по крайней мере в два раза меньше, чем заграничное»). А их идеал — интенсивная общественная жизнь, которая революционизирует их и отрицает внутреннюю свободу. В студенческой жизни создается видимость грандиозного общественного дела, поглощающего в ущерб занятиям много времени. А это «мешает студентам заглядывать себе в душу и давать себе точный и честный отчет в своих мыслях и поступках. А без этого нет и не может быть нравственного совершенствования. Но нравственное самосовершенствование вообще не пользуется кредитом в среде передовой молодежи, почему-то убежденной, что это — „реакционная выдумка“»18.
Правовой аспект деятельности интеллигенции в борьбе за социальные преобразования исследует Б. Кистяковский в статье «В защиту права. (Интеллигенция и правосознание)». Статья эта — одна из наиболее пророческих. На большом количестве примеров автор показывает, как низко правосознание русской интеллигенции. Можно сказать, его нет вообще. А без этого нет правового государства, и, выражаясь словами одного из героев Достоевского, тогда — «все позволено». Самые радикальные революционеры типа бакунинцев, нечаевцев, ткачевцев отличались пренебрежением к правовым нормам и законностям. Б. Кистяковский привел сатирические строки Алмазова:
По причинам органическим Мы совсем не снабжены Здравым смыслом юридическим, Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские.
Нашей правды идеал Не влезает в формы узкие Юридических начал.
Б. Кистяковский убедительно показывает, что образованное русское общество, к сожалению, не имеет таких традиций, как западное, где идеи права, защиты интересов нации и личности выражены в классических трактатах. Правовая культура там стала частью общей культуры. Б. Кистяковский опирается в анализе этого изъяна духовной культуры на традиции Герцена, который писал, что «русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно, и совершенно так же поступает правительство»19.
Статья П. Струве «Интеллигенция и революция» посвящена вроде бы специальному вопросу: в ней исследуется отношение русской интеллигенции к революции. Через анализ «отщепенства» как формы враждебности русской интеллигенции к государству и двух его проявлений — анархизма и социализма, исследуя опыт Первой русской революции, он приходит к мысли, что в России идея революционного преобразования не приведет к желаемым результатам. Дело социального прогресса в России, считает П. Струве, может быть доведено до конца лишь путем постепенного, эволюционного изменения социальной действительности, напрямую связанного с выработкой новых религиозно-нравственных идеалов. Этот вывод вытекает из его анализа Первой русской революции. По ее поводу П. Б. Струве пишет: «Революцию делали плохо. В настоящее время с полной ясностью раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практическую беспомощность, но не в них суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в том, что ее вообще делали. Делали революцию в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании»20.
И еще на одну особенность русской интеллигенции — органически нерасторжимую связь «революционизма» интеллигенции, к которой ее предрасполагало уже изначальное «отщепенство», с формальной религиозностью при содержательной антирелигиозности — обратил внимание П. Б. Струве. В революцию, пишет он, «интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений и ни грамма — религиозной идеи. Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по видимому. Не случайно, что интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения — словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания»21.
Эта же проблема, решаемая через рассмотрение нравственных принципов русской интеллигенции, является предметом размышлений С. Л. Франка в статье «Этика нигилизма. (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции)». Отправной точкой для анализа служит утверждение о произошедшем крушении многообещавшего общественного движения и быстром развале наиболее крепких нравственных традиций в среде русской интеллигенции. Автор, исследуя умозрение русской интеллигенции, ее отношение к философии, религии, политике, морали, приходит к тем же, что и Н. Бердяев, выводам: «Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям»22. А ценности эти носят неизменно утилитарный характер. Кроме того, морализм русской интеллигенции связан с ее нигилизмом, т. е., другими словами, отрицанием или неприятием абсолютных, объективных ценностей. В результате русский интеллигент превращается в «воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия». Горизонты его мировосприятия узки, безнравственная идея «коллективной пользы» лишает его личной свободы. Выход С. Франк видит в одном: «от непроизводительного, противокультурного нигилистического морализма мы должны перейти к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму»23. Этими словами он заканчивает «Вехи», знаменуя главную мысль их авторов. В той или иной интерпретации она повторена во всех статьях.
Позиция «Вех» оказалась уязвимой во многих отношениях.
На некоторые просчеты веховцев обратили внимание сами авторы сборника. На два из них указал П. И. Новгородцев: 1) «Вехи» говорят о недостатках русской интеллигенции, в то время как большинство их является «частным случаем общего кризиса интеллигентского сознания»; 2) веховские оценки и аргументы недиалектичны, в частности: и политические, и общественные формы жизни равнопорядковы, и их нельзя противопоставлять, как это делают веховцы. Эти свои замечания П. И. Новгородцев высказал в статье.
«О путях и задачах русской интеллигенции» в сборнике «Из глубины».
Инициатором издания этого «Сборника статей о русской революции» стал находящийся в подполье И. Б. Струве. Принять участие в сборнике он предложил соавторам по сборнику «Проблемы идеализма» С. А. Аскольдову и П. И. Новгородцеву, а также веховцам Н. А. Бердяеву, С. Н. Булгакову, А. С. Изгоеву и С. Л. Франку. Помимо них, в нем приняли участие Вяч. Иванов, С. А. Котляровский, правовед И. А. Покровский, а также В. Н. Муравьев. К лету 1918 г. статьи для сборника были готовы, и он был издан бесцензурно в сентябре 1918 г. Книга пролежала в типографии вплоть до 1921 г., после чего ее рабочие по собственной инициативе пустили сборник в продажу. Почти сразу же книга была запрещена и уничтожена. Чудом два экземпляра попали за границу. Отдельные его статьи (Булгакова и Струве) увидели свет в Софии в 1921 г., а статья Бердяева — в 1959. Целиком сборник был опубликован лишь в 1988 г. в США, а спустя два года — в СССР.
Сборник сохранил и продолжил веховские традиции, о чем говорит все в той же стагье Новгородцев. А его организатор П. Б. Струве подчеркивает: «Сборник „Вехи“, вышедший в 1909 г., был призывом и предостережением. Это предостережение, несмотря на всю вызванную им, подчас весьма яростную, реакцию и полемику, явилось на самом деле лишь робким диагнозом пороков России и слабым предчувствием той моральной и политической катастрофы, которая грозно обозначилась еще в 1905—1907 гг. и разразилась в 1917 г. Историк отметит, что русское образованное общество в своем большинстве не вняло обращенному к нему предостережению, не сознавая великой опасности, надвигавшейся на культуру и государство. Большая часть участников „Вех“ объединилась теперь для того, чтобы в союзе с вновь привлеченными сотрудниками высказаться об уже совершившемся крушении, — не поодиночке, а как совокупность лиц, несмотря на различия в настроениях и взглядах, переживающих одну муку и исповедующих одну веру»24.
Общая идея всех статей — уже не пророчество, не предвидение, как в «Вехах», а констатация того, что Россия потерпела «ни с чем не сравнимое морально-политическое крушение», жертвами которого стали и народ, и государство, как писал издатель сборника П. Струве.
«Другой исток культурного ренессанса начала века был литературно-эстетический. Уже в конце XIX в. произошло у нас изменение эстетического сознания и переоценка эстетических ценностей. То было преодоление русского нигилизма в отношении к искусству, освобождение от остатков писаревщины»25. Появился новый тип критики «философской и даже религиозно-философской», последняя стала доминировать, имея порой мистическую окраску. Литературный модернизм и символизм стали своеобразной визитной карточкой русского духовного ренессанса начала XX в. В своей более ранней статье «Русская религиозная мысль и революция» Н. Бердяев так характеризовал бурное развитие художественной культуры: «Начало века в России было временем большого умственного и духовного возбуждения. Пробудились творческие инстинкты духовной культуры, которые долгое время были подавлены в господствующих формах интеллигентского сознания. Мы пережили своеобразный философский, художественный, мистический ренессанс». И далее: «Происходило освобождение искусства и эстетики от гнета социального утилитаризма и утопизма. Творческая активность в этой области освободилась от обязанностей служить делу социальной и политической революции, и революционность была перенесена внутрь искусства. Образовались новые течения в искусстве, готовился расцвет русской поэзии, который характеризует начало XX века. Появился русский эстетизм и русский символизм»26.
Новейший этап подъема русской культуры после известной строчки из «Поэмы без героя» А. Ахматовой («…и серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл») получил название Серебряного века — в сравнении с пушкинским «золотым веком» русской культуры. Главная характеристика Серебряного века — синтез элементов духовной культуры, определяющийся единением всех духовных богатств русского народа — его философии, живописи, поэзии, архитектуры, музыки. Философия стояла во главе этого единения, она говорила не только языком специальных философских трактатов, но и языком искусств и наук. Есть немало хороших исследований русской культуры Серебряного века, в том числе и зарубежных, но лучшая ее характеристика принадлежит русскому культурологу Владимиру Вейдле: «Самое поразительное в новейшей истории России, это что сказался возможным этот Серебряный век русской культуры, который предшествовал ее революционному крушению. Правда, длился этот век недолго, всего лет двадцать… Правда и то, что сияние его — как и подобает серебряным векам — было в известной мере отраженным; его мысль и его вкус обращались к прошлому и дальнему; его архитектура была ретроспективной, и на всем его искусстве лежал налет стилизации, любования чужим; его поэзия (и вообще литература), несмотря на внешнюю новизну, жили наследием предыдущего столетия; он не столько творил, сколько воскрешал и открывал. Но он воскресил Петербург, воскресил древнерусскую икону, вернул чувственность слову и мелодию стиху, вновь пережил все, чем некогда жила Россия, и заново для нее открыл всю духовную и художественную жизнь Запада. Конечно, без собственного творчества все эго обойтись не могло, и как бы мы строго ни судили то, что было создано за эти двадцать лет, нам придется их признать одной из вершин русской культуры. Эти годы видели долгожданное пробуждение творческих сил православной церкви, небывалый расцвет русского исторического сознания, дотоле неизвестное общее, почти лихорадочное оживление в области философии, науки, литературы, музыки, живописи, театра. То, чем эти годы жили, что они дали, в духовном мире не умрет»27.
Еще одним — третьим — источником «умственного ренессанса» начала XX в., по Бердяеву, была немецкая философия, а также русская религиозная философия, «к традициям которой произошел возврат». Обе они имели большое влияние на развитие русской философии начала XX в.
В конечном итоге, русская философия периода духовного ренессанса сгруппировалась вокруг двух направлений, по определению Б. В. Яковенко, — неозападничества и неославянофильства.
Западная философия имела в России своих почитателей и приверженцев. Популярны были Ф. Ницше, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, П. Наторп. Широко распространялись работы Р. Авенариуса и Э. Маха; не остались без внимания русской мысли феноменология, прагматизм, интуитивизм. Неозападничество наиболее адекватно проявило себя в русском варианте неокантианства и позитивизме. Представители первого сгруппировались вокруг журнала «Логос» (1910—1914), издателями которого были С. Гессен, Ф. Степун, Б. Яковенко, а в число авторов входили известные русские философы Н. Васильев, Б. Кистяковский, Н. Лосский, М. Рубинштейн, П. Струве и др. Свою задачу они видели в «подведении методологического фундамента под научно… малоозабоченную русскую философию, как религиозно-интуитивного, так и марксистско-догматического характера»28. Многие русские философы давно и плодотворно приобщались к философии Канта, в духе кантианства философию преподавали Г. Челпанов в Киевском и Александр Введенский в Петербургском университетах. Они формировали в своих лекциях и трудах западно-европейский стиль мышления.
Петербургские кантианцы, ученики А. И. Введенского, и неокантианцы, сгруппировавшиеся вокруг «Логоса», хотя и исповедовали разные философские взгляды (к примеру, Б. Яковенко был последователем марбургской школы неокантианства, а С. Гессен и Ф. Степун — баденской), были сторонниками трансцендентализма в познании и противниками различных проявлений субъективизма. Давая характеристику этому направлению русской философии, Б. В. Яковенко писал: «Его представители вполне определенно объявили себя сторонниками и защитниками новой философии и критического идеализма. Они решительно отклонили подчинение философского мышления религиозному учению или вероисповедничеству (т. е. телеологизму и мистицизму), равно как и научной теории (т. е. позитивизму или сциентизму), декларировали и утверждали автономию и высший суверенитет философского мышления. Так по-новому пробудился в русском сознании типичный для истории русского духа онтологизм и спор славянофильства и западничества»29.
На иных позициях стояли сторонники неославянофильства: «…В первой половине 1910 г. сплоченно и действенно выступили представители окончательно сформировавшегося религиозно-философского направления, ориентированного на греческо-православную религию, они отвергали всю новую, особенно немецкую, философию, считая истинной философию Отцов церкви и их последователей; они чувствовали и рассматривали себя наследниками славянофилов и Вл. Соловьева»30. Они группировались вокруг издательства «Путь», основанного в Москве М. К. Морозовой, и Религиозно-философского общества Владимира Соловьева.
Деление представителей русской философии Серебряного века на неославянофилов и неозападников многое объясняет в особенностях ее развития, «расстановке сил» и противостоянии ее направлений. Но такое деление является не абсолютным, а скорее инструментальным, поскольку как те, так и другие высказывали определенную приверженность противоположным идеям. Как верно заметил историк русской философии С. А. Левицкий, «по своей религиозной устремленности философы начала XX века были как будто ближе к славянофилам. Но, в отличие от них, как правило, высоко оценивали творческое наследие Запада и, мало того, оказывались созвучны современным им западным исканиям. Можно сослаться на интерес Мережковского к западному ренессансу, на обращение Бердяева к средневековой мистике, на возрождение русского кантианства и гегельянства, на культ Ибсена, Эдгара По, Оскара Уайльда, Метерлинка. Наконец, огромное влияние почти на всех русских мыслителей и поэтов того времени оказал Ницше»31.
Национальное своеобразие русской философии начала века заключается прежде всего в неординарности, уникальности исторического пути ее развития.
Русская философия начала XX в. представляла собой сложную структуру философских реалий, включавшую философские течения, школы, персоналии. Философские концепции отражали ее национальные проблемно-тематические константы и национально-психологические особенности философского осмысления мира.
Как первую национальную особенность русской философии XX в. отметим ее постоянную ориентированность на решение социальных проблем российской действительности. Предчувствие, а затем переживание русскими философами крушения прежних идеалов как катастрофы (одна из статей В. Эрна так и называлась — «Идея катастрофического прогресса») при одновременном желании выразить смысл человеческого существования в его полноте, единстве материальной деятельности и идеальных устремлений — характерная особенность развития философской и социальной мысли в России начала XX в. Отмечая эту черту русской философии, Н. А. Бердяев писал: «Русская мысль всегда будет занята преображением действительности. Познание будет связано с изменением. Русские в своем творческом порыве ищут совершенной жизни, а не только совершенных произведений»32.
Естественно, направление поиска совершенной жизни у различных философских течений было различным. Материалистические направления русской философии этого периода, развивавшиеся в основном в рамках марксистской философии, продолжали традиции русской революционной демократии, политизировали философское знание, абсолютизировали его влияние на общественное развитие.
Идеалистические направления были менее радикальны, но и их сторонники, по крайней мере те, которые проповедовали «новое религиозное сознание», предлагали такие идеалистические проекты возрождения России, как «христианская общественность (Мережковский), «союз христианской политики» (Булгаков), «теократический анархизм» (Бердяев) и т. д. Более того, многие русские религиозные философы связывали судьбы социализма с христианством. Как писал С. Н. Булгаков, «в социализме, как хозяйственной организации, содержится христианская идея, заложено организующее начало социальной любви»33. Да и «самая мысль о «христианском социализме» не имеет в себе ничего противоречивого»34.
В основном же идеалистическими направлениями русской философии XX в. культивировались не политические, а нравственные или религиозные пути спасения России. Эта направленность русской философской мысли могла быть осмыслена в категориях свободы, совпадения идеала и действительности. «Вокруг этой пары разворачивался понятийный и художественнообразный аппарат русской мыслительное™. При этом, как верно отметил Бердяев, нас интересовала не философская истина, а интеллигентская правда. В силу неразвитости русского общества действительность понималась как конкретно-чувственная данность. Она не рассматривалась как идеальная, а идеал как действительный. Поэтому в попытках соединения действительности и идеала русская мысль шарахалась от эмпиризма до мистики, от натурализма до соборности. Идеал и действительность соединялись либо на основе внешнего устроения, приноравливаясь к природе человека, либо на основе устроения внутреннего, приноровленного к той же природе человека, лишь абстрагированной от ее чувственно данной формы. Это крайние полюсы русской философии — эмпиризм и антропологический материализм, с одной стороны, а с другой — мистицизм и религиозная философия, в которой антропологизм был смешан с теоцентризмом»35.
Как социально ориентированная, русская философия XX в. важнейшим своим вопросом считала вопрос о смысле истории и месте в ней России. Решая его, она с необходимостью выходила на проблему русской идеи. Как пишет Н. В. Мотрошилова, «к чести отечественных философов надо отметить, что они сделали сложную проблему русского менталитета, русского духа, русской культуры предметом глубокого исследования, по большей части не впадая в крайности истерического, демагогического национализма или отрицания национальной самобытности… Специфика российской культуры в целом, русской философии в частности усматривалась в антиутилитаризме, духовности, в интересе к глубинам человеческих переживаний и страданий, к поиску Бога, Правды, Спасения»36.
В рамках «русской идеи» на протяжении всего XX в. русские философы исследовали проблему, поставленную еще славянофилами и западниками, — проблему «Запад — Восток» как смысл западно-европейской и русской истории.
Наконец, к этой же особенности русской философии XX в. примыкает еще одна, названная Н. А. Бердяевым «народопоклонством», решаемая большинством русских философов в рамках дилеммы «интеллигенция — народ». На практике это значило, что большинство проблем, решаемых русской философией, «проверялось на прочность» через практическую значимость их делу освобождения народа, служения ему.
Как материалистические, так и идеалистические течения русской философии были далеки от схоластики и абстрактных схем, являлись философией жизни. Для них характерно преимущественное внимание к животрепещущим проблемам современности.
Указывая на эту особенность, А. В. Лосев подчеркивал: «Русской философии, в отличие от европейской и, более всего, немецкой философии, чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты нс посредством сведения к логическим понятиям и определениям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности»37.
Эта отмеченная большинством историков русской философии ес национальная особенность является следствием специфического взаимодействия в ней субъекта и объекта. Субъект познания в ней «не отражает бытие, как, например, в английском эмпиризме, не тождественен бытию, как в немецком панлогизме, а выступает как факт внутри бытия. Онтологизм означает не просто примат реальности над „чистым сознанием“», но, как подметил еще В. Зеньковский, означает включенность познавательного процесса в жизнь субъекта в мире38. В результате бытие превращается в со-бытие или в «житие». Другими словами, русская философия осмысливает объективную реальность как свою судьбу, сопрягая таким образом гносеологию с оценкой и моралью. Правда, в русской философии этого периода разрабатывались и так называемые метафизические проблемы онтологии, методологии, гносеологии. Русскими философами, особенно неокантианцами и интуитивистами, было написано немало значительных и глубоких работ, внесших свой вклад в дальнейшую разработку этих вопросов.
В отличие от большинства европейских национальных философий, русская философия более, чем какая-либо из них, была заинтересована в том, чтобы ее идеи оказались доступны широким читающим массам. Она, как правило, не занималась системотворчеством, не создавала фундаментальных, многотомных философских трудов. «Русская философия неразрывно связана с действительной жизнью, поэтому она часто является в виде публицистики, которая берет начало в общем духе времени, со всеми, со всем его порядком и хаосом. Поэтому среди русских очень мало философов par excellence (по преимуществу): они есть, они гениальны, но зачастую их приходится искать среди фельетонистов, литературных критиков и теоретиков отдельных партий», — считал А. Ф. Лосев39.
Не только публицистика или — шире — журналистика были традиционным прибежищем русской философии, но и художественная литература. Тесное взаимодействие философии и художественной литературы является еще одной национальной традицией. Благодаря этой традиции русские мыслители прорывали оболочку абстрактного рационализма и устремлялись к живой жизни, к целостному восприятию человеческого духа.
Для русской философии, в том числе философии XX в., характерно самовыражение не только в философских текстах, но и в педагогике, музыке, живописи, естественно-научных трудах. К примеру, не только выдающимися педагогами XX в., но и философами считаются Г1. П. Блонский, Н. К. Вентцель, В. В. Зеньковский, С. Л. Рубинштейн и др. Самым значительным, но не единственным примером проникновения философии в музыку является творчество А. Н. Скрябина, которого М. О. Гершензон называл выдающимся русским мыслителем.
Русские философы стремились не просто постичь мир и жизнь, но и определить их «правду», т. е. главный принцип миросоздания. Недаром начиная со второй половины XIX в. в научный оборот русской философией вводятся понятия правда-истина (теоретико-адекватный образ познаваемого мира) и правдасправедливость (та духовная сущность бытия, которой этот мир благоденствует), ищутся возможности их соединения через утверждение духовной сущности бытия.
Решая социальные проблемы, русская философия XX в. большое внимание уделяла также проблеме сущности и существования человека, смыслу его жизни. Антропологическая ориентация русской философии — общепризнанная ее национальная особенность — в этот период значительно усилилась, приобретая вид экзистенционально-антропологической и персоналистической редукции философского знания вообще. Проблема сущности человека решалась русскими философами-идеалистами в ее высоком духовно-нравственном измерении, через углубленное изучение внутреннего духовного мира личности. Сущностью человека, считали они, «может быть лишь духовное начало, внутренняя опора свободы человека, начало, не выводимое извне, из природы и общества»40. Вместе с тем обращает на себя внимание и то, что в русской философии начиная с середины XIX в. все более настойчиво ставятся вопросы существования человека, его самоценности, свободы. Русская философия начала XX в. проникнута глубокой тревогой в связи с осознанием несовершенства бытия, наличия в нем иррациональных начал. Все большее внимание в ней уделяется вопросам взаимодействия личности и общества, социальным характеристикам человека. Обнаруживается тяга русских мыслителей к синтезу знания, к обретению подлинно «цельного знания», объединяющего в себе философию, науку и религию. Идеи всеединства В. С. Соловьева находят продолжателей в лице его учеников и последователей. Одновременно идет поиск философских, универсальных, духовных оснований этого единства. С. Л. Франк писал: «В противоположность западному, русское мировоззрение содержит в себе ярко выраженную философию „мы“ или „мыфилософию“. Для нее последнее основание жизни духа и его сущность образует „мы“, а не „я“. „Мы“ мыслится не как внешнее большинство „я“… Можно утверждать, что в каждом „я“ внутренне содержится „мы“, потому что эго „мы“ образует последний опорный пункт, глубочайший корень и внутренний носитель „я“… Жизненность „я“ создается сверхиндивидуальной целостностью человечества»41.
Продолжают быть актуальными проблемы отношения русской философии к европейской философской традиции, взаимный обмен идеями. Все историки русской философии отмечают ее всемирную открытость, способность аккумулировать те идеи западной философии, которые отвечают национальным особенностям ее развития. Философские системы Запада «примерялись» к российской действительности, из них бралось только то, что помогало решать российские вопросы, что соответствовало национальным традициям российской философии. В конце XIX — начале XX в. все большее влияние на развитие европейской философии начинает оказывать отечественная философия. В «русские цвета» окрашены для Европы анархизм, философия жизни, экзистенциализм, персонализм, большинство социологических течений. Процесс обогащения европейской философской мысли идеями русской философии стал более интенсивным после того, как в Европу в начале 1920;х гг. были выдворены виднейшие русские философы — Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, Л. Карсавин, Н. Лосский, С. Франк и мн. др.
В первые два десятилетия XX в. русская философия имела мощный интеллектуальный потенциал школ и направлений. Известный русский философ А. Ф. Лосев считал: «Русская самобытная философия дала России гениальных мыслителей, в русской философии, находящейся под западным влиянием и отличающейся крайней бесплодностью (она почти не выходит за рамки теории познания), также имеется много одаренных личностей. Следует надеяться, что представители заимствованной философии распрощаются с абстрактностью и бесплодностью, признают великую русскую проблему Логоса. Разумеется, это поведет к великой борьбе разума и Логоса, что уже нашло выражение в учениях некоторых своеобразных русских философов. Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалипсической напряженности, уже стоит на пороге нового откровения, то есть новых догм. Надежду на это питают все истинные русские»42.
У русского религиозно-философского ренессанса были свои слабые стороны, и главная из них, по мнению Бердяева, — отсутствие широкой социальной базы. «Этот диагноз глубоко верен, — пишет С. А. Левицкий, — с той существенной оговоркой, что влияние религиозной философии имело сильную тенденцию к распространению. Не будь революции, Ренессанс, вероятно, приобрел бы свою общественную базу, ибо он уже начинал ее приобретать»43.
Характерной чертой интеллектуального взлета русской философской и религиозной мысли конца XIX — начала XX в. было, noопределению Н. Бердяева, «религиозное беспокойство и искания». Существовало, как минимум, две причины этого явления. Ясно обозначившаяся к концу XIX в. утрата веры в Бога побудила писателей, философов, вообще людей совестливых искать существенную опору, искать Бога, хотя сами представления о нем не были адекватны ортодоксально-религиозным. Этот «поиск» потребовал переосмысления всего культурного, философского, религиозного наследия, в том числе определенных сфер официального православия. В конечном итоге возникло широкое, разнообразное по содержанию течение русской общественной мысли, именуемое в разное время «новым религиозным сознанием», «богоискательством», «богостроительством». Оно было емким, отличалось творческим подходом и попыткой синтезировать различные области духовной культуры. Творческое понимание религии превращало ее в интерпретации деятелей культуры рубежа веков в некое подобие искусства особого рода, что давало основания критикам-ортодоксам усматривать в подобных творческих исканиях религиозный декаданс, религиозный модернизм, а иногда и просто еретические учения (характерны в этом плане не только религиозно-философские эссе Д. Мережковского, А. Белого, Вяч-. Иванова или кощунственные эксперименты В. Розанова и искания «мирового духа» в ранних литературно-философских опусах Н. Рериха, но и изысканный, утонченный богословский трактат о. Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины»44.
Поиски Бога коснулись всех деятелей русской религиозной мысли рубежа веков. У каждого из них были свои причины для поиска, и шли к этому они разными путями. Разными, естественно, были и результаты. Первыми и, по сути, наиболее оригинальными были поиски В. В. Розанова и Д. С. Мережковского.
Василия Васильевича Розанова (1856—1919) трудно отнести к какому-либо направлению русской религиозной философии, его мировоззрение асистематично, он принципиально непоследователен в своих суждениях. Несомненно одно: мировоззрение философа религиозно ориентировано, личностно окрашено, имеет тягу к экзистенциальному выражению. И хотя почти нет областей философского знания, тем и проблем социальной и культурной жизни, по которым бы Розанов не высказывался, — он философ одной гемы, представленной в его творчестве многоаспектно и нетривиально. Эта тема — христианство.
В своих многочисленных статьях он рассмотрел и проанализировал феномен религиозности вообще, взяв в качестве объекта этого анализа язычество, иудаизм и христианство. Началом этого анализа можно считать, как и у большинства «русских мальчиков» середины XIX в., религиозное отрицание и увлечение позитивизмом. Когда же несколько лет спустя он вернулся в православие, что-то в его душе надломилось — и он до конца жизни остался «около церковных стен». Что помешало ему стать ортодоксальным верующим, сказать трудно: В. Розанов по этому поводу высказывался слишком много и всегда противоречиво. Ясно одно: он слишком любил жизнь, ее многокрасочность, чтобы признать правоту аскетического монашества, бесплотность, правоту смерти, преступность своей невенчанной любви и незаконнорожденность своих детей.
Выбрав жизнь, Розанов воспевал ее красочное многообразие и, как человек глубоко чувствующий и остро думающий, не мог нс задаться вопросом, почему Христос так далек от жизни, почему он равнодушен к обыденности человеческого бытия. Поисками ответа на эти вопросы Розанов занимался всю жизнь. Итогом этих поисков можно считать полное страданий восклицание в «Апокалипсисе»: «Не надо, не надо… Ужасы, ужасы. Господи Иисусе. Зачем Ты пришел смутить землю? Смутить и отчаять?»45. Уникальность этого восклицания в том, что, не будучи атеистом, Розанов тем не менее задает Господу убийственный вопрос: зачем Ты пришел?.. И сам же отвечает: смутить и отчаять. Это финал, резюме рассуждений философа о Христе.
А до этого, десятью годами раньше, он прочитал доклад в Религиозно-философском обществе Санкт-Петербурга «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах его», а затем опубликовал его. Он обвинил Христа в том, что как раз ставили ему в заслугу. Розанов предлагает догадку, «вовсе же догматическую»: Иисус прекраснее всего в мире и даже самого мира. Когда он появился, то как Солнце затмил собою звезды. Звезды — это наука, искусство, семья. Нельзя спорить, что начертанный в Евангелии Лик Христа «слаще», привлекательнее и семьи, и царств, и власти. Таким образом, во Христе, если и смерть, то сладкая смерть — истома. Отшельники, конечно, знают свои сладости. Они томительно умирают. Как только вы вкусите сладчайшего, неслыханного, небесного, то вы потеряете вкус к обыкновенному. «С рождением Христа, с воссиянием Евангелия все плоды земные вдруг стали горьки. Во Христе прогорк мир, и именно от Его сладости»46. Ход мысли философа понятен, хотя и необычен: Христос слишком добр, слишком светел, сладок и красив, а окружающий нас мир — полон несправедливости, сер в своей обыденности. Чтобы быть со Христом, надо отвергнуть этот мир, о чем, кстати, сам Христос недвусмысленно говорит в Евангелии. Но если отвергать этот мир, то нужно отвергнуть и Бога — создателя этого мира! Резюме читаем в «Апокалипсисе нашего времени»: «ТЫ один прекрасен, Господи Иисусе! И похулил мир красотою Своею. А ведь мир-то Божий»47. Философ себе и читателю предлагает выбирать одну из противоположностей — мир или Христос, хотя оба — дети Божьи. Любя жизнь и мир и не отрицая Христа, В. В. Розанов каждый раз наново осуществлял свой выбор. И, как правило, парадоксально. Вот два размышления о Солнце из того же «Апокалипсиса…»: 1. «Попробуйте распять Солнце, / И вы увидите — который Бог». 2. «Живет ли Солнце?.. Ну, а если оно „живет“? тогда 1-я мысль кидается к Христу. „Значит, Ты — не Бог“. Странно»48. В. Розанов жизненно подчеркивает противоположность мира и Христа. Поскольку Христос «не от мира сего», он как бы нейтрален по отношению к нему. Получается, что мир Христу не нужен. «Не нужно царств… Не нужно мира. Не нужно вообще „ничего“… Пирог без начинки… Христом вывалена вся начинка из пирога, и то называется „христианством“»49. Более того, философ бросает Христу обвинение, почему он не помог миру и человеку стать лучше: «Ты все мог, Господи Иисусе. Ты, „потрясший небо и землю“. И не избавивший даже детей ни от муки небесной, ни от муки земной»50.
Итог жизненных размышлений В. В. Розанова о сути христианства, его «нестыковке» с миром и человеком мы находим в итоговом афоризме из того же «Апокалипсиса нашего времени»: «Христианство не космологично, на нем трава не растет»51.
Анализ истоков христианства, его сути, проведенный Розановым в его книгах «Темный лик» и «Люди лунного света», привел его к выводу, что одной из самых существенных черт христианства является его бесполость. Ничего полового нет ни в Христе, ни в Божьей Матери, ни в непорочном зачатии. Христианство бессеменно, а иночество составляет метафизику христианства. Все «специальное» в церкви начинается с монаха, его непохожести на простых людей, суть которой в отсутствии интереса к женщине, бегстве от нее, страха перед ней. Розанов констатирует, что все содержание Нового Завета сводится к указаниям: не тяготей к женщине, а следовательно: нет супружества, семьи! И не надо! В этом состоит не что-то в христианстве, а все оно. Вместо того чтобы брак покорить закону любви, покорили любовь закону брака. Церковь отказалась освятить пол, любовь, т. е. все, что присуще человеку как существу природному. В результате мир и человек потеряли целостность, разделившись на «своих» (безгрешных, непорочных) и иноверцев (грешников). У человека оказалось два враждебных начала: грешная плоть и высокая душа.
Розанова не удовлетворяло такое отношение христианства к любви, браку, семье, и он вполне естественно обратился к другим религиям, и прежде всего к иудаизму — религии Вифлеема. Его привлек Ветхий Завет с его призывом плодиться и размножаться, с уважительным отношением к полу и семье. При сравнении Ветхого и Нового Заветов философ обнаружил в последнем тенденцию к регрессу и даже богословскую ошибку. В «Людях лунного света» он пишет: «Я все сбиваюсь говорить по-старому „Бог“, когда надо говорить Боги; ибо ведь их два, Эпо-гим, а не Эло-ах (ед. число). Пора оставлять эту навеянную нам богословским недомыслием ошибку. Два Бога — мужская сторона Его и сторона — женская»52. И значит, «по образу и подобию сотворенное» все в мире стало или «мужем», или «женою». Т. е. уже в самом акте творения мира посвящается, и сам процесс творения видится плотским, чувственным актом, а понятие «семья» охватывает весь мир. Христианство Нового Завета противоположно этому утверждению пола, в нем все наоборот: бессемейное зачатие, плюс-минус пол, соитие — грех и т. д. Большинство страниц книги «Люди лунного света» Розанов посвящает исследованию животворящих начал иудаизма, причин крепости семьи у евреев, их тесных семейных и родственных связей. Обращение к иудаизму было для Розанова своеобразной полемикой с догматизмом христианства. «В поле — сила, пол есть сила, — писал он. — И евреи — соединены с этой силою. А христиане с нею разделены… Дальнейший отказ христианства от пола будет иметь последствием увеличение триумфов еврейства. Вот отчего так „вовремя“ я начал проповедовать пол. Христианство должно хотя бы отчасти стать фаллическим»53.
Это высказывание (и особенно фраза «…"вовремя"я начал проповедовать пол») многозначительно, поскольку «проповедовать» — означает не изучать, а вводить нечто в область веры. Для Розанова вопрос пола — главнейший, лежащий в глубинах человеческой деятельности. Он задался целью реабилитировать репрессированный многовековым господством христианства пол, вернуть ему жизнь, а жизни — вернуть пол.
Обращение к проблемам пола имело для Розанова не только религиозные и мировоззренческие основания, но и личные — многие беды и трудности его жизни были связаны именно с христианским толкованием пола и семейной жизни. Невенчанный брак и незаконнорожденные дети были многолетней болью Розанова, постоянно тревожащей его сознание. «Церковь сказала мне „нет“. Я ей показал кукиш с маслом. Вот вся моя литература»54.
Философ громко и настойчиво «проповедовал пол», но «славянским Лютером» (каковым он в «Легенде» считал Достоевского) не захотел стать: «Хочу ли, чтобы очень распространялось мое учение? Нет. Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой»55. О проблемах пола он писал много, но в работах Розанова проблема пола, в отличие от работ В. Соловьева и О. Вайнингера, раскрывалась через естественную, здоровую сексуальность, связанную с проблемами любви, семьи, детей, в то время как у В. Соловьева и О. Вайнингера эта проблема сопряжена с патологией: Соловьев писал исключительно об абстрактной Вечной женственности, а Вайнингер — о своих гомосексуальных симпатиях («Из каждой страницы Вайнингера слышался крик: „Я люблю мужчин!“», — констатирует Розанов).
В определенном смысле можно говорить о «религии пола» и «философии пола» у В. В. Розанова. Обращение к полу подводит итог религиозным исканиям философа. Пол как увеличительное стекло проявляет для него недостатки христианства и в то же время может одухотворить жизнь, сделать ее прекрасной, освященной Божественной благодатью. Пол у Розанова — универсальная природная сила, общий закон природы и одновременно «закон Божий». Философ утверждает святость пола, что, естественно, противоречит христианской символике: земное — бренное и греховное, а небесное — одухотворенное и безгрешное. Отрицание христианством святости пола, считает он, «понижает» и ослабляет христианство, и поэтому его из этого состояния необходимо вывести.
В «философии пола» у Розанова пол представлен основанием всего существующего, своеобразным космическим началом, трансцендентным, всеобщим, детерминирующим мировую гармонию. «Пол космичсн. Мировой космос — жив, жизнснен; он нс существует резонно и логически, но живет»56. Пол определяет и человеческую жизнь, индивидуальность. В «Людях лунного света» философ специально исследует силу полового влечения, считая, что оно непостоянно. У каждого человека наличествуют «мужские» и «женские» начала, потому стремление к противоположному полу объясняется стремлением к полноте жизни. В частности, он пишет: «…"пол» не есть в нас, — в человечестве, в человеке, — так сказать «постоянная величина», «цельная единица», но что он принадлежит к тому же порядку явлений или величин, которую ньютоно-лейбницсвская математика и философия математики наименовали величинами «текущими»… Вот такая-то «вечно-текущая» величина в нас или, точнее, существо в нас есть пол наш, как наша «самочность», что мы суть или «самец», или «самка». Вообще — это так: мы суть 1) самцы, 2) самки. Но около этого «так» лежит и «не так»: противоборство, противотечение, «флюксия» (Ньютон), «Я"-отрицающееся лицо, начало лица…»57. Существуют индивидуальные различия в соотношении мужского и женского начал у человека, амплитуда полового напряжения колеблется от повышенной сексуальности до ее отсутствия и даже до отсутствия влечения к противоположному полу. Говоря о силе сексуального напряжения, Розанов представляет ее в виде ступеней в ряде натуральных чисел от «плюс» семи до «минус» семи. Сущность наивысшего напряжения полов в их противоположности, — наибольшая противоположность мужчины и женщины и выражает сильнейший в них пол. Философ констатирует: «в противостоянии своем наибольший самец и наибольшая самка суть: 1) герой, деятель;
2) семьянинка, домовочка. Один будет: 1) деятелен, предприимчив, изобретателен, смел, отважен и, пожалуй, — действительно «топает» и «стукает», другая же: 2) тиха, нежна, кротка, безмолвна или маломолвна. «Вечная женственность» — прообраз одной. «Творец миров» — прообраз другого"58.
«План всемирной истории» философ также объясняет половым напряжением. Колебание полового чувства, по его мнению, непосредственно влияет на развитие европейской цивилизации и выражается в постепенном и взаимном умалении мужского и женского начал. «Первоначальное грубое ворочанье камней культуры» связано с деятельностью «первоначального самца» (индекс +8, +7) — это ранние эллины, Одиссей, викинги. Однако постепенно историческое развитие приводит к «всемирной потребности шлифоваться», степень полового напряжения понижается до умеренных и низких ступеней: «В этих умеренных ступенях зарождается брак, как привязанность одного к одной, как довольство одною. И, наконец, появляется таинственный „+0“, полное „не-воленье“ пола, отсутствие „хочу“»59. Возникает совершенно новая ситуация культурного творчества.
В. В. Розанов строит концепцию «третьего пола», которого не знала и не терпела природа. Это «бесплотность», «бессеменность», «+0 пола». У людей «третьего пола» (их философ называет «людьми лунного света») «в характере много лунного, нежного, мечтательного; для жизни, для дел — бесплодного; но удивительно плодотворного для культуры, для цивилизации… Здесь цвегут науки и философия»60. Появление этого типа людей разрушает (правда, психологически) тип социальной жизни и даже «тип истории». Но половое чувство (по Фрейду — «либидо»), сохраняясь, переносится в иные сферы жизни — духовное творчество, религия, культура. Именно в этих людях Розанов увидел «начало христианства, еще задолго до христианства», поскольку именно их мироощущению соответствует христианский идеал «святости». Собирательный образ «людей третьего пола» — это монах, инок. Монах — субъект христианской религии, он ее организует как социальный институт, хранит ее чистоту, несег в сознание «мирян», критикуя их за неспособность отказаться от пола, от «мира». Философ утверждает, что не только религия, христианство, но и «аромат европейской цивилизации, совершенно даже светский, даже атеистический и антихристианский, — все равно весь и всякий вышел из кельи инока»61. Далее, усиливая эту мысль об иночестве, он пишет: «оно одно составляет поворот в истории от древнего к новому, оно есть виновник и создатель новой эры»62.
Пансексуализм Розанова, как видим, накладывается на его философию религии и философию истории и гем самым представляет еще один, пожалуй, — самый противоречивый и интересный, вариант выхода из кризиса религии, имевшего место в России в конце XIX — начале XX в.
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866—1941) — одна из самых неоднозначных фигур русской культуры и философии Серебряного века.
«Страстный охотник за идеями», по словам Л. Шестова, он выделялся в кругу современников-интеллектуалов неутомимостью поиска ответов на самые сокровенные вопросы бытия; все болевые точки духовной жизни общества, социальные катаклизмы всегда волновали его и не оставались без отклика. Причем он был далек от корпоративных интересов и на все имел собственную точку зрения, порой расходящуюся с общепринятой. Его считали воинствующим консерватором, а он выступал с критикой «Вех», резко осуждал процесс по делу Бейлиса как «унижение» и «поражение» России перед всем миром. Мережковский-консерватор во многих своих публицистических выступлениях оказывался в лагере левых.
На рубеже XIX—XX вв. в русской философии началась смена мировоззренческих парадигм. В общественной мысли и культуре господствовало чувство «между прошлым и будущим, без настоящего», чувство необходимости обновления, выработки новых представлений о свободе и ее реализации личностью. Новый резонанс приобрели идея возрождения личности через синтез времен, эпох и культур и потребность проявить в жизни героя глобальные законы мира. В мироощущении эпохи явно присутствовали богоискательские тенденции, взгляд на историю как путь к Христу и одновременно апокалипсическая оценка пути «от Христа», а также взгляд на историю как систему отношений, чьи зародыши (корни) скрыты в прошлом. Д. С. Мережковский был в центре этих мировоззренческих построений и отразил их в своей трилогии «Христос и Антихрист». В ней через судьбы героев разных времен и народов он пытается осмыслить бытие, дать его оценку и перспективу развития. Трилогия Мережковского — новый тип историософской прозы, в которой три акта исторической драмы раскрывают прогиворечивое и непременное развитие религиозного сознания как борьбу двух истин — христианства и язычества в Древнем Риме второй половины IV в., в Италии рубежа XV—XVI столетий и в России периода петровских преобразований.
Трилогию «Христос и Антихрист» можно оценивать как мировоззренческий документ эпохи, выражение философских представлений автора о времени создания этого произведения. По его мнению, существует три типа познания, без которых невозможно целостное постижение мира: эмпирическое знание о пространственно-временном мире (Бэкон, Гоббс); рациональное знание, в котором инструментом познания единого, иерархического бытия выступает «ум» (Спиноза, Декарт, Лейбниц); мистическое мгновенное схватывание сознанием «тайны» (Василий Великий, Григорий Богослов и др.).
Судьба главных героев трилогии Мережковского олицетворяет разные уровни сознания человека во взаимодействии с миром исторического христианства на грех стадиях его развития и персонифицирует противостояние двух «бездн» — языческого и христианского миропонимания, взаимодействующих в истории и в личности через притяжение и отталкивание. В «Юлиане Отступнике» анализируются возможности спасения умирающей культуры через прививку ей религиозного сознания, соединившего обожествление земных благ с любовью и жертвенностью. В «Воскресших богах. Леонардо да Винчи» непреодолимая двойственность человеческой души раскрывается через бытие человеческой личности. И здесь главными проблемами являются смена мировых культур, внутренние механизмы этого процесса, судьба человека «переходного» периода, представления о добре и зле, красоте и любви, которыми вообще сильна символика: даже Христос и Антихрист как символы христианства и язычества могут быть представлены как Богочеловеческое и человекобожеское начала в человеке.
Третий роман («Антихрист. Петр и Алексей») — новый этап символических обобщений, связанных с возможными отступлениями от Заветов Христа, особенно в области власти, губящей человеческое в человеке. Как подлинный документ эпохи, этот роман Мережковского, опубликованный в 1905 г., весьма идеологичен: автор пытается выявить причины болезни общества, поставить диагноз и дать прогноз. Основная его мысль проста: общество должно расплатиться за зло, накопившееся в нем. Под злом Мережковский подразумевает многовековые грехи самодержавия, бюрократии и церкви, порожденные петровскими преобразованиями. Над этим романом витает дух Апокалипсиса, революции, хотя Мережковский и считает, что революция приведет лишь к эскалации зла и гибели культуры.
Особое место в интеллектуальной биографии Мережковского принадлежит сборнику «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы», вышедшему в 1897 г. В. В. Зеньковский считает, что это «одна из лучших книг, написанных им… Здесь собраны его превосходные, часто тончайшие старые этюды о „вечных спутниках“, о мировых гениях в области литературы. Мережковский действительно всегда обращен к этим „вечным спутникам“, но он остается при этом всегда самим собой, — и именно это и мешает ему быть тем, чем ему очень хочется быть, мешает ему быть настоящим историком»63.
Среди имен «вечных спутников» несколько русских. Особенно необходимо выделить оценку Мережковским гения Пушкина, отличающуюся своеобразием и новизной. Он считает, что Пушкин — великий мыслитель, мудрец, рассуждающий о мировой поэзии, о философии, о судьбах России, о прошлом и будущем человечества. До Мережковского так русского поэта не оценивал никто. Очень важными сторонами творчества Пушкина, кроме этого, по его мнению, являются религиозность поэта, всепобеждающий оптимизм и народность. Размышления о Пушкине позволили Мережковскому уже здесь найти эвристически значимую для него методологическую идею: «Необходимым условием всякого творчества, которому суждено иметь всемирно-историческое значение, является присутствие и в различных степенях гармонии взаимодействие двух начал — нового мистицизма, как отречение от своего Я в Боге, и язычества, как обожествление своего большого Я в героизме». Эту мысль он и осуществит в самой своей знаменитой книге о «тайновидцах духа и плоти» — Достоевском и Толстом.
Главная философская мысль работы основана на наличии у человека трех ипостасей — телесной, душевной и духовной — и восходит к идеям александрийской школы. Исходя из этой установки, Мережковский пишет о Толстом как о «величайшем выразителе этого не телесного и не духовного, а именно телесно-духовного — „душевного человека“ — той стороны духа, которая обращена к духу, и той стороны духа, которая обращена к плоти — таинственной области, где совершается борьба между Зверем и Богом в человеке: это ведь и есть борьба и трагедия всей его собственной жизни, он ведь и сам по преимуществу человек „душевный“, не язычник, не христианин до конца, а вечно воскресающий, обращающийся и не могущий воскреснуть и обратиться в христианство, полуязычник, полухристианин»м.
Толстой и Достоевский для писателя антиподы. Первый — провидец плоти, второй — провидец духа. Толстой — эпикуреец, тоскующий по христианству, размышляющий о смерти. Такое противоречивое эпикурейство и делает Толстого, по словам Мережковского, «одним из источников великолепия его творчества; как бы то ни было, слава Л. Толстого заключается именно в том, что он первым выразил — и с какой бесстрашною искренностью! — эту новую, никем не исчерпанную, неисчерпаемую область нашей утончающейся телесно-духовной чувствительности; и в этом смысле можно сказать, что он дал нам новое тело, как бы новый сосуд для нового вина»65.
Достоевский — другой, и противоречия его другие. «Достоевский больше думал о царстве Сына, чем о царстве Духа, больше верил в Того, Кто был и есть, чем в Того, кто был, есть и будет… таким образом разжигал новую религиозную вражду»66. Он боролся «с ужасом духа — слишком яркого и острого сознания, с ужасом всего отвлеченного, призрачного и в то же время беспощадно реального»67.
В 1906 г. Д. С. Мережковский, осмыслив Первую русскую революцию, за несколько лет до «Вех» и как бы предвосхищая их, опубликовал свое знаменитое эссе «Грядущий Хам», многие положения которого отразили заветные мысли писателя. Он подверг критике прежде всего социализм и мещанство, объединив их странным образом, но, как оказалось, провидчески: «Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства, властью большинства… Сила и слабость социализма как религии в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и гем самым невольно включат в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма, как религии, на котором и сам он, социализм, построен»68. Второй сюжет эссе — интеллигенция, которая подвергается травле и обвинениям в «беспочвенности» и безбожии. Защищая русскую интеллигенцию и объясняя эти ее «недостатки», Мережковский обращается к молодому ее поколению: «Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Однако бойтесь рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам»69.
Для Грядущего Хама, перед лицом которого стоит современная Россия, характерны три ипостаси, три лица. Первое лицо — настоящее. Это лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о рангах и т. и. Второе лицо — прошлое. Это лицо православия, главный порок которого в том, что оно служит самодержавию, т. е. воздает кесарю Божье. И третье лицо — будущее. Это страшное лицо люмпена, идущего снизу хамства. Этим трем лицам зла противостоят в России три начала духовного благородства: живая плоть народа, его живая душа и интеллигенция — живой дух России. Резюме Мережковского выражает его политическое кредо предреволюционной поры: «Для того, чтобы в свою очередь три начала духовного благородства и свободы могли соединиться против трех начал духовного рабства и хамства, нужна общая идея (здесь и далее в цитатах разрядка наша. — Б. Е.), которая соединила бы интеллигенцию, церковь и народ; а такую общую идею может дать только возрождение религиозное вместе с возрождением общественным. Ни религия без общественности, ни общественность без религии, а только религиозная общественность спасет Россию»70.
Д. С. Мережковский не был философом в традиционном смысле этого слова. Но философию он знал, и она интересовала его. Он был писателем-философом: большинство его художественных и публицистических произведений несут печать философских размышлений на религиозные, исторические и современные ему темы. И все они в той или иной степени связаны с богоискательством, с попыткой создать новую религию «Третьего Завета».
У истоков этой религии, по мнению Мережковского, стоял В. С. Соловьев с его идеей Богочеловечества. «Вл. Соловьев, — пишет он, — почувствовал, что все историческое христианство — только путь, только преддверие к религии Троицы. Учение о Троице он пытался сделать живым откровением, синтезом человеческого и Божественного Логоса, ставшего Плотью, как бы исполинским сводом нового храма Св. Софии Премудрости Божией»71. На раннем этапе становления идей богоискательства Д. С. Мережковский развивает идеи Вл. Соловьева, считавшего, что для достижения желаемой духовно-нравственной гармонии современная цивилизация должна преобразоваться во Вселенскую Церковь, объединяющую людей под знаком христианских добродетелей. Но если Вл. Соловьев из боязни отлучения от церкви боялся говорить о необходимости нового взгляда на христианство, то Мережковский устанавливает «прямую связь православия со старым порядком в России» и делает вывод, что «к новому пониманию христианства нельзя подойти иначе, как отрицая оба начала вместе»72. Именно здесь намечается отход Д. С. Мережковского от Вл. Соловьева, а в последующем и его критика. В книге «Не мир, но меч» он отмечает, что Вл. Соловьев, являясь подлинным пророком новой религии, оказался слаб в ее утверждении: «Вождем русского народа Вл. Соловьев не сделался. Вести других на революционное действие не мог бы он уже потому, что сам не довел свое революционное сознание до действия. Если бы он был последователен, то, после казни цареубийц, отрекся бы он от самодержавия и примкнул бы к революции. И не только примкнул бы сам, но и призвал бы к ней весь русский народ»73. Вл. Соловьев, как говорится, пошел «другим путем» — путем прокламации геокрагической утопии, т. е. соединения (союза) церкви (католической) с русским самодержавием. Другими словами, пишет далее Мережковский, Вл. Соловьев «не понял или недостаточно понял всю неразрешимость антиномии между государством и церковью», не понял, что «единственный путь к царству Божьему, боговластию есть разрушение всех человеческих царств, т. е. величайшая из всех революций»74. Именно в таком понимании задач новой религии, новой церкви, в создании «религиозной общественности», призванной бороться со всеми ликами российского «хамства», и пошел дальше Вл. Соловьева Д. Мережковский.
В докладе «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» (1892) Д. С. Мережковский так описал мировоззренческую ситуацию рубежа веков: «Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимость верить и гак не понимали разумом невозможность верить… Никогда еще пограничная черта науки и веры не была такой резкой и неумолимой, никогда еще глаза людей не испытывали такого невыносимого контраста тени и света»75. Кризис сознания и культуры, по Мережковскому, был вызван кризисом веры и научного знания. Он предложил выход из создавшегося мировоззренческого тупика, определив тем самым начало русского религиозного ренессанса: «Религия еще не культура, но нет культуры без религии»76, — и одним из первых начал поиск новой религии.
Богоискательство Д. С. Мережковского является оригинальной мировоззренческой конструкцией, системой взглядов на мир и на возможности его познания. Оно складывалось постепенно на основе критики исторического христианства как «новое религиозное сознание». В этом смысле оно несомненно религиозно, и его понятийное поле адекватно религиозно-философскому со своим специфическим решением онтологических, гносеологических, антропологических и историософских проблем.
Формирование и оформление онтологических идей Мережковского связано с определением сути и значения категорий религиозной философии — плоти и духа. В христианстве и философском осмысливании его начал утверждается исключительное значение духа и принижение и даже отрицание плоти. В результате идеализм становится «бесплотным». Мережковский предполагает, что оба начала («бездны») — «дух» и «плоть» («небо и земля») — не должны умалять одно другое, а в пределе быть равноправны в создании третьего начала. Н. А. Бердяев в статье «О новом религиозном сознании», посвященной анализу творчества Д. С. Мережковского, пишет: «Мережковский в самом начале своего пути ощутил, мистически почувствовал, что нет спасения в том, чтобы одну бездну принять, а другую отвергнуть… Мережковский понял, что исход из религиозной двойственности, из противоположности двух бездн — неба и земли, духа и плоти, языческой прелести мира и христианского отречения от мира… не в одном из двух, а в третьем: в Трех»77. Вполне естественно философ определился с содержанием понятий «дух» и «плоть», т. е. главных составляющих Троицы. Свои изыскания он провел в «Тайне Трех», где пришел к выводу, что истоки христианской Свя той Троицы следует искать в Самофракийских таинствах, посвященных Кабирам — Святым Богам, в элевсинских мистериях, где поклонение триипостасному богу уже было. У первых это «Отец небесный Зевс, Мать Земля Деметра и сын Земли и Неба, Дионис. И в Елевсинских таинствах те же Трое, только в ином сочетании: Отец Дионис, Мать Деметра и Сын Иакх»78. Другими словами, еще в языческой мифологии существовала триипостасность: «Самофракийские и Елевсинские таинства совершались еще накануне Никейского собора, где исповедан был догмат о Пресвятой Троице. И до наших дней, в каждой христианской церкви, исповедуется в Символе веры открытое людям от начала времен и все еще сокровенная Тайна Трех»79. Раз это так, то нужно вернуться к первоначальному неслиянному единству, но уже в новом диалектическом варианте Третьего Завета. А он у Мережковского гласит: «В Боге Три начала: первое, отрицающее или замыкающее — „огонь закона“, гнев; второе — утверждающее или расширяющее — „веяние тихого ветра“, любовь; и третье, соединяющее два первых. Нет. Да, Да и Нет. -А — Отец. +А — Сын. ±А — Дух»80. Именно Царство Духа делает тождественным два начала — дух и плоть.
Инновация с Духом как тождеством двух противоположностей на этом не заканчивается. Незадолго до революции он высказал идею, что Дух как третье лицо Троицы — это Мать. В романе «14 декабря», говоря о будущем России, он написал: «Не погибнет Россия, спасет Христос и еще Кто-то. Тогда не знал, Кто, — теперь знаю. Радость, подобная ужасу, пронзила сердце, как молния: Россию спасет Мать»81. Эта идея оказалась многообещающей. Как пишет С. П. Бельчевичен, «раскрывая диалектическую взаимосвязь Заветов, русский философ находит, что, противоборствуя Завету Отца, Завет Сына не отменяет последнего, а чудесным образом развивает и дополняет его. Противоречивое единство Заветов имеет своим следствием два результата. С одной стороны, уничтожая друг друга, они способствуют установлению Царства Антихриста. Однако, с другой — между Заветами Отца и Сына выявляется глубинная онтологическая связь, которая делает возможным существование Третьего Завета — Духа-Матери, где и происходит, по мысли Мережковского, согласование первых двух в Царство Божие»82.
Дух-Мать как тайна мира говорит еще об одной тайне, считал Мережковский, — о тайне пола. В поле происходит соединение, «касание к мирам иным»: пол трансцендентен и находится в четвертом измерении. Христианство нс поняло тайну пола, его объединяющее начало. Оно бесполо: «В Троице языческой — Отец, Сын и Мать; в христианской — вместо матери Дух. Сын рождается без матери, как бы вовсе не рождается. Вместо живого откровения — мертвый и умерщвляющий догмат»83. Нужна новая религия, считает Мережковский, в которой противоречий, присущих христианству, не будет.
В новом христианстве нужно по-новому решать проблему пола, Духа и плоти. Философия пола Мережковского ориентирована на решение так называемой Тайны Трех и проблемы «святости пола». Решая первую проблему, философ употребляет присущее его гносеологии понятие «тайна» и пишет специальную работу «Тайна Трех». В ней он утверждает: первая тайна единого Бога Отца и в этом смысле тайна Божественного «я»; вторая тайна — это тайна двух, как отношение между «я» и «не-я»: при этом «не-я» исключает меня, уничтожает меня и уничтожается мною, не касаясь одного пункта — пола. Через пол совершается проникновение одного бытия в другое, «одного тела в меня и моего тела в другое». Отсюда рождение нового существа; в Троице — это рождение Сына. В этом смысле вторая тайна — это тайна пола. А третья тайна — это тайна Святого Духа, т. е. единство трех ипостасей в духе. В конечном итоге — это тайна общества, образ Царства Божьего.
Следующая проблема, связанная с проблемой пола, — разработка понятия «святая плоть». Новое слово Д. С. Мережковского в решении этой проблемы состояло в том, что он изменил ракурс в понимании монистического единства духа и плоти, соответственно и святости. В отличие от исторического христианства, он утверждает новую религиозно-антропологическую парадигму синтеза духа и плоти — святую плоть. Именно святая плоть становится для русского философа основанием новой религии, неохристианства, а также церкви, названной им Церковью Плоти и Крови. Ее идею Мережковский предложил многим друзьям и знакомым, но единства в понимании догматики и процедурных моментов нс получил. Идея «святой плоти» оказалась своеобразной утопией — верой в обожение через пол. Однако она в своем противостоянии историческому христианству выразила одну из сторон философских писаний Серебряного века. Исследовав эту сторону деятельности Д. С. Мережковского и подводя итоги его усилиям внедрить в русскую мысль идею «святой плоти», П. П. Гайденко писала: «…сама идея „освящения плоти“, идея „святой земли“, с помощью которой „новые христиане“ стремились подняться над традиционной православной церковью и преодолеть ту пропасть, что отделяла церковь и светскую культуру, — сама эта идея в сущности была способом освящения именно секулярной культуры, в которой „тело“ уже давно торжествовало победу над „духом“»84.
- 1 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй И Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 212.
- 2 Шестов Л. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. СПб., 1905. С. 232.
- 3 Мережковский Д. С. Поли. собр. соч.: В 17 т. СПб.; М., 1912. Т. 15. С. 244—
- 245.
- 4 Мережковский Д. С. Было и будет: Дневник. СПб., 1915. С. 31.
- 5 Бердяев И. А. Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал «Путь» // Н. А. Бердяев о русской философии: В 2 т. Т. 2. Свердловск, 1991. С. 217—218.
- 6 Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. М., 1996. С. 255.
- 7 Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал «Путь». С. 217.
s Цит. по: Колеров М. А. Нс мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех», 1902—1909. СПб., 1996. С. 48.
- 9 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество: (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи. Екатеринбург, 1991. С. 31.
- 10 Там же.
- 11 Цит. по: Вехи. Свердловск, 1991. С. 7—8.
- 12 Там же. С. 13.
- 13 Там же. С. 24.
- 14 Там же. С. 38.
- 15 Там же. С. 76—77.
- 16 Вехи. Свердловск, 1991. С. 86.
- 17 Там же.
- 18 Там же. С. 109.
- 19 Там же. С. 124.
- 20 Там же. С. 161.
- 21 Там же. С. 158.
- 22 Там же. С. 169.
- 23 Там же. С. 198.
- 24 Из глубины. М., 1990. С. 19.
- 10 Проблемы идеализма. М., 1903. С. XI.
- 25 Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал «Путь». С. 220.
- 26 Бердяев Н. А. Русская религиозная мысль и революция // Версты. 1928. № 3. С. 40, 53.
- 27 Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк, 1956. С. 97—98.
- 28 Степун Ф. Автобиографический очерк // Старые — молодым. Мюнхен, 1960. С. 92.*
- 29 Яковенко Б. В. Тридцать лет русской философии (1900—1929) // Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 851.
- 30 Там же.
- 31 Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. С. 253.
- 32 Бердяев Н. А. Русская идея // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 91.
- 33 Булгакове. И. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 103.
- 34 Там же. С. 228.
- 35 Ермичев А. А. К поискам новой концепции истории русской философии // Философские науки. 1989. № 8. С. 72.
- 36 История философии: Запад — Россия — Восток. Кн. 3. М., 1998. С. 235—
- 254.
- 37 Лосев А. В. Русская философия // Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 73—74.
- 38 См.: Философские науки. 1989. № 8. С. 89.
- 39 Лосев А. Ф. Русская философия. С. 74.
- 4(1 Бердяев Н. А. Русская идея. С. 91.
- 41 Франк С. Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Философские науки. 1990. № 5. С. 90, 91.
- 42 Лосев А. Ф. Русская философия. С. 101.
- 43 Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. С. 258.
- 44 См.: Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. М., 1994. С. 153.
- 45 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М., 1990. С. 62.
- 46 Розанов В. В. О сладчайшем Иисусе и горьких плодах его // Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 426.
- 47 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 30.
- 48 Там же. С. 58, 26—27.
- 49 Там же. С. 31.
- 50 Там же. С. 30.
- 51 Там же. С. 14.
- 52 Розанов В. В. Люди лунного света. М., 1990. С. 31.
- 53 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 129.
- 54 Там же. С. 349.
- 55 Там же. С. 59.
- 56 Розанов В. В. О древнеегипетской красоте // Мир искусства. 1899. № 8. С. 31.
- 57 Розанов В. В. Люди лунного света. С. 32.
- 58 Там же. С. 39.
- 59 Там же. С. 54.
- 60 Там же. С. 55.
- 61 Там же. С. 199.
- 62 Там же. С. 200.
- 63 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2, ч. 2. Л., 1991. С. 57.
- 64 Мережковский Д. С. Поли. собр. соч.: В 24 т. Т. 10. М., 1914. С. 27.
- 65 Там же. С. 169.
- 66 Там же. С. 161.
- 67 Там же. С. 170.
- 68 Мережковский Д. С. Грядущий Хам // Новое время. 1990. № 39. С. 41.
- 69 Там же. С. 42.
- 70 Там же.
- 71 МережковскийД. С. Не мир, но меч: К будущей критике христианства. СПб., 1908. С. 82.
- 72 Мережковский Д. С. Автобиографические заметки // Мережковский Д. С. Поли. собр. соч.: В 24 т. Т. 24. М., 1914. С. 115.
- 73 Мережковский Д. С. Не мир, но меч. С. 79.
- 74 Там же. С. 80.
- 75 Мережковский Д. С. О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы // Поли. собр. соч.: В 24 т. Т. 19—20. С. 244—245.
- 76 Мережковский Д. С. Было и будет: Дневник 1910—1914. СПб., 1915. С. 31.
- 77 Бердяев Н. А. О новом религиозном сознании // Бердяев Н. A. Sub specie aeternitatis. СПб., 1907. С. 344.
- 78 Мережковский Д. С. Тайна Трех. М., 1999. С. 33.
- 79 Там же. С. 34.
- 80 Там же. С. 36.
- 81 Цит. по: Бечьчевичен С. П. Проблема взаимосвязи культуры и религии в философии Д. С. Мережковского. Тверь, 1999. С. 111.
- 82 Там же.
- 83 Мережковский Д. С. Тайна Трех. С. 50—51.
- 84 Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. С. 332.