Литература русской эмиграции. Г. Газданов. В. Набоков
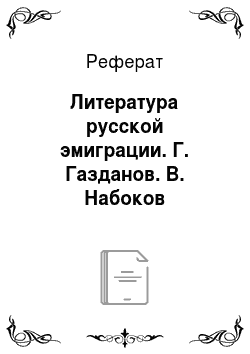
Проза второй волны обогатила литературу эмиграции художественным обобщением явлений советской реальности 1930;х гг., а также личного «опыта выживания» в условиях тоталитарного режима. Среди наиболее известных прозаиков второй волны — Н. Нароков, Л. Ржевский, Б. Филиппов. Особый резонанс в эмигрантских кругах и широкую известность на Западе получил роман Николая Владимировича Нарокова (Марченко… Читать ещё >
Литература русской эмиграции. Г. Газданов. В. Набоков (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война привели к массовому исходу за границу значительной части населения России. Невольными эмигрантами стали, прежде всего, русские люди, оказавшиеся в территориальных пределах Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и других государств, получивших независимость после революции.
Заключение
в марте 1918 г. Советской Россией унизительного для страны мирного договора с Германией и ее союзниками (Брестского мира) автоматически оставило за пределами родины тысячи прежних граждан Российской империи. Не стали возвращаться в Россию многие из военнопленных, оказавшиеся к моменту окончания мировой войны на территории Германии и Австро-Венгрии. Однако большую часть «русского исхода» составили солдаты и офицеры Белой армии, а также те мирные жители (преимущественно из среды интеллигенции), которые сознательно бежали в сопредельные страны от новой политической власти — в надежде переждать там порожденные гражданской войной насилие и анархию.
Так начинался первый — растянувшийся на два десятилетия — этап «русского рассеяния», существования говоривших и мысливших по-русски людей на чужбине, в иноязычной среде, в странах с отличными от русских культурными и общегражданскими традициями[1]. Принятое на сегодняшний день название этого этапа — «первая волна» — возникло в публицистике и мемуаристике русского зарубежья, а потом закрепилось в трудах историков, культурологов и литературоведов.
Поначалу, в 1917—1918 гг., поток беженцев был относительно невелик, но по мере нарастания в стране социального хаоса и усиления «красного террора» масштабы его возросли. Основные маршруты поэтапной эмиграции пролегали через западные и южные регионы прежней империи (города Прибалтики, Киев, Минск, Одесса, Новороссийск, Крым) и — по мере отступления Белой армии и «большевизации» все новых и новых областей — дальше в Турцию, Болгарию, Грецию, а потом в страны Центральной и Западной Европы.
По-настоящему массовый характер «русский исход» приобрел в конце 1918 — первой половине 1919 г., когда одна волна беженцев докатилась через территорию Польши до Берлина, а другая устремилась из Одессы в портовые города Греции и Франции. Еще большего масштаба вынужденная эмиграция достигла в 1920 г. Ее пик пришелся на осень, когда из портов Крыма организованно эвакуировались Русская армия под командованием П. Н. Врангеля (в ее состав по ходу последнего периода гражданской войны влились Добровольческая армия Л. И. Деникина и Донская армия П. Н. Краснова), а также сочувствовавшая Белому движению часть гражданского населения полуострова (многие из этих людей еще недавно бежали в Крым из двух столиц и других городов Центральной России).
Тем временем на Дальнем Востоке в 1920—1922 гг. после разгрома войск адмирала А. В. Колчака, а потом и казачьих забайкальских формирований атамана Г. М. Семенова значительный поток русских беженцев устремился в Маньчжурию — пограничную с Россией китайскую провинцию. Главным центом концентрации русских эмигрантов в Китае стал город Харбин — самый крупный узел КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги, построенной русскими инженерами и рабочими в начале XX в.).
Правительства недавних союзников России (стран Антанты) предоставили эвакуировавшейся из Крыма Русской армии в качестве места дислокации большую пустошь на полуострове Галлиполи (на европейском берегу Дарданелльского пролива, сравнительно недалеко от Стамбула), где поначалу был разбит военный лагерь, а вскоре даже налажена возможная в тех условиях социально-бытовая инфраструктура. В этом месте воинские части готовились к возобновлению «освободительной» борьбы с большевиками, надеясь на новый успешный «поход», однако этим надеждам не суждено было сбыться.
С 1921 г. начинается постепенный переезд отдельных формирований и групп военных в Болгарию, Чехословакию и особенно активно в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (Сербия помнила о том, при каких обстоятельствах Россия была втянута в Первую мировую войну, к тому же король Александр 1 Карагеоргисвич, получивший образование в России, по сути уравнял в правах русских военных с гражданами своей страны). В 1922 — начале 1923 г. после запрета на дислокацию, последовавшего от новообразованного турецкого правительства, большая часть военных эмигрантов покидает Турцию, переправляясь в Европу (главным образом на Балканы и во Францию).
Русская армия оказалась раздробленной, стала утрачивать организационную цельность, распалась на несколько эмигрантских воинских организаций. Самой крупной из них был Русский общевоинский союз (РОВС)[2], имевший разветвленную территориальную структуру и единое руководство, но на практике его подразделения стали походить на объединения «офицеров запаса», поскольку его участники считались находящимися «в отпуске» и вынуждены были адаптироваться к новым социально-бытовым условиям, самостоятельно добывая средства к существованию. Инженеры, механики, шахтеры, разнорабочие фабрик и заводов, обслуживающий персонал гостиниц, портов и вокзалов, таксисты — вот основные варианты вынужденной социализации русского офицерства за рубежом.
Параллельно военной разворачивалась и политическая эмиграция: за границу, спасаясь от смертельной опасности, были вынуждены уехать не только сторонники правых и центристских политических сил, но и активные деятели партий эсеров и меньшевиков — в недавнем прошлом союзники большевиков. За рубежом политическая борьба этих группировок продолжилась, хотя и не получала уже того общественного резонанса, который сопровождал идеологическую полемику на родине в последнее предреволюционное десятилетие. Названия эмигрантских периодических изданий соответствующих партий красноречиво свидетельствовали о масштабе политической дифференциации эмиграции — от монархистов журнала «Двуглавый Орел» (вскоре переименованного в «Вестник Высшего монархического совета») до меньшевиков «Социалистического вестника». Политическая «равнодействующая» общественных движений эмиграции проходила, по свидетельству Г. Струве[3], «правее центра» и была представлена парижской ежедневной газетой «Возрождение».
Складывавшаяся в Европе русская диаспора была озабочена прежде всего проблемой сохранения национальной идентичности, а потому немало усилий было приложено к организации культурно-образовательной инфраструктуры (устройству русских гимназий, кадетских корпусов, пансионов; воссозданию российской практики юбилейных собраний, празднованию памятных годовщин, организации благотворительных вечеров и т.н.). Отличительной чертой «первой волны» русской эмиграции стало доминирующее негативное отношение к практике натурализации: получение гражданства в новой стране проживания расценивалось большинством изгнанников как «предательство» по отношению к России.
В этих обстоятельствах объединительную роль, но отношению ко всему «русскому рассеянию» сыграла русская культура, в особенности — литература русского зарубежья. В эмиграции оказались многие деятели искусства, науки и образования — прославленные художники и композиторы, театральные режиссеры и актеры, изобретатели и мыслители[4]. Однако решающей для судеб «русского мира» за пределами родины стала писательская эмиграция. Покинуть Россию пришлось и бывшим «знаньевцам» И. Бунину, И. Шмелеву, А. Куприну, Б. Зайцеву (а поначалу и М. Горькому, который, впрочем, держался в стороне от эмигрантских писательских кругов), и символистам К. Бальмонту, 3. Гиппиус, А. Ремизову, Д. Мережковскому, и близким акмеизму участникам «Цеха поэтов» Г. Иванову, Н. Оцупу и Г. Адамовичу, и футуристам И. Северянину и Д. Бурлюку.
В этой «направленческой» широте оказавшихся в изгнании писателей проявились и разрушительная агрессия новой власти по отношению к высокой культуре, и принципиальная позиция большинства литераторов, не пожелавших подчинить свое творчество требованиям новой идеологии. По сути дела, эмигрировала — не только в пространственном, но и в хронологическом отношении — целая культурная эпоха «серебряного века»[5]. Хронологическая точка этой эпохе в России была поставлена в 1921 г. смертью А. Блока и расстрелом Н. Гумилева. Следующие два года можно считать временем организационного и эстетического самоопределения писательской эмиграции.
Именно культура конца XIX — начала XX в. стала главной духовной опорой для формирования самого феномена русского зарубежья. Традиционный для российского общества литературоцентризм оказался еще более влиятельным фактором жизни русских за рубежом: само сохранение эмигрантами «русскости» было бы невозможно без опоры на отечественную словесность; русское художественное слово связывало между собой разных по политическим убеждениям и разбросанных по разным странам выходцев из России. В течение нескольких первых лет в эмиграции были воссозданы традиционные формы консолидации литераторов — писательские объединения и кружки, складывавшиеся вокруг признанных мастеров, а также сугубо «русская» практика «толстых» литературно-художественных журналов.
Больше всего русских беженцев было в Германии, славянских странах Европы и во Франции, а главными культурно-географическими центрами «русского рассеяния» стали три европейских столицы — Берлин, Прага и Париж (после 1940 г. ведущую роль в литературном зарубежье начнет играть «русская Америка»), Географически обширную «периферию» русского зарубежья в 1920—1930;е гг. составляли писательские сообщества скандинавских и прибалтийских государств, дальневосточного культурноэкономического островка России в Китае — города Харбина, а также сравнительно небольшие русские «писательские колонии» Бельгии, Великобритании, Греции, Италии, Турции, США и некоторых других стран.
В названиях альманахов, периодических изданий и кружков, возникших в эмиграции, отразились и новизна переживаемой ситуации («Ковчег», «Скит», «Кочевье», «Новый град»), и преемственность культуры зарубежья по отношению к русской традиции. Например, название крупнейшего и самого влиятельного журнала эмиграции «Современные записки»[6] возникло как намеренное лексическое соединение «имен» знаменитых журналов XIX в. — «Современника» и «Отечественных записок». Парижское сообщество «Зеленая лампа», выросшее из еженедельных «воскресений» на квартире Д. Мережковского и 3. Гиппиус, уже своим названием указывало на прямую связь с русской классикой, с деятельностью сообщества литераторов пушкинской эпохи.
Стремление поддержать привычные формы культурной жизни распространялось не только на «дух», но и на «букву» русской традиции: долгое время эмиграция не принимала новой русской орфографии и календарного «нового стиля». Несмотря на то, что сама орфографическая реформа была подготовлена еще до октября 1917 г., во многих эмигрантских изданиях сохранялась старая орфография. Верными прежним орфографическим нормам были не только писатели старшего поколения 3. Гиппиус и И. Бунин, но и «новаторы» В. Набоков (об этом свидетельствуют рукописи его произведений), Б. Поплавский (его стихотворный сборник «Флаги» был издан в 1931 г. в соответствии со старыми орфографическими нормами). Характерным для эмиграции явлением было и параллельное использование юлианского и григорианского календарей: так, например, в газете «Руль» вплоть до 1925 г. давались обе даты.
Каковы же были основные тенденции литературного процесса? Писательское сообщество первой волны эмиграции воспринимало исход из России не столько как путь к физическому спасению, сколько как исполнение особой духовной миссии. Идее строительства «нового мира», возобладавшей в Советской России, была противопоставлена идея хранения извечных основ человечности, стоического приятия испытаний как посланных Богом, нравственного сопротивления планетарному злу.
В качестве первоочередной была воспринята цель сохранения ценностей русской культуры, которые предстояло обязательно передать следующим поколениям соотечественников. От исполнения этой миссии, как считали беженцы, зависела сама перспектива сохранения «русского мира» — важнейшего для судеб всего человечества «культурного материка». В понимании многих писателей эмиграции адресат их «миссионерства» был шире любых национальных и конфессиональных границ. «Мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся»[7], — писал И. Бунин в получившей большой резонанс статье «Миссия русской эмиграции». Отказываясь принимать термин «изгнание», ему вторила 3. Гиппиус, предложившая эмиграции чеканную формулировку: «Мы — не в изгнании, мы — в послании».
Понимание судьбоносности переживаемых «роковых минут» давало культурному ядру зарубежья тот заряд творческой энергии, который позволял преодолевать чувства покинутости, отчаяния и бессильного гнева. Уверенность в нравственной авторитетности своего «слова» — в полном соответствии с национальной духовной традицией — подкреплялась вполне реальными фактами «мученичества», жизненными лишениями, выпавшими на долю экспатриантов. Перед лицом общей (планетарной, как они считали) угрозы писатели эмиграции во многом преодолели прежде существовавшие в их среде идеологические расхождения, постарались встать поверх направленческих «барьеров», разделявших их прежде на «новаторов» и «консерваторов», «реалистов» и «модернистов».
Хотя в массовом сознании русских эмигрантов произошло заметное «поправение», крупнейшие литературно-художественные издания эмиграции, формировавшие облик русской литературы за рубежом, исповедовали умеренные политические взгляды и, главное, придерживались, насколько это было возможно, принципов «беспартийности» в отборе литературных произведений. Если в эпоху «серебряного века» литературный процесс в России в немалой степени определялся противостоянием реализма и модернизма, то в эмиграции эта оппозиция оказалась во многом снятой. Внешне это проявилось прежде всего в перераспределении писательских сил по отношению к газетно-журнальной периодике. Прежде казавшееся невозможным соседство на страницах какого-нибудь журнала произведений 3. Гиппиус и И. Бунина, К. Бальмонта и И. Шмелева теперь стало вполне привычным.
Важнейшей содержательной категорией литературы «первой волны» стала категория памяти. На фоне параллельно развивавшейся советской литературы поэзия и проза зарубежья были намного более персоналистичны, обращены к миру личности. Соотношение конкретно-исторических и общечеловеческих, «бытовых» и «бытийных» вопросов в творчестве эмигрантов в большинстве случаев складывалось в пользу последних. Описательность уступала место лирико-философским обобщениям, социальнопсихологический детерминизм — рассмотрению человека в контексте вечных «радостей и скорбей». Вытеснение конкретно-исторических принципов письма мифопоэтическими особенно заметно в зарубежном творчестве писателей, до революции предпочитавших жизнеподобные формы литературы условным, любивших бытовую конкретность, материальную «фактурность» изображения (И. Бунин, А. Куприн, И. Шмелев).
Сам статус «объективной», не зависящей от восприятия человека реальности был решительно пересмотрен вчерашними «реалистами», сблизившимися — подчас неосознанно — с былыми оппонеитами-символистами. Стремление сквозь «морок» повседневности, сквозь гримасы падшего мира прозреть «изначальное», вера в подлинность своей интуиции, умение не столько видеть, сколько «думать глазами»[8], поэтизация чувственно-прозорливого мышления — все эти общие особенности существенно размыли прежние расхождения теоретиков и практиков реализма и модернизма.
Известная стилевая «солидарность» первой волны эмиграции проявилась и в господствовавшем неприятии авангардных форм литературного творчества. Если для советской литературы 1920—1930;х гг. поэзия М. Цветаевой была неприемлемой прежде всего по идеологическим причинам, то для русских «берлинцев» и «парижан» нарушением эстетической «нормы» казалась ее стилевая «революционность», в которой большинство эмигрантов усматривали (и справедливо) переклички с творческой практикой «советских» В. Маяковского и Б. Пастернака. В целом прохладным у эмигрантов было отношение к «неклассическим» формам прозы, получившим развитие в творчестве советских писателей 1920;х гг.
Линии внутреннего размежевания в литературе «первой волны» существовали, но связаны они были не столько с принципами «отражения реальности» или ее «сотворения» в процессе творчества (гак можно схематически обозначить позиции реалистов и модернистов), сколько с разными реакциями на саму «ситуацию изгнания» и с разными оценками перспектив творчества на чужбине. Иными словами, эмигранты-писатели могли расходиться в том, какие духовные ценности становились для них главным импульсом к творчеству, и в том, как они оценивали возможную результативность своей деятельности. В этом отношении существенная разница заметна в позициях старшего и младшего поколений «первой волны», а также в творческих программах В. Ходасевича и Г. Адамовича — двух самых влиятельных литературных критиков зарубежья (первый из них отстаивал идею о том, что именно эмиграция создает «идеальные» условия для творчества; второй считал, что в отрыве от родины литература неизбежно оскудеет, что изгнание обрекает писателей на «муки немоты»).
Для многих крупных писателей старшего поколения главной мировоззренческой опорой творчества в эмиграции стали ценности традиционной веры — прежде всего, культура русского православия. Так, например, главной темой грех биографических романов Б. Зайцева стали религиозные искания В. Жуковского, И. Тургенева и А. Чехова[9]. В первом из этих романов подлинным религиозным визионером предстает поэт-романтик, обладавший, по словам автора, глубоким чувством «мира духа и света, исход в который не только не горе, но радость». Не только у Жуковского, но и у религиозных агностиков Тургенева и Чехова автор обнаруживает веру в реальность сверхчувственного мира, находит в их творчестве глубокие религиозные корни. Воплощением идеала православной духовности для Зайцева стал главный герой повести «Преподобный Сергий Радонежский» (1925). Путь к Богу человека XX в. — тема самого крупного произведения писателя, автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба» (1937;1953).
В еще большей степени православным мировидением пронизаны лучшие эмигрантские произведения И. Шмелева «Лето Господне» (1927—1948) и «Богомолье» (1931). В отличие от Зайцева Шмелев много писал о «бытовом благочестии», о праведниках незнатных, «неизвестных». Постоянный в поздней прозе Шмелева мотив всеединства «тварной природы» — людей, растений, животных — придает его произведениям черты идилличности, умильной просветленности. Все в мире Шмелева чувствует, дышит, живет, и потому отменяется трагизм, связанный с конечностью индивидуального существования. Хотя жизненный круг отдельного существа размыкается смертью, Божий мир стабилен и вечен, а главное — исполнен высокого смысла, гарантированного интуицией о воскресении. Критик Г. Адамович назвал шмелевское творчество «скрытой, приглушенно-страстной борьбой за прошлое». Исчезнувшая как будто навсегда и даже утратившая свое имя Россия в прозе писателя воскресает и приобщается к вечности.
Это устремление — к информативной реставрации былого, и, что еще важнее, к его мифопоэтическому «воскрешению словом» — было свойственно большей части писателей старшего эмигрантского поколения. Одно из центральных мест в общей жанрово-родовой системе литературы «первой волны» заняли различные виды мемуаристики (наибольшее распространение получили жанры автобиографического романа, дневника, мемуарного эссе, литературного портрета, «комментариев»). Помимо уже указанных произведений И. Шмелева и Б. Зайцева, заметным явлением в литературе «первой волны» эмиграции стали романы И. Бунина «Жизнь Арсеньева» (1927—1933) и А. Куприна «Юнкера» (1932), «автобиографическое повествование» М. Осоргина «Времена» (1955), мемуары 3. Гиппиус «Живые лица» (1925) и В. Ходасевича «Некрополь» (1939), а также серия книгА. Ремизова — «Взвихренная Русь» (1927), «Подстриженными глазами» (1951), «Иверень» (1981), «Мышкина дудочка» (1953) «Учитель музыки» (1983) и др.
«Взвихренная Русь» была названа многими современниками Ремизова лучшей книгой о революции и гражданской войне. Она создавалась, как и многие другие ремизовские книги, на основе дневниковых записей 1917—1921 гг. Стилевой строй книги определяется мотивом «взвихрснности»: лирические монологи, авторский «плач по России» перемежаются наплывами образов кроваво-ледяного революционного вихря. Мотивы метели и снежных вихрей у Ремизова воплощают авторскую концепцию трагической истории Руси — гибели России Имперской и появления России Советской. Называя поэму А. Блока «Двенадцать» «вихревой песней взбаламутившейся вздыбившейся России», Ремизов словно говорит и о своей книге.
«Взвихренная Русь» — роман-коллаж[10], фрагменты которого сливаются в спонтанный поток литературных, философских, исторических и сновидческих ассоциаций автора, которые, в свою очередь, перемежаются сказками, легендами, апокрифами, стилизациями памятников древнерусской литературы. Авторское воображение будто «воскрешает» образы писателей-современников, оставшихся погибать в Советской России — А. Блока, А. Белого, М. Кузмина, Б. Пильняка, В. Розанова, Н. Гумилева и др., превращая их в героев своеобразного романа-реквиема.
С важнейшей для всей литературы эмиграции категорией памяти связано и бурное развитие исторической прозы. Прежде всего писателей, разумеется, привлекало недавнее прошлое России, последние десятилетия перед катастрофическими событиями 1917 г., однако понять их можно было, только обратившись к истокам — к зарождению современных конфликтов в древней и новой истории, к драматическим сюжетам становления российской государственности и кульминационным моментам европейской истории.
С точки зрения концептуальной емкости наиболее интересны в литературе «первой волны» историко-философские книги Д. Мережковского («Наполеон» (1929), «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» (1925), «Мессия» (1925), «Тайна Запада. Атлантида — Европа» (1930), «Иисус Неизвестный» (1932—1934) и др.), а также серия романов и повестей М. Алданова, в рамках которой сложились два самостоятельных тематических цикла. Одна группа произведений Марка Александровича Алданова (1886—1957) объединена общим названием «Мыслитель» и воспроизводит европейские события конца XVIII — начала XIX в., последовавшие за французской революцией 1789 г. (в эту тетралогию входят романы: «Девятое термидора», 1923; «Чертов мост», 1925; «Заговор», 1927; повесть «Святая Елена, маленький остров», 1923). Другой цикл произведений посвящен истории русской революции (трилогия «Ключ», 1930; «Бегство», 1932; «Пещера», 1934—1936), а также два объемных романа, написанных уже за хронологическими пределами «первой волны», в 1950;е гг., — «Истоки» (1950) и «Самоубийство» (1956). В то время как Мережковский рассматривал историю под знаком неуклонного движения человечества к Апокалипсису, Алданов отказывался видеть в историческом процессе какой бы то ни было цельный «сюжет», считая конкретные события результатом случайного стечения обстоятельств. Показательно, тем не менее, что оба писателя-эмигранта крайне скептически относились к влиятельной прежде концепции «исторического прогресса».
Отношение к истории как к враждебной человеку стихии и даже сознательный антиисторизм — общая мировоззренческая черта большинства писателей «первой волны». «Дух времени», «наше время» — эти публицистические штампы быстро стали непопулярными даже в газетных очерках и эссе. В условиях эмиграции трансформировалось само представление о времени[11]. Писатель-эмигрант чувствовал себя один на один с небом, с вечностью, поэтому закономерным было его обращение к «последним сущностям», к «проклятым вопросам». Именно в литературе русского зарубежья нашло предельное выражение экзистенциальное сознание человека XX в.
Этот вариант мировидения получил в литературе эмиграции еще большее распространение, чем тяготение к православной духовности. Ретроспективный утопизм религиозных писателей и мыслителей старшего поколения, при всей его привлекательности для измученных изгнанием эмигрантов, был все же неприемлем для многих «детей» «серебряного века». Если старшее поколение писателей еще могло, по словам критика В. Варшавского, участвовать «в круговой поруке священных общеэмигрантских воспоминаний»[12], то среднее и в особенности младшее поколение эмиграции (писатели, дебютировавшие в литературе, соответственно, в 1910;е гг. или уже в период зарубежного «безвременья») опиралось в своем творчестве на личным опытом оплаченные и своей, пока еще недолгой, жизнью взращенные истины.
Героем экзистенциальной ветви эмигрантской литературы стал человек «вообще», личность, лишенная социальной и этнокультурной конкретности. Вот что писал о персонажах молодых писателей зарубежья (Б. Поплавского, С. Шаршуна, Ю. Фельзсна, Г. Газданова) В. Варшавский: «Это действительно как бы „голый“ человек, и на нем нет „ни кожи от зверя, ни шерсти от овцы“… В социальном смысле он находится в пустоте, нигде и ни в каком времени, как бы выброшен из общего социального мира и предоставлен самому себе»[13].
Поэт и критик Г. Адамович обобщил творческие принципы литераторов, разделявших такую позицию, «лирическим» термином «парижская нота» (по большей части это были авторы, жившие в Париже). «Литература возникает в „темном погребе личности“, в вопросительно-лирических сомнениях, в тревоге, в мучениях, в безотчетной любви и уж конечно без барабанного боя»[14], — писал он в одной из заметок, вошедшей позднее в книгу литературно-критической эссеистики «Комментарии». Примером подлинной литературы он считал творчество И. Анненского, называя этого «старшего» символиста «единственно возможным, вместе с Блоком, претендентом на русский поэтический трон со смерти Тютчева и Некрасова»[15].
Главной для Адамовича мировоззренческой проблемой стала (как это было прежде у И. Анненского) проблема «оправдания творчества», поиска этической опоры, позволявшей заниматься «эстетикой» в обстановке социально-исторической катастрофы. Резко отвергая «обольщение бальмонтовщиной во всех ее видах», то есть увлечение формальными поисками в искусстве, Адамович выдвинул требование литературного аскетизма и предельной искренности самовыражения. В сфере человеческих эмоций критик больше всего ценил чувство «круговой поруки» перед лицом «слепых судеб», трагической солидарности с обездоленными и умирающими. Состав тяготевших к «парижской ноте» литераторов был непостоянен и, по признанию самого критика, случаен, поэтому соответствующего литературного течения или даже «школы» с более или менее определенными творческими принципами не возникло.
Заметнее всего эмоциональные и стилевые веяния «парижской ноты» сказались в поэзии А. Штейгера и Л. Червинской, хотя близость этому комплексу настроений просматривается у большинства молодых поэтов первой волны, печатавшихся в парижском журнале «Числа» (Д. Кнут, Ю. Иваск, Р. Блох и др.). Акцент на гибельности и призрачности мира, пафос экзистенциального отчаяния, проповедь самоотречения, стремление к поэтическому «минимализму» (антиметафоризм, противостояние «громкости», дневниковая манера выражения, тяготение к форме незавершенного фрагмента, вплоть до обрыва стиха па полуслове) — вот наиболее общие особенности этой поэзии. Особенно выразительно настроения «парижской ноты» прозвучали в поэзии Г. Иванова.
Георгий Владимирович Иванов (1984—1958) получил начальную поэтическую известность в предреволюционное десятилетие. В 1912 г. он стал участником «Цеха поэтов», а первый сборник стихов «Отплытие на о. Цитеру» выпустил в том же году в футуристическом издательстве «Ego». На первых порах испытывал влияние М. Кузмина, Н. Гумилева, И. Северянина: многие его ранние стихи, опубликованные в сборниках «Горница» (1914), «Вереск» (1916), «Сады» (1921), производят впечатление вторичности. Доэмигрантская репутация Г. Иванова строится на представлениях о поэте, стремящемся к элегантности формы, широте культурных ассоциаций и сбалансированности выражаемых эмоций. Вниманием к «мирам искусства» и к формальной отделке произведений Иванов в это время близок теоретическим положениям акмеистов. В его раннем поэтическом мире будто существует запрет на сильные эмоции, а материалом для поэтического высказывания, как правило, становятся «изысканные» культурно-бытовые впечатления. Эстетизм, рафинированность, «живописность», обилие цитат и реминисценций — вот главные слагаемые его стиля.
В 1922 г. Г. Иванов эмигрировал, сначала ненадолго обосновавшись в Берлине, а потом переехав в Париж. В 1931 г. он выпустил сборник «Розы»,
составленный из стихов, написанных уже в эмиграции. В этой и последовавших за ней книгах стихов будто произошло «второе рождение» поэта: во многом изменился мотивпо-тематический состав лирики, а главное — существенно поменялась ее общая тональность. Теперь поэзия приобретает откровенно исповедальный характер, причем на первый план выходят трагедийно окрашенные эмоции — холодное отчаяние, убийственная самоирония, чувство безнадежности.
Если прежде Иванова в поэзии привлекали «изысканные» слова и театрально-живописные эффекты, то после пережитой всеми эмигрантами утраты его лирического героя заботит разве что одна проблема — проблема смерти. Умирание становится для его героя единственной «бытийной» реальностью, а конкретные стихи выглядят как вереница «прощаний» — со всем тем, что раньше определяло смысл существования, а теперь обнаружило свою условность, эфемерность, «невзаправдашность».
На смену живописным пейзажам и экзотической лексике приходят аскетический пейзажный фон (с явным доминированием синего или «синеватого», белого и черного тонов), лексические повторы (будто предсмертное «бормотание» последних оставшихся слов) и недовершенные синтаксические конструкции. Вот характерный пример ивановского поэтического высказывания:
Стоят сады в сияньи белоснежном, И ветер шелестит дыханьем влажным.
— Поговорим с тобой о самом важном, О самом страшном и о самом нежном, Поговорим с тобой о неизбежном:
Ты прожил жизнь, ее нс замечая, Бессмысленно мечтая и скучая —.
Вот, наконец, кончается и это…
Я слушаю его, не отвечая.
Да он, конечно, и не ждет ответа.
«Стоят сады в сияньи белоснежном…», 1953.
Стихотворение практически лишено изобразительности, лишь в первом двустишии задан образ белоснежного сияния садов: сила света (последнего, предсмертного) делает ненужными линии, контуры вещей. Почти неосязаемый шелест ветра — будто финальное дуновение жизни — становится мотивировкой воображаемого «диалога», оборачивающегося монологом. Гамлетовское «быть или не быть» решительно отметается как фальшивая театральная условность. Приближающееся «небытие» лишает смысла какой бы то ни было «ответ», тем более что в переданном «разговоре», но сути дела, не было и вопроса. «Важное» в стихотворении — контекстуальный синоним «неизбежного», а «страшное» — лексический спутник «нежного», так что все оттенки значений сливаются в общем образе умирания, а все эмоции капитулируют перед этой «последней правдой».
В двух центральных трехстишиях проявилось то, что так ценили в поэзии Иванова литераторы «парижской ноты», что делало его в их глазах.
«первым поэтом эмиграции» и что, вероятно, обусловило само название группировки, — «минималистская» и оттого особенно выразительная инструментовка. В составе гласных звуков «солирующие» роли принадлежат «о» и «а», причем частотность и спонтанная «незапланированное™» этих звуков придает им статус междометий — последних звуковых ручейков кончающейся жизни. Строй согласных аккомпанирует этой идее: шипящие «ж», «ш», а потом, в соответствии с логикой иссякания и замирания, «ч» — становятся последними акустическими «всполохами» перед раскрывающейся пустотой.
Писателям младшего поколения эмиграции в целом была близка позиция Г. Иванова, хотя некоторые из них сумели избежать мировоззренческой безнадежности, присущей его поздним произведениям. Это поколение было представлено именами В. Набокова, Г. Газданова Н. Берберовой, Б. Поилавского, В. Яновского, Ю. Фельзена, С. Шаршуна, И. Болдырева и других писателей, чье творческое становление приходится на вторую половину 1920;х гг. В отличие от своих старших собратьев И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева «младоэмигранты» пришли в литературу в пору расцвета европейского модернизма и, помимо естественной опоры на традиции русской классики, активно усваивали творческий опыт западноевропейских мастеров (М. Пруста, Ф. Кафки, Дж. Джойса и др.).
В повороте к новым эстетическим ориентирам сыграло роль не только поколенческое стремление дистанцироваться от влиятельных «стариков», жажда потягаться с ними силами на равных, но — в еще большей степени — желание обрести язык для выражения экзистенциального сознания. Отношение к художническому сознанию как высшей инстанции в сфере творчества, намеренный отказ от поэтизации волевых свершений в пользу созерцания, разрыв с традицией отражения реальности во имя ее субъективного «присвоения» — вот фундаментальные особенности эстетики эмигрантской молодежи, ярко проявившиеся в творчестве Г. Газданова.
Гайто (Георгий Иванович) Газданов (1903—1971) дебютировал как писатель в 1926 г. Его дописательская биография вместила в себя детские годы в России, учебу в кадетском корпусе, участие в гражданской войне в составе Добровольческой армии, а потом калейдоскоп «чужих городов» и вереницу профессий (портовый грузчик, мойщик в локомотивном депо, сверлильщик на автозаводе, частный репетитор по русскому и французскому языкам, наконец, уже в 1930;е гг., таксист). Разнообразный жизненный опыт напрямую отразился в творчестве Газданова: в его прозе неизменно просматривается опора на автобиографический материал, а широта представленных в ней людских типов и житейских ситуаций придает произведениям характер «свободных романов», напоминает «собранье пестрых глав».
Газданов — выразитель экзистенциального сознания своего поколения, герой его прозы ищет ответа на «проклятые» вопросы — о том, имеет ли смысл жить, а точнее, выживать в ситуации отчуждения от мира. Большая часть романов построена как «история болезни» молодого эмигранта, лишенного традиционных опор и стимулов к жизни (родины, семьи, профессионального призвания) и пытающегося обрести «точку опоры» в своем внутреннем «лирическом» мире. Внешние условия существования в эмиграции нередко приводят газдановского героя к тому, что смерть перестает восприниматься им как ошеломляющее прозрение или как трагическое откровение, толкающее к радикальным поступкам. Однако сила человеческого духа, как показывает Газданов, не в истерическом бунте, а в том, чтобы продолжать «тешить себя иллюзиями», окружать себя грезами — при ясном понимании того, что трагическая неизбежность смерти не отменяет — до последнего вздоха — художественной притягательности «невозможного».
Именно такой типично «романтический» конфликт — конфликт мечты и реальности — положен в основу сюжета первого романа Г. Газданова «Венер у Клэр» (1930), принесшего ему славу одного из лучших молодых писателей зарубежья. Главный герой произведения, русский эмигрант Николай Соседов, живущий в Париже, рассказывает о веренице встреч с его давней знакомой — француженкой Клэр. Их отношения достигают кульминации в один из вечеров, описание которого дано в самом начале произведения. В сюжетно-событийном отношении это финальная граница рассказанной истории. Однако в книге Газданова это не конец, а начало «лирического сюжета»: именно вечер финального сближения героев дает толчок потоку воспоминаний, охватывающему десять лет. Десять лет тому назад в России произошла первая встреча Николая и Клэр, но вскоре девушка вышла замуж за другого. Николай вступил в Белую армию, после ее разгрома эмигрировал в Константинополь, позднее попал в Париж, где спустя годы вновь встретил свою первую любовь.
Бодрствуя ночыо в кровати Клэр, герой осознает, что воплощение в жизнь гимназической мечты не принесло ему ожидаемого счастья. На протяжении десяти лет именно обладание Клэр казалось герою тем событием, которое может наполнить смыслом его жизнь. Но, осуществившись в реальности, мечта оборачивается утраченной иллюзией. Принципиально важно, однако, что последние страницы романа посвящены не финальной фабульной сцене, но середине «эмоционального путешествия» героя и, соответственно, центральным образам его сознания. Роман завершается на высокой лирической ноте: покинувший «берега России» герой плывет «в морском сумраке к неведомому городу», и все его внимание поглощено мечтой о «будущей встрече с Клэр»: «…Только звук колокола соединял в медленной стеклянной свой прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр…».
Ожидаемое читателем композиционное «кольцо» оказывается разомкнутым, преобразованным в бесконечно раскручивающуюся спираль; отношения мечты и реальности не получают итогового иерархического закрепления; потенциальный драматизм «разуверений» нейтрализуется лирической выразительностью «сна о Клэр». Рассказ о «встрече» с Клэр, в равной мере уже произошедшей (в реально-историческом пространстве) и еще только долженствующей произойти (в пространстве метаисторическом), свершившейся и бесконечно свершающейся, — этот рассказ формирует образ «двойного бытия» героя-повествователя.
Именно сокровенная жизнь индивидуального сознания, или, как называет ее герой-повествователь, «второе существование», составляет пространство лирического поиска, организующего повествование. Главное качество сознания повествователя — стремление к волнующему тайному знанию, точнее говоря, к максимально точному образному выражению того, что как будто изначально присутствует в тайниках его подсознания. Герой постоянно пытается назвать «неназываемое», передать словами то, что существует в его душе в невербальном состоянии, одним словом, образно воплотить свою лирическую интуицию о мире.
При этом предметный слой воспоминаний сильно ретушируется, затуманивается, а на первый план выходит лирическая интонация — ностальгическая интонация утраты. Необычное обаяние газдановского стиля во многом связано с эстетизацией неопределенности, с плавным повышением или понижением степени визуальной проявленности и шкалы акустической отчетливости образов, что соотносится со вспышками памяти или, напротив, с приливами душевной усталости. В романе вновь и вновь тонко интонируется чувство светлой любви — не столько к женщине, сколько к своей мечте о ней. Все и вся в книге — образы людей, зарисовки быта, частные вкусовые замечания — оказывается для повествователя лишь поводом к возврату «фантазии в ее излюбленные места». «Возврат» — главная форма композиционной «склейки» фрагментов. В визионерских наплывах постоянно присутствует один и тот же комплекс зрительных и звуковых атрибутов, сопровождающих постепенно проступающий в романе портрет Клэр. Героиня в романе Газданова лишена каких-либо примет социальности или психологической определенности. Она — центр символической вселенной, созданной памятью и интуицией повествователя, еще одно образное воплощение мифологемы Вечной Женственности, столь значимой в искусстве «серебряного века».
Принцип «двойного бытия», мотивы бездомности, ментального путешествия, «чужой судьбы», доставшейся герою «по ошибке времени», «сомнамбулическая» композиция, — все эти проявившиеся в первом романе Газданова стилевые особенности получили закрепление в его последующих произведениях (среди них — восемь романов и около трех десятков рассказов). Разные, но использованному в них материалу, объему и конкретным стилевым решениям, они почти всегда, тем не менее, содержат ключевую оппозицию «фактического» и «истинного» и часто строятся на поисках героями — сквозь ошибки и отклонения случайного стечения обстоятельств — своей «подлинной» судьбы.
Итогового авторского суждения о жизни в романах Газданова не найти. Писатель экзистенциального сознания, он принципиально избегает однозначных решений. «Я, к сожалению, не верю в Бога, и у меня так же нет утешения, как и у вас», — эти слова повествователя из рассказа «Бомбей» (1938), повествователя, видящего над собой «огромное и пустое небо», мог бы произнести и автор произведения. Сам акт писательства для Газданова — средство отгородиться от смысловой пустоты земных пространств, от «призрака смерти». «…Всякий раз, когда я остаюсь совершенно один и со мной нет… этих ровных листов бумаги, на которых я пишу, я… чувсгвую рядом с собой… призрак чьей-то чужой и неотвратимой смерти» («Ночные дороги», 1941). Время последнего, «смертельного путешествия» в мире Газданова — момент отрешения от памяти: «И когда я забуду все, что я любил, тогда я умру» («Вечер у Клэр»).
Однако были в молодом поколении эмиграции и писатели, отстаивавшие идею внутренней свободы художника от гибельных влияний эпохи. Тотальная сосредоточенность на творчестве, признание самоценности искусства, обращение к эстетическим ресурсам русской и мировой классики — подобная позиция оказалась наиболее перспективной для сознания, лишенного религиозных или общественно-сакральных опор. Персональное видение мира в его живом разнообразии, отказ от генерализации во имя изощренной точности в передаче эстетических реакций на частное и дискретное — таков мировоззренческий фундамент писателей, эстетически близких крупнейшему литературному критику и поэту русского зарубежья В. Ходасевичу.
Хотя В. Ходасевич, как и его постоянный оппонент Г. Адамович, не создал «школы» или даже литературной группировки, последовательная защита им «пушкинских» принципов «тайной свободы» и формального совершенства произведений особенно результативно повлияла на творчество В. Набокова — самого яркого из писателей младшего поколения эмиграции.
Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) опубликовал свое первое ученическое стихотворение в журнале Тенишевского училища в Петербурге («Осень», 1915), но по-настоящему уверенно вошел в русскую литературу во второй половине 1920;х — начале 1930;х гг., когда в эмигрантской периодике и издательствах появились его первые рассказы и романы «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1929), «Подвиг» (1930).
В эмиграции Набоков оказался в 1919 г. Первый период его творчества охватывает 1920—1930;е гг. (в это время писатель публиковал свои произведения иод псевдонимом «Сирин», а жил главным образом в Берлине и Париже); второй связан с жизнью в США и занимает 1940—1950;е гг.; третий развернулся в 1960—1970;е гг., когда уже признанный в качестве мировой величины автор «Лолиты» (1955) поселился в швейцарском городе Монтрё. Уникальность «феномена Набокова» связана с его причастностью истории двух национальных литератур — не только русской, но и американской.
Как поэт Набоков сформировался под влиянием В. Ходасевича; его русская лирика соотносится с неоклассической, традиционалистской тенденцией в поэзии XX в. Содержательная доминанта стихотворений Набокова — тема потусторонности, ощущение иного мира, которое передается с опорой на традиции Ф. Тютчева и русских символистов.
Ядро художественного наследия Набокова составили романы — ведущий жанр его творчества. В целом эволюция прозы писателя была связана с усвоением и переработкой поэтики русского «серебряного века»: наиболее интенсивно обновлялись глубинные компоненты стиля — не столько сюжетно-фабульные связи или образный строй, сколько субъектная организация, ритмика, фонетическая ткань текста. Один из постоянных приемов Набокова — принцип мотивно-звукового «узора», служащего композиционной «матрицей» текста (этот прием был впервые продемонстрирован в рассказе «Путеводитель по Берлину», 1925 г.).
Ведущие тематические компоненты творчества Набокова — мотивы «утраченного рая» детства (а вместе с ним — расставания с родиной, родными культурой, языком), драматических отношений между иллюзией и действительностью, а также высшей по отношению к земному существованию реальности (метафизический мотив «потусторонности»). Предметный мир произведений нередко более важен для понимания авторской позиции, чем собственно сюжет. Художественная оптика Набокова обеспечивает «призматическое» видение деталей. В поле зрения персонажа попадает и то, что ему самому кажется единственно важным, и то, по чему его глаз невнимательно скользит, но что в авторской повествовательной перспективе окажется решающим для судьбы персонажа и для смыслового итога книги.
Проблемно-тематическая константа романов Набокова — сознание постигающего и тем самым творчески пересоздающего (или искажающего) мир субъекта. По ходу развития писательской карьеры варьировался конкретный тематический материал, но сохранялась установка на исследование творческих возможностей и тупиков человеческого сознания. Это сознание в прозе Набокова неустанно пытается поставить реальность под контроль, навязать жизни свой «сценарий» или воплотить собственное представление о мире, то есть стремится ограничить его собой, сделать полностью подвластным индивидуальной воле. В большинстве случаев героя с таким типом сознания ждет поражение или житейская катастрофа. Так происходит, например, в романах «Защита Лужина» (1929), «Отчаяние» (1934) и «Лолита» (1955).
«Защита Лужина» открывается мотивом именования героя: родители сообщают мальчику, что вскоре ему предстоит посещать школу, где его будут называть, но фамилии. Однако на протяжении всей жизни Лужин будет последовательно уклоняться от исполнения «нормальных» человеческих ролей — ученика, сына, мужа — принося все это в жертву тому, что станет для него единственно значимой реальностью — шахматной игре. Неслучайна в этой связи и безымянность персонажа на протяжении всего повествования: имя и отчество «Александр Иванович» — как знак социализации — будут произнесены, когда его самого уже не будет на свете. Этот прием сигнализирует о том, что полного воплощения героя в «нормальную» жизнь, в «коммунальную» реальность так и не произошло.
Сам Лужин только и делает, что пытается убежать от навязываемого ему общения, спастись от непредсказуемой своим хаосом реальности. И кажется, сама судьба идет ему навстречу, помогая обрести восхитительную «защиту» от социальной жизни, найти изолированную от нее сферу свободного творческого самопроявления. Лужин живет почти исключительно в мире шахматных ассоциаций; автор же рассказывает о герое, постоянно прибегая к использованию «шахматного кода».
Примеров «шахматоцентризма» как ведущей черты сознания Лужина в романе множество. Таков, например, «ладейный» мотив — один из компонентов общего шахматного «тематического узора» книги. В первый раз этот мотив звучит, когда герой еще ничего не знает о шахматах: сообщается, что маленький Лужин боится выстрелов петропавловской пушки и во время прогулок «путем незаметных маневров» уводит гувернантку «подальше от пушек», на Невский проспект. Образ ладьи неявно присутствует в подробностях пейзажного фона (например, в упоминаниях о многочисленных тумбах, попадающихся Лужину в его прогулках по городу или вокруг отеля на курорте). Внешние ассоциации с этой фигурой проникают даже в воспоминания героя о пасхальной трапезе: «остаток сливочной пасхи», к которой больше всего тянет Лужина, представлен как «приземистая пирамидка с сероватым налетом на круглой макушке». Наконец, по роковому совпадению в фамилии могущественного шахматного оппонента Лужина (Турати) мерцают синонимы «ладьи» и «войска».
Еще важнее восприятие Лужиным собственной жизни как шахматной партии. Чего стоят, например, робкие попытки героя объясниться в любви будущей жене: он начинает издалека, окольным путем, с малозначащих проговорок, которые сам уподобляет «тихим ходам» шахматиста. Шахматы были восприняты Лужиным как царство умопостигаемой гармонии, противоположное видимому хаосу окружающей жизни, как главная и неуязвимая «защита» против грубых уколов социальной действительности.
Но долго так продолжаться не может. Когда после смерти отца от шахматиста уходит и его антрепренер, оставляя повзрослевшего вундеркинда один на один с реальностью, конфликт между шахматами и жизнью разрастается, приводя Лужина в конце концов к нервному переутомлению. Причина болезни Лужина — несбыточная попытка «перевести» события и факты внешней реальности на язык шахматной нотации и тем самым предсказать течение собственной жизни, в буквальном смысле преобразовать жизнь в шахматную партию и тем самым присвоить ее, сделать ее полностью подконтрольной своей творческой воле.
Но герой оказывается неспособным предвидеть все новые и новые каверзы противостоящей ему действительности, которую интерпретирует как некоего могущественного шахматного игрока. Предельным напряжением памяти и внимания Лужин пытается собрать воедино фрагменты гигантской жизненной мозаики, которая, как он надеется, раскроет ему глаза на смысл затеваемой против него комбинации. Однако его внутритекстовая компетенция неабсолютна, в его знаниях об окружающем мире остаются неустранимые белые пятна.
Лужин догадывается о комбинациях «противника» и пытается перехитрить его, сделать собственный, отсутствующий в замысле «судьбы» ход. Но он не знает «языка» этого противника, не знает высших по отношению к шахматам «правил игры». По сути дела он играет против своего создателя. Иначе говоря, «шахматист» соперничает с «поэтом». В одном из эпизодов романа запись ходов, ведущаяся игроками, названа «шахматными нотами». Можно увидеть в этом сравнении авторское указание на главный принцип построения текста: шахматные образы функционально сближены со словесными лейтмотивами, а подача шахматного материала романа регулируется наложенным на сюжет «музыкальным» ритмом.
Каков же смысловой итог «Защиты Лужина»? Главная ошибка героя романа, роковой изъян его мышления — неразличение игры и жизни. Пытаясь перенести законы шахмат на внешахматную реальность, герой теряет статус творца. Мир шахматного творчества требует от него последовательно «пожертвовать» ближайшим человеческим окружением (отгородиться от сверстников, забыть о родителях, не замечать жены). Но и альтернативный вариант существования (погружение в семейную жизнь, овладение «нормальной» профессией) вынуждает его заплатить непомерно большую цену — отказаться от творчества и, по сути, перестать быть самим собой, шахматистом Лужиным. Трагический финал романа — капитуляция героя-короля. По правилам шахматной игры короля нельзя убрать с доски: следует опрокинуть фигуру, заставив ее упасть на плоские квадраты игрового поля. Кажется, так и происходит в финале романа: сквозь «квадратную ночь» окна, отпустив руки, державшиеся за «нижний край ночи», герой падает — падает туда, где «вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты».
В «Защите Лужина» итоговое поражение героя одновременно означает победу создателя его образа — автора. Лужин как завершенный, окончательно воплощенный образ талантливого шахматиста остается в рамках книги — искусно ограниченной вселенной, надежно дистанцированной от внехудожественной реальности. В этом смысле именно автор романа, Сирии-Набоков, дарует своему герою Лужину «защиту» от обыденной реальности, главный атрибут которой — безжалостное время.
Более счастливая возможность разрешения конфликта между сознанием и реальностью, фантазией и бытом ждет в творчестве Набокова героятворца, близкого лирическому герою поэзии. Различаясь мерой творческих способностей, такие персонажи воспринимают мир как подаренную судьбой «мерцающую радость», как неизъяснимое, но убедительное обещание неземного будущего. Они ненавидят «мерзость генерализаций» и любуются неповторимыми гранями всегда уникальных в их мире частностей — природного и бытового окружения, искусства, близких им людей. Такие герои способны преодолеть эгоистическую замкнутость, узнать и оценить родственную себе душу, а главное — преобразовать несовершенный «черновик» социально-исторической реальности в «беловик» причастного вечности творческого свершения (так происходит в романах «Подвиг», «Приглашение на казнь» (1934), «Дар» (1938).
Многоцветная реальность, изобилующая в прозе Набокова «милыми мелочами» подробностей, обогащенная игрой теней и отражений, рождается звуком и ритмом, чтобы обрести статус завершенного произведения и стать подлинной реальностью в «стеклянной ячейке памяти». Возможно, специфика художнической памяти Набокова — в приоритете слуха над другими сенсорными реакциями. Потому и название англоязычной книги воспоминаний «Speak, Memory» («Память, говори», 1967) звучит у него как апелляция прежде всего к звуковой, сверхпонятийной ипостаси творчества. В этом отношении Набоков — самый яркий из прозаиков XX в., наследник «серебряного века» с его завороженностью «поэзией как волшебством».
Вторая мировая война вызвала вторую волну эмиграции. Значительную часть этой волны составляли переселенцы, так называемые «повторные эмигранты», уезжавшие из государств, которые в 1939—1940 гг. вошли в состав СССР. Кроме того, в эмиграции оказались военнопленные, опасавшиеся возвращения домой, а также молодые люди, вывезенные с оккупированных фашистами территорий в Германию в качестве дешевой рабочей силы и ставшие — в политической терминологии того времени — так называемыми «перемещенными лицами», или «ди-пи» — от англоязычной аббревиатуры D. Р. (displaced person). В общей сложности вторая волна эмиграции насчитывала около миллиона человек. Центрами концентрации русских эмигрантов в 1940—1950;е гг. стали сначала Германия (преимущественно Мюнхен и его окрестности), а затем — для большей части экспатриантов — США.
И мировоззренчески, и стилистически литература второй волны продолжает и развивает важнейшие тенденции, определявшие литературный процесс первой волны. Тесная связь двух поколений писательской эмиграции проявилась и организационно: крупнейшим периодическим изданием русского зарубежья в 1940—1950;е гг. стал «Новый Журнал»[16], основанный в 1942 г. в США сотрудниками парижского журнала «Современные записки», закрывшегося после оккупации Франции нацистами.
Общими у эмигрантов первой и второй волн были политическое неприятие советской идеологии, опора на ценности дореволюционной культуры, а также преимущественно экзистенциальные основы мировоззрения, переживание боли тяжелейших утрат — расставание с родиной, распад семейных связей, горечь ностальгии. В то время как на долю беженцев первых послевоенных лет выпали ужасы революции и гражданской войны, эмигранты второй волны не понаслышке знали о том, что такое сталинский террор или практика идеологических «чисток».
Жанрово-тематический репертуар литературы второй волны определяется доминированием лирической поэзии и мемуарно-автобиографической прозы — в соответствии с внутрилитературной иерархией, сложившейся в эмиграции первой волны. Хотя той степени известности, которая была у крупнейших мастеров предшествующей эпохи, литераторы нового поколения так и не приобрели, среди них было немало ярких талантов. Прежде всего это проявилось в сфере лирического творчества — в поэзии И. Елагина, Д. Кленовского, Ю. Иваска, И. Чинпова, Н. Моршена. Для большинства этих поэтов характерна постепенная эволюция от социально-политической тематики в сторону общефилософской рефлексии и размышлений о природе творчества.
Основные мотивы поэзии второй волны — нелегкие жизненные испытания, трагические события войны, жизнь и смерть, природа и любовь, судьбы искусства и его творцов. Едва ли не центральное место в творчестве каждого из поэтов второй волны занимает тема России, окрашенная в горькие ностальгические тона. Характерны в этом отношении строчки И. Елагина:
Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России Мне не хватает русского окна.
Оно мне вспоминается доныне, Когда в душе становится темно —.
Окно с большим крестом посередине, Вечернее горящее окно.
«Мне незнакома горечь ностальгии…», 1963.
Проза второй волны обогатила литературу эмиграции художественным обобщением явлений советской реальности 1930;х гг., а также личного «опыта выживания» в условиях тоталитарного режима. Среди наиболее известных прозаиков второй волны — Н. Нароков, Л. Ржевский, Б. Филиппов. Особый резонанс в эмигрантских кругах и широкую известность на Западе получил роман Николая Владимировича Нарокова (Марченко, 1887—1869) «Мнимые величины» (1952), переведенный на большинство европейских языков. Сюжет из жизни советского провинциального города в 1930;е гг. построен на коллизии в сознании главного героя — чекиста Любкина, который выполняет задание по выявлению в городе «врагов народа». Он понимает, что подлинная цель репрессий — привести людей «к подчинению» и покорности, которые и составят, как он считает, их «счастье». Встреча с молодой женщиной, сумевшей сохранить в годы террора веру в добро и способность к состраданию, заставляет чекиста «прозреть», осознать тотальную абсурдность дела, которому он служит, понять, что большевистская идеология основана на «мнимых величинах».
Система персонажей романа и ряд его сюжетных ситуаций вызывают отчетливые ассоциации с художественным миром Ф. Достоевского, прежде всего с романами «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы». Опираясь на традиции русского классика, Нароков подводит читателя к выводу, что большевизм — не просто радикальная форма социалистической идеологии, но смертельная коллективная болезнь сознания, убивающая все человеческое. Это крайняя форма мирового зла, существующая «вне Бога, вне сатаны, вне человека».
Подводя итоги, можно сказать, литература первой и второй «волн» русской эмиграции сумела исполнить свою историческую миссию — обеспечить преемственность русской культуры XX в. по отношению к классике предшествующих эпох. Она гораздо активнее апеллировала к национальной культурной памяти, чем литература Советской России, а главное — сконцентрировалась на традиционно «русских» аспектах проблематики: человек и Бог, человек и История, «чем люди живы». Со времени политической «оттепели» (примерно с середины 1950;х гг.) в СССР начинается постепенный, растянувшийся до конца 1980;х гг. процесс «возвращения» эмигрантской литературы на Родину, к отечественному читателю.
Вопросы и задания для самоконтроля
- 1. В чем видели свою историческую миссию писатели первой волны эмиграции?
- 2. Назовите основные темы и содержательные категории литературы первой волны.
- 3. В чем разница между позициями старшего и младшего писательских поколений первой волны?
- 4. Что такое «парижская нота»?
- 5. Каковы основные содержательные и формальные особенности эмигрантской лирики Г. Иванова?
- 6. В чем своеобразие конфликта в романе Г. Газданова «Вечер у Клэр»?
- 7. Истолкуйте заглавие романа В. Набокова «Защита Лужина».
- 8. Что общего и различного в позициях писателей первой и второй волн эмиграции?
Темы для индивидуальных сообщений
- 1. Своеобразие мотивов духовности в книге И. Шмелева «Лето Господне».
- 2. Тема памяти в романе И. Бунина «Жизнь Арсеньева».
- 3. Лирический герой в эмигрантской лирике В. Ходасевича.
- 4. Концепция революции в книге А. Ремизова «Взвихренная Русь».
- 5. Свет и тьма в эмигрантской лирике Г. Иванова.
- 6. Принцип «тематического узора» в романе В. Набокова «Защита Лужина».
- 7. Тема родины в лирике И. Елагина.
- 8. Диалог с наследием Ф. Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины».
Рекомендуемая литература
- 1. Агеносов, В. В. Литература русского зарубежья (1918—1996 гг.) / В. В. Агеносов. — М.: 'Герра-Спорт, 1998.
- 2. История литературы русского зарубежья (1920;е — начало 1990;х гг.): учебное пособие для вузов / под рсд. А. П. Авраменко. — М.: Академический проект, 2011.
- 3. Казак, В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 г. / В. Казак. — London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1988.
- 4.
Литература
русского зарубежья (1920—1990 гг.): учебное пособие / под общ. ред. А. И. Смирновой. — М.: Флинта; Наука, 2006.
- [1] Вот как сказала об отношении европейцев к русским переселенцам поэтесса Р. Н. Блох (ее стихотворение стало текстом знаменитой в эмиграции песни А. Вертинского «Чужиегорода»): «Тут живут чужие господа, / И чужая радость и беда. / И мы для них чужиенавсегда…»
- [2] В 1920;е гг. в Русском общевоинском союзе насчитывалось около 100 тыс. членов, в 1930;е гг. состав сократился до 40 тыс.
- [3] Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежнойлитературы. 2-е изд., испр. и доп. Paris, 1984. С. 19—24.
- [4] Заслуживает упоминания один из фактов борьбы с инакомыслием в Советской России, благодаря которой эмиграция пополнилась целым созвездием ярких имен. Летом — осенью1922 г. Советское правительство насильственно выслало из страны большую группу крупных деятелей культуры, образования, здравоохранения и науки, среди которых были социолог П. А. Сорокин, философы II. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. Е. Трубецкой, Ф. А. Степун, И. А. Ильин, писатель М. А. Осоргин. Самая большая группа знаменитых изгнанников быладоставлена двумя пассажирскими пароходами из Петрограда в немецкий город Штеттин (в наст. вр. входит в состав Польши).
- [5] Сама традиция называть эпоху конца XIX — начала XX в. в России «серебрянымвеком» (или «русским культурным ренессансом») возникла именно в русском зарубежье.
- [6] Помимо «Современных записок» (Париж) заметную роль в объединении литературныхсил зарубежья сыграли журналы «Воля России» (Прага) и «Числа» (Париж), а также газеты"Руль" (Берлин), «Последние новости» и «Возрождение» (обе издавались в Париже).
- [7] Публицистика русского зарубежья (1920—1945): сб. ст. М., 1999. С. 72.
- [8] Так характеризовал писательскую силу И. Бунина философ эмиграции Ф. Степун, утверждавший, что «созерцание мира умными глазами стоит любой миросозерцательнойглубины» (Степун Ф. Л. Встречи. М.: Аграф, 1998. С. 94).
- [9] Это «Жизнь Тургенева. Биография» (1932), «Жуковский. Биография» (1951) и «Чехов.Биография» (1954).
- [10] Лавров А. В. «Взвихренная Русь» Алексея Ремизова: символистский роман-коллаж //Ремизов А. М. Собр. соч. в 10 т. Т. 5. М" 2000. С. 544−557.
- [11] Так, сопоставляя советскую и эмигрантскую «хронометрию», Г. Адамович задавалв одной из статей 1920;х гг., вошедшей позднее в книгу «Комментарии», риторическийвопрос: «Была пятилетка. Но есть ли тысячелстка?» (Адамович Г. В. Одиночество и свобода.М.: Республика, 1996. С. 171).
- [12] Варшавский В. С. Незамеченное поколение. М.: Издательство имени Чехова, 1992.С. 173.
- [13] Струве Г. П. Русская литература в изгнании. С. 309.
- [14] Адамович Г. В. Одиночество и свобода. С. 175.
- [15] Адамович Г. В. Одиночество и свобода. С. 220.
- [16] Другой крупный литературно-художественный журнал второй волны — «Грани» —выходил с 1946 г. в Мюнхене.