Второй раздел АНТИЧНЫЙ МИР.
РИМ
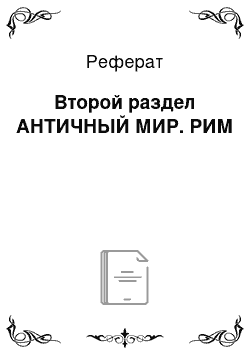
Особый интерес представляют взгляды Страбона по геологии. Он утверждал, что отдельные участки земной коры периодически опускаются и поднимаются. «Не только отдельные каменные массы или малые и большие острова, — пишет он, — но и целые материки могут подниматься». Затем, говоря о возникновении малых и больших островов, Страбон приходит к выводу, что тут могут действовать двоякого рода причины… Читать ещё >
Второй раздел АНТИЧНЫЙ МИР. РИМ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РИМ
Общая характеристика республиканского Рима — Практический дух римлян и отход от метафизики к вопросам точного знания, экономики, политики и морали. — Катон Старший. —Эклектики-популяризаторы: Марк Туллий Цицерон и Марк Теренций Варрон. — Век Августа. — Страбон. — Поэт-идиллик, Вергилий.
Вместе с уничтожением Македонского государства греки теряли привилегии, которыми они пользовались при македонских владыках. Правда Эллада не была еще обращена в римскую провинцию Ахайю. Это случилось много позже, при императоре Августе в 27 г. нашей эры; но обезоруженные экономически, ослабленные политически, бессильные эллины и тогда уж чувствовали себя всего лишь подданными республиканского Рима.
«В жизни греческой, — пишет Герцен, — так тесно соединились все элементы, что ни искусство, ни наука не могли, не изменившись, пережить гражданское устройство. Для науки нужны были Афины — афины, верующие в себя. Нужна была юношеская беззаботность, дозволяющая предаваться мысли… А могла ли она остаться около того времени, как последний царь македонский с поникнувшим челом шел по римским улицам, прикованный к торжественной колеснице победителя?».
Этим печальным аккордом можно было бы пожалуй заключить повесть об античной мысли… если б умерла она бесследно, если б не осуществилась мечта Перикла о всесветном господстве Афин в мире идей, — если бы греческое образование не пользовалось и дальше популярностью и таким же неотразимым влиянием, каким оно пользовалось при македонском владычестве, и если бы победоносный Рим, ассимилировав из греческой культуры все, что в силах был ассимилировать, не понес эту культуру дальше, в свои провинции.
Попытаюсь эскизно набросать картину «республиканского» Рима в конце второго и в первой половине последнего столетия до нашей эры.
Это было грандиозное, мировое государство, простершее свою властную руку далеко на Запад и Восток и создавшее свою территориальную мощь непрерывными войнами, которые неимоверным гнетом ложились на класс средних и мелких собственников, несших все тяготы войны в течение многих десятилетий, — государство крупных помещиков, обогащавших свои владения конфискацией достояния покоренных народов и скупкой земель деклассированной деревни, — государство предприимчивых, утопающих в роскоши и распутстве «капиталистов», выросших на эксплоатации обширных латифундий, на торговле с заморскими странами и ростовщических операциях, государство, управлявшееся авантюристами и честолюбцами всех сословий и представителями выродившегося патрицианства, которому один из талантливейших поэтов этой эпохи Катулл бросил в глаза суровый, полный ненависти и желчи приговор:
В час, когда воля народа свершится и дряхлый Коминий1 Подлую кончит свою, мерзостей полную жизнь, Вырвут язык его гнусный, враждебный свободе и правде. Жадному коршуну в корм кинут презренный язык, Клювом прожорливым ворон в глаза ненасытные клюнет, Сердце собаки сожрут, волки сглодают нутро[1][2].
Это было государство, наводнившее Рим и другие города толпами обезземеленных крестьян и безработных ремесленников, жаждущих «хлеба и зрелищ» и продающих свои голоса искателям власти, а то и просто политическим проходимцам, — государство, экономическая жизнь которого держалась главным образом на труде рабов, политический строй представлял собой чуть ли не наследственную олигархию, завершившуюся единоличной диктатурой, а глубокие и острые социальные противоречия порождали восстания рабов и жесточайшие гражданские войны, одно воспоминание о которых не раз исторгало из уст другого поэта этой эпохи, Горация, слова негодования отчаяния и проклятия:
Куда, куда стремитесь, окаянные, Мечи в безумье выхватив?
Неужли мало и полей и волн морских Залито кровью римскою?..
Ни львы, ни волки так нигде не злобствуют, Враждуя лишь с другим зверьем…
Это было государство, где братья Гракхи, поднявшие знамя революции во имя «земли и воли», пали от руки убийц; где выходец из итальянских батраков Марий, захвативши Рим, казнил аристократов и раздавал их имущества победителю — демосу; где патриций Сулла три года спустя после смерти Мария проделал то же с побежденными им демократами, где с ростр залитого кровью римского форума раздавались нескончаемые призывы к истреблению «врагов отечества», а классическое «жребий брошен» (alea jacta est) Цезаря прозвучало зловещим предсказанием надвигающейся эпохи императоров…
Таков республиканский Рим в описываемую мной пору.
И все же ни завоевательные и оборонительные войны, ни восстания рабов, ни кровавые междуусобия, ни лихорадочная вакханалия многочисленных искателей богатства не остановили роста латинской культуры, оплодотворенной культурой Эллады — все еще живой, все еще творчески действенной.
Шли годы. Междуусобия не прекращались. И в созданиях поэтической и философской мысли римлян стали все чаще и чаще прорываться нотки меланхолии, политического индиферентизма и даже безнадежности. «Подлое время».. — пишет Катулл в заглавии своего скорбного четверостишия и обращается к себе с грустно ироническим вопросом:
Увы, Катулл, что ж умереть ты мешкаешь?
Водянка-Ноний1 в кресло сел курульное, Ватиний-лжец[3][4] бесчестит фески консула.
Увы, Катулл! Что ж умереть ты мешкаешь?
И Гораций, свидетель и участник гражданских битв, печалится о судьбах Рима и мечтает о радостях мирного жития:
Блажен, кто вдалеке от всех житейских зол, Как род людей первоначальный, На собственных волах отцовский пашет дол, Не зная алчности печальной.
Ни море злобное, ни труб воинских звон Не возбуждают в нем тревоги;
Бежит от форума, не обивает он Граждан значительных пороги.
У Лукреция также звучат эти нотки. Он глубоко страдает за свою родину, раздираемую тысячью бедствий: «О, жалкие умы и слепые сердца! — восклицает он, — в каком мраке, среди каких опасностей проходят те немногие мгновения, которые мы называем жизнью человека!» Но не в иронии над собой и не в мечтах о жизни «вдалеке от всех житейских зол» ищет он умиротворения, а в страстной вере в обновляющую мощь науки, в готовности залить ее светом отуманенные умы и слепы сердца. Как никогда Платон и Аристотель, он отдался весь науке:
Ничего ведь нет приятней, как жить в укрепленных и светлых Храмах, какие воздвигла наука мудрейших из смертных…
Эллинская мудрость, потерявшая в значительной мере авторитет у себя на родине, нашла признание и радушный прием повсюду, где учителя ее появлялись со своей проповедью: устаревшая для греков, она казалась интересной, захватывающей новинкой в Риме. Но дух эмпиризма и неразлучного с ним практицизма реял над творчески настроенной мыслью римлян. Философия была для римлян не всеобъединяющим знание о вселенной и человеке, а искусством жить — жить мудро, стремясь к идеалу спокойного, счастливого бытия. Вот почему, говоря словами Герцена, эти «умы сухо-энергические и озлобленные, груди твердые, но наболевшие», с таким увлечением отнеслись, сперва к учению стоиков, а затем и эпикурейцев. Выдающиеся люди этой эпохи — Цицерон и Плиний Старший — склонялись к стоицизму. А в числе крупных по уму и таланту эпикурейцев на самом видном месте надо поставить Лукреция, Горация и Плиния Младшего.
Сначала строгие блюстители старины вроде Катона Старшего относились очень недружелюбно к греческим учителям. «Дай только этому народу передать нам свою литературу, — говорил Катон, — и он в корень нас растлит». А один из преторов в 181 г. до нашей эры сжег сочинения пифагорейцев, «так как, — объяснил он, — это сочинения философские» (quia philosophiae scripta essent). Постепенно это отношение смягчалось, и дело кончилось тем, что знакомство с греческой культурой вошло в круг потребностей всякого мало-мальски образованного римлянина; даже брюзга Катон на старости лет принялся за изучение греческого языка, а молодежь стремилась в Афины, где и завершала свое высшее образование.
Еще во II веке до нашей эры в Афинах существовали все четыре «великие философские школы» — академия, лицей, стоя и сады. Они сначала сильно враждовали, но вражда эта постепенно стихала; ценой взаимных уступок и потери оригинальности острые углы борющихся тенденций сглаживались. Философия как последовательно развитая система знаний о космосе и человеке перестала существовать. Ее место торжествующе занял примиренческий, часто вульгарный и плоский эклектизм. Не стало самобытно мыслящих мудрецов в стиле Гераклита, Анаксагора или Демокрита. Их заменили «многосторонне образованные» распространители чужих идей, популяризаторы, среди которых высоко поднялась фигура Цицерона. Только изредка светлым лучом, прорезывающим серенькое небо философских будней, вставал перед мыслью оригинальный труд, подобный дидактической поэме Лукреция Кара. И эти прозаичные будни имели свои неотложные, злободневные задания. Владельцы обширных латифундий не могли не интересоваться всем, что относилось к сельскому хозяйству, игравшему огромную роль в экономической жизни римлян. Неудивительно поэтому, что естествознание описываемой нами эпохи сосредоточивалось главным образом на вопросах агрономического характера и что труды Катона Цензора (234—149) «О делах деревенских» и «Наставления сыну» пользовались большой популярностью как произведения первоклассного знатока сельскохозяйственных вопросов. Катон на самом деле был одним из лучших хозяев своего времени, любил это дело и отдавался ему с такой же страстью, как и политическим делам. Его практические советы о том, как выбирать угодья и заботиться о земельной собственности, как возделывать наиболее ценные и полезные сорта злаков, овощей и плодовых деревьев, как подбирать и воспитывать домашний скот и как лечить его от различных болезней, как готовить окорока и сосиски, — все эти указания должны были высоко цениться людьми, материальное благополучие которых, равно как и все вытекающие из него общественные к политические привилегии, целиком определялись состоянием их хозяйства. Но с научной точки зрения труды Катона не имеют почти никакого значения. Правда, он описывает около 120 растений, частью иноземных, называет несколько лекарственных трав и т. п., но все это так убого и дышит таким примитивным эмпиризмом по сравнению с трудом Теофраста, что говорить о заслугах Катона перед современной наукой, разумеется, не приходится. Труд его ценен в другом отношении: в нем рисуется быт описываемой здесь эпохи, из него выглядывает, как живое, лицо крупного римского помещика, сурового, жестокого по отношению к рабам и беспощадно бичующего своих соотечественников за распущенность нравов, бездельничанье, страсть к роскоши и беспутству — словом, за отход от «простоты доброго старого времени», когда лучшей похвалой для человека служило указание на его серьезное, деловое отношение к хозяйству.
Катон со своим «О делах деревенских» не одинок: он скорее — тип, чем исключение в ряду представителей римского «естествознания». Римляне проявляли особый интерес ко всему, что может быть непосредственно применено к жизни. В минералогии их занимает то, что имеет отношение к металлургии и к материалу для возведения общественных и частных построек, в ботанике — разведение растений, полезных в различных отраслях экономики, житейского обихода и врачебного искусства. То же и в зоологии. Тут больше всего уделялось место животным, участвующим в цирковых представлениях и триумфальных торжествах, а затем бойцовым и охотничьим птицам и наконец всей съедобной твари, имеющей прямое отношение к поварскому искусству, — голубям, павлинам, фазанам, оленям, диким козам, кабанам, различным породам рыб, устрицам и т. д. А всяческое теоретизирование по поводу этого материала считалось делом немногочисленных «философов», у которых и можно было научиться этой «премудрости», если она кого-нибудь заинтересует. И таких любознательных людей было тогда все же немало. К их числу надо прежде всего отнести Варрона.
Марк Теренций Баррон (116—27), энциклопедически образованный человек, написал свыше пятисот книг на различные темы, из которых до нас дошло лишь ничтожное число. Римляне черпали из его сочинений полными пригоршнями самые разнообразные знания. Да и не только римляне: ведь недаром его и позже величали «отцом римской учености».
Биографы Варрона утверждают, что он прекрасно знал греческую философию и серьезно ориентировался в различных научных дисциплинах. Доказательством служат девять его книг, известных под именем «Книги дисциплин». Но излагал он свои знания тяжело, без того блеска и вдохновения, которым отличались произведения его современника и друга — Цицерона.
И у Варрона было сочинение «О делах деревенских». Написано оно было на склоне дней, когда автору было 80 лет. Тут сконцентрированы все его знания на данную тему — и теоретические и практические. Перед нами не просто сельский хозяин-практик, но и ботаник и вообще натуралист, знакомый с произведениями Гиппократа, Аристотеля и Теофраста, к которым он и отсылает зачастую своего читателя, особенно там, где Дело касается не фактов, а объяснений, говоря: «Так обстоит дело, а почему, об этом вы можете узнать, прочитав Аристотеля».
Сочинение «О делах деревенских» написано по определенному, выдержанному плану. В нем три книги: в первой говорится о почвах и земледелии, вторая и третья посвящены уходу за домашними животными и птицей. Установив задачи сельского хозяйства, — основу, на которой оно держится, и цель, которую преследует, — он приступает к последовательному, изложению материала всех трех отделов. Ссылаясь на установленные им лично факты, он говорит о наблюдениях над ростом растений и движением листьев и цветов; пытается физиологически объяснить некоторые из приводимых им фактов из жизни растений и животных. Это уже значительно больше того, что дает Катон. И тем не менее нельзя сказать, чтобы ботаника или зоология скольконибудь подвинулась вперед благодаря труду Варрона: дальше греков «отец римской учености» не пошел.
Было бы особенно интересно познакомиться с содержанием таких трудов Варрона, как «Туберон» или поэма «О природе», трактующие о происхождении человека. Но об этих сочинениях почти ничего не известно. Надо отметить, что Варрон не лишен дара научного предвидения. Не странно ли, что за две тысячи лет до наших дней этот римский эрудит утверждал, что в воздухе болотистых местностей носятся целые полчища невидимых «мельчайших животных», которые и вызывают разные тяжелые заболевания, характерные именно для таких: местностей. И должно было пройти много столетий, пока голландец Левенгук не доказал воочию справедливость интуиции старика Варрона.
О третьем более крупном представителе науки республиканского Рима — Лукреции — мы будем подробно говорить дальше, а сейчас вспомним об одном крупном и самобытном ученом рассматриваемого нами периода — Страбоне.
Он родился в 63 г. до нашей эры. По происхождению грек, по образованию александриец эпохи римского владычества, он жил большей частью в Риме. Несмотря на это представители римской науки мало знали и ценили этого разносторонне, образованного географа, геолога и вообще натуралиста. Его география состояла из 17 книг и почти целиком сохранилась до наших дней. Она содержит не только ценные факты по физической географии, геологии, этнографии, зоологии и ботанике, но и оригинальные научные мысли.
Особый интерес представляют взгляды Страбона по геологии. Он утверждал, что отдельные участки земной коры периодически опускаются и поднимаются. «Не только отдельные каменные массы или малые и большие острова, — пишет он, — но и целые материки могут подниматься». Затем, говоря о возникновении малых и больших островов, Страбон приходит к выводу, что тут могут действовать двоякого рода причины: некоторые острова, например Капри, представляют собой части, оторвавшиеся от материка, возможно под влиянием эрозионной деятельности воды; а острова, находящиеся среди моря далеко от материка, по всей вероятности вулканического происхождения. Он как бы предвосхищает спор будущих «вулканистов» с «нептунистами», допуская, что лицо земли менялось под влиянием обоих основных факторов динамической геологии — воды и подземного жара. Характерно, что Страбон, правда, не первый по времени, смотрит на ископаемые раковины моллюсков и нуммулитов как на окаменелые остатки былой морской фауны, оказавшиеся на суше благодаря постепенному поднятию соответствующих участков морского дна. Этот вывод полностью гармонирует с его взглядом на вековые движения отдельных частей земной коры. Интересно и высказанное им предположение, что за Атлантикой существует пока еще никому неведомый материк: «Весьма вероятно, что в умеренном поясе земли помимо обитаемого нами света лежит один, а может быть и много других миров, населенных отличающимися от нас людьми». Все это больше чем поразительно для ученого рассматриваемой нами эпохи и во всяком случае свидетельствует о большом размахе научного провидения Страбона.
Страбон много путешествовал и потому о многом рассказывает как очевидец по личным впечатлениям, не забывая в то же время о своих предшественниках, в числе которых значительное место отводит географу-александрийцу III века, Эратосфену.
Компетентные лица, изучавшие географию Страбона, находят ее интересной и увлекательной. Политический строй различных стран, их население и быт, физико-географические особенности, флора, фауна — все это панорамой проносится пред читателем, обогащая его знаниями и стимулируя серьезный интерес к излагаемому автором предмету. Здесь описаны страны, расположенные вокруг Средиземного моря, дающие обильный материал для изложения фактов политического, физико-географического и метеорологического характера. За ними — величавые Альпы, позволяющие автору остановиться на описании характерных для этой территории животных и растений. Италийские острова — в частности Липарские с их вулканами — позволяют Страбону развивать свои геологические взгляды. Затем идет Черноморское побережье и Черное море, изобилующее разнообразными видами рыб, описывая которых автор рассказывает о рыболовстве и о периодических миграциях этих животных. Еще дальше — Аравия и Африка. Страбон там не был и потому рассказывает об этих странах только то, что вычитал у других авторов. Зато Египет он знает хорошо и повествует о нем на основании личных впечатлений, рассказывая о Ниле и его водном населении, о виденных им африканских животных — слонах, жирафах, обезьянах, птицах. Не забыта и далекая Индия с ее чудесным миром животных и растений; среди последних внимание автора привлекает сахарный тростник, «дающий мед», и хлопчатник. Словом, большая часть известного тогда мира нашла отображение в произведении знаменитого географа древности. И если бы не забвение научной традиции в средние века, география Страбона должна была сыграть серьезную роль в истории естествознания вообще и в судьбах биологии в частности…
От Страбона мы сделаем сейчас скачок к другому полюсу науки изучаемого нами периода — к науке в стиле Катона Цензора, но изложенной не суровым языком дельца и моралиста, а легкими стихами поэта.
Образное перевоплощение сил природы в изящные, поэтические мифы у Овидия, лирика Горация, величавые картины природы у Лукреция, художественные описания ее у Цицерона и Плиния Старшего свидетельствуют о несомненно развитом чувстве природы, гармонично сливающемся с чувством художественной меры. «Эклоги» и особенно «Георгики» лауреата августовской эпохи, ее придворного барда, Вергилия, лучше всего оправдывают только что высказанную мысль. У этого поэта чувство природы служило главным импульсом для художественного воспроизведения ее картин и красот и для омышленного созерцания ее явлений.
Вергилий (70—19) не был образованнее обычных представителей римской интеллигенции августовского века. Тема его «Георгии» скромна, в ней опоэтизирована практика жизни. Но в поэзии он силен и порой очаровательной кистью рисует пейзажи и картины сельского быта, легенды и мифы, связанные с ним. В поэзии его нет титанических порывов мысли, героических устремлений воли, драматических настроений души. Он не мог не видеть, как и чем в обстановке рабского труда миллионов «избранники» истории достигают безмятежного бытия. Отсюда — вспыхивающие временами в его идиллиях то меланхолические, то элегические нотки. Живя в эпоху утонченного разврата, он, поскольку это было возможно, сохранил душевную чистоту и обладал удивительным даром облекать в музыкально-художественные формы самые обыкновенные вещи. «Сельские музы, — писал Гораций, — наделили Вергилия и тонкостью вкуса и прелестью стиха».
В «Георгинах» четыре песни[5].
С первых же строф веет практицизмом: видно, что пишет опытный, сведущий в агрономических делах «хозяин», рекомендующий и плодопеременную систему, и пар, и удобрение:
Также терпи, чтобы год отдыхало поле под паром, Чтоб укрепилось оно, покой на досуге вкушая;
Или златые там сей, — как солнце сменится, — злаки, Раньше с дрожащим стручком собрав горох благодатный, Или же вики плоды невеликие, или лупинов Горьких ломкие стебли и лес их гулко звенящий.
Этот эмпиризм характерен для древности вообще и для Рима в особенности: тут полностью еще царят итоги коллективного опыта, не ведающего пока научной теории, — итоги практики, на фоне которой развернется впоследствии и теория.
Множество практических советов, обвитых гирляндами поэтических описаний, составляет содержание этой книги. И тут же множество сентенций, свидетельствующих о том, что поэт интуитивно постигает интимную связь между практикой и «стройным ходом таинственной природы».
Но советы, указания, сентенции вдруг обрываются строфой, в которой сквозит глубокая печаль, вызванная созерцанием царивших и тогда — в хваленый век Августа — пороков и преступлений; и не только печаль, но и суровый приговор:
Правда с кривдою здесь смешались: всё войны по свету! Как разнородны лики злодейств! И нет уж оралу Чести достойной. Поля засыхают с уходом хозяев, И уж кривая коса на меч прямой перелита…
Там затевает Евфрат, а там Германия брани;
Здесь, меж собою порвав договоры, соседние грады В бой вступают. Везде свирепствует Марс нечестивый.
Покинув нивы, поэт во второй песне переходит вновь к своей основной теме и описывает рощи, леса, сады. И здесь привлекает внимание совет, как облагораживать деревья, какими способами производить прививки. А рассказав все это, поэт восхищается плодами рекомендуемых им мероприятий:
Способ же есть не один для прививки стволов и почек:
Или в толще коры, в том месте, где почки выходят И прорывают уж тонкую ткань, надрез неширокий Делают в самом узле и чуждого дерева отпрыск В щелку вставляют, уча срастаться с влажной корою;
Или ж стволы без узлов надсекают и клином глубоко В толще дорогу ведут; потом черенок плодоносный Вводят в надрез; и пройдет немного времени, — мощно Тянет уже к небесам благодатные дерево ветви, Юной дивится листве и плодам на себе чужеродным.
Много стихов посвящает поэт наш культуре винограда; все заботливо, любовно описано и пересыпано мудрыми житейскими советами.
Последние страницы второй песни заняты восхвалением жизни «поселян» и сожалениями о распаде их «патриархального быта». Вообще для Вергилия очень характерна своеобразная любовь к народу в духе народолюбия наших «кающихся дворян» и типичная для многих образованных римлян вера в «золотой век»:
Он собирает плоды, которые ветви и нивы Сами дают; он чужд железных законов; безумный Форум ему незнаком, он народных архивов не видит…
В третьей песне «Георгии» биолога могут заинтересовать два эпизода: один из них показывает, что автору хорошо знакомы факты и практические приемы искусственного подбора, а другой очень красочно живописует борьбу самцов за обладание самкой. Вот отрывок о подборе рогатого скота:
Прежде всего выжигают тавро с названием рода, Обозначают, каких на племя оставить желают Иль для святых алтарей, каких — чтоб вспахивать землю Иль подымать целины торчащей разбитые глыбы.
Весь же скот остальной на траве пасется зеленой.
Тех, кого приучить к полевым захочешь работам, Сызмала ты упражняй, настойчиво их укрощай ты, Души гибки доколь у юнцов и возраст подвижен.
Столь же поучительны и советы относительно подбора коней:
Что до коней, то и их обстоит не иначе выбор.
Тех, кого ты взрастить положил в надежде на племя, С самых младенческих лет окружи особливой заботой —.
говорит Вергилий и затем очень детально расценивает те черты в организации и повадках жеребца, на которые следует обратить внимание при отборе:
Прежде всего табуна жеребенок кровного в поле Шествует выше других и мягко ногами ступает, Первым в дорогу бежит и в поток отважиться грозный Смеет, или свой шаг неизвестному мосту доверить.
Он не пугается шумов пустых; высока его шея;
Морда точеная: зад — налитой и короткое брюхо;
Сильная грудь изобилует мышцами…
Второй из отмеченных выше эпизодов сопровождается дифирамбом любви, которой «покорно все» в природе; и царь земли, и дикий сын лесов, и дети синих волн и жители эфира. Но радости ее не легко даются тем, кто ищет благосклонности самки; вопрос об обладании ею решается боевым турниром:
П2.
Попеременно они с великой сражаются силой, Раны себе нанося; по телам кровь черная льется.
И направляют рога друг на друга, сражаясь с протяжным Стоном; гудят им в ответ леса с высоким Олимпом В хлеве одном уж не жить сразившимся…
Последние страницы третьей песни заполнены описанием эпидемий, уносящих целые стада и превращающих цветущие села в пустыни.
Четвертая и последняя песнь «Георгии» посвящена пчелам и пчеловодству. Жизнь пчел изображена увлекательно, с большим подъемом. Но естественная история их представлена в извращенном виде. Не говоря уже об ультраантропоморфической трактовке этой соблазнительной темы, Вергилий часто обнаруживает здесь незнание даже того, что он свободно мог бы позаимствовать у Аристотеля. Многое излагается совершенно фантастично, многое сообщается неверно. Но и тут есть строфы, заслуживающие внимания биолога, отмеченные печатью поэтического дарования. Ознакомив во вступлении читателя с темой четвертой песни, Вергилий очень красиво рисует места, которые следует выбирать для занятия пчеловодством:
Чистые пусть родники и пруды там с мохом зеленым Будут, пусть ручеек в мураве пробегает тихонько;
Пальмой вход осени иль обширной дикой оливой…
Пусть от жары отдохнуть пригласит их берег соседний, Гостеприимной листвой их встречное дерево примет… Пусть окружает их дом зеленая кассия, запах Льющий далеко тимьян, духовитого чобра побольше Пусть расцветает, и пьют родниковую влагу фиалки…
Приходит весна, и жизнь пчел развертывается во всей полноте волнующих их хлопот и забот — о сборе пыльцы и нектара, о постройке сот, о воспитании детей. Рабочая жизнь пчел представлена довольно верно, если не считаться с антропоморфическими аналогиями и неизбежными не только для Вергилия, но и для всей его эпохи ошибками:
…Зиму едва золотое загонит под землю Солнце и небо опять отомкнет сиянием летним, Тотчас они облетать начинают чащи и рощи, Жатву с пурпурных цветов собирают…
. .Другие внутренность дома Мажут нарцисса слезой и липкой древесной узою, Первый фундамент для сот полагая, чтоб после повесить Крепко держащийся воск; иные учат подросший —.
Рода надежду — приплод; иные сгущают чистейший Мед и кельи свои покрывают нектаром жидким.
Есть и такие, кому пал жребий быть стражем у Двери… Дело кипит, чобрецом отзывается мед благовонный.
пз От внимания Вергилия не ускользнул и факт бесплодия рабочих пчел, но он распространил его на все население улья, фантастически объясняя появление нового поколения пчел. Это объяснение вполне гармонирует с учением о самопроизвольном зарождении, с той лишь разницей, что Вергилий приписал своим любимцам очень поэтическое рождение в душистой траве и в распустившихся цветах, откуда «в златые лета дни» и забирают их под свой кров старые пчелы; но дальше мы найдем и другое объяснение.
Как опытный пчеловод наш поэт хорошо знает, как важно наличие матки («царя») для благополучия улья, как «самоотверженно» заботятся о ней рабочие пчелы и как печально отражается на судьбах улья ее смерть.
Он знает, что в общей работе улья трутни участия не принимают, что в улей нередко забираются нежеланные, даже вредные жильцы и посетители, что.
…Нередко соты съедает Ящерица; таракан, от света бегущий, гнездится Или на корме чужом сидящий шмель нерабочий, Или же шершень лихой заберется, оружьем сильнейший; Шашалы, мерзостный род, иль еще ненавистный Минерве Редкие сети свои паук в сенях поразвесит.
Он знает, что и пчелы страдают порой от болезней,.
…ибо дала злоключения наши и пчелам Жизнь…
Но вопреки тому, что он мог почерпнуть у Аристотеля, Вергилий причисляет лежащих в ячейках личинок к случайным обитателям улья, и появление нового роя поясняет картинным изложением мифа об Аристее и Эвридике: спасаясь от преследований Аристея, нимфа Эвридика наскочила на уязвившую ее змею и умерла. В наказание за это у Аристея погибли все его пчелы. Погруженный в глубокую скорбь по случаю постигшего его несчастия Аристей отправился к своей матери, нимфе Кирене, и стал молить ее о помощи. Мать вняла просьбам сына и сообщила ему секрет рождения пчел: нужно принести в жертву богам избранных тельцов стада. Они должны пасть под ударами бича. Тогда свершится желание Аристея: свершится чудо. И оно свершилось: он Видит: из бычьих утроб прогнивших, из каждого брюха Пчелы жужжат и кипят ключом из поломанных ребер, Тучей огромной влачась, и уже на вершине древесной Роем стеклись и, как кисть, свисают с лозы виноградной.
Этим примитивным для античного мира учением о самопроизвольном зарождении оканчиваются «Георгики», если не считать последних 12 строк, посвященных общему заключению сельскохозяйственной поэмы.
«Георгики» пользовались огромной популярностью у римлян. И не удивительно: в них было все, чем можно было прельстить их трезвые умы и склонные к прекрасному сердца: деловое содержание, художественная форма и легкий поэтический язык…
У Рима не было своей философии. Она в лучшем случае была талантливым перепевом греческой философии. Римские ученые за редким исключением — эклектики. Таким же эклектиком был и Марк Туллий Цицерон (106—43).
Он не перерос своего времени, никаких новых путей ни в литературе, ни в науке не проложил, но прекрасно усвоил все интеллектуальное достояние своей эпохи. Благодаря многочисленным переложениям Цицерона, его переводу многих отрывков и цитат из сочинений греческих мыслителей не только Рим, но и наследники римской культуры вплоть до культуры наших дней получили возможность приобщиться к сокровищнице философской мысли Эллады. Один из известнейших наших знатоков римской литературы, В. И. Модестов, следующим образом характеризует роль и значение философских трудов Цицерона:
«Главная заслуга Цицерона состояла в том, что он умел посредством ясного, живого и приятного изложения сделать философские вопросы доступными пониманию каждого образованного человека. Нужды нет, что он нередко ошибается: это нисколько не помешало ему возбудить в образованной публике любовь к философии, которая с этих пор делается важным звеном в системе римского образования. Для нас философские сочинения Цицерона имеют ту особенную важность, что в них сохранилось из сочинений греческих философов многое, чего нельзя найти ни у какого древнего автора. Сведений, сообщенных нам Цицероном о греческой философии, так много, что по ним можно составить целую историю этой философии».