История под знаком нормы Христа
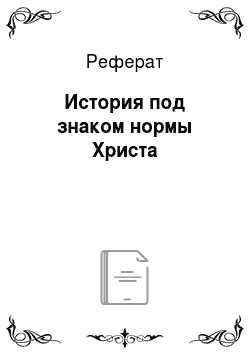
Церковь вместе со всеми своими членами стоит на пороге нового эона, поэтому в своем сущностном ядре она неподвластна гнетущему давлению со стороны космических властей. Однако, поскольку она полностью разделяет с миром его историческую судьбу, она не может уйти от со-страдания миру в его бедствиях. Более того, поскольку она есть место, где совершается выбор в пользу Бога, то ярость «властей века… Читать ещё >
История под знаком нормы Христа (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Реферат История под знаком нормы Христа
- А. Царское величие
- Б. Внутреннее напряжение эйдоса и церковные состояния
- В. Эйдос в трансцендентном. Божественное состояние
- Г. Эйдос в имманентном. Мирское состояние
- Д. История спасения в профанной истории
- Е. Полнота и прогресс
- Ж. Рыцарь Апокалипсиса. Господь и его Невеста
- Литература
А. Царское величие
Все наши прежние рассуждения касались теологического средоточия истории: вочеловечившегося Бога Иисуса Христа. Мы пытались осознать Христа с точки зрения его собственной историчности, той динамики, с которой он усваивает себе всю остальную историю как предпосылку своей историчности, наконец, в его качестве нормообразующего начала для всей истории. И лишь после прояснения всех этих вопросов становится возможным сделать какие-то значимые выводы об истории, нормируемой, праведно судимой и выправляемой Христом.
История, поскольку она судима праведным судией, предстоит перед ним как субъект: как субъект — отдельная личность, как совокупный субъект — Церковь и, наконец, как субъект — мировая история в целом. Но уже из вышесказанного очевидно, что нельзя без утраты адекватности вести речь об их разделении или противопоставлении. Верующий как таковой, Церковь как таковая живут жизнью своего Господа. Жизнь Христа, вочеловечившегося в членах своего тела, есть вера, надежда, любовь. Церковь в целом не предстоит ему как «иной» субъект, но является его телом, приемлющим жизнь и управление от Святого Духа. Поэтому также и мировая история человечества, сущность которой во всей ее целостности была видоизменена ипостасным единством, не может предстоять Христу в абсолютной независимости. Свое окончательное оправдание и последний смысл она обретает лишь благодаря тому, что находится в сфере жизни и господства того, кому дана «всякая власть на небе и на земле» (Мф 28, 18) и кто лишь ожидает, «доколе враги Его будут положены в подножие ног Его» (Евр 10, 13).
И все же окончательное исполнение истории во Христе не может быть понято таким образом, будто природные естества лишены своего собственного, имманентного эйдоса и обладают таковым только во Христе. Без восприятия дарованной в самый момент творения неотъемлемой сущности как отдельным человеком, так и всей мировой историей в их временнбй протяженности и развитии не может осуществиться ни подлинное вочеловечение Бога, ни его воплощение в истории. Сущностное определение человека состоит не в том, что он есть член тела Христова, равно как сущностное определение мировой истории состоит не в том, что она (сокровенным образом) совпадает с историей Царства Божия. Лишь при изначальном наличии в умозрительной сфере подлинного тварного эйдоса нисхождение Бога на уровень творения может быть осмыслено в качестве кенозиса и лишь тогда Бог может, нисходя, возвести такой эйдос неразрушенным в сокровенность вечной жизни. Иначе просто не может быть, поскольку Сын ни в чем не хочет заменить Отца, но лишь во всем прославить его самого и его творения, чтобы внутренний союз Сына с искупленным человечеством и всей тварью поднял бы их неповторимую самость на недосягаемую высоту.
Царский Сын, о котором многократно возвещали слуги и гонцы царя (Мф 21, ЗЗсл.), наконец является сам и может держать и вести себя не иначе как сообразно своему царскому сану, совсем не так, как прежние посланцы. Царю незачем заботиться о соблюдении дистанции между собой и своими подданными, она и так повсюду ему сопутствует. Он держится совершенно иначе, чем остальные: раскованно и вместе благосклонно, предоставляя им исполнять их обязанности, сам же оставаясь равным себе в том, что составляет его суть: в своем царском величии. Христианские философы культуры, в особенности протестантские, проглядели глаза, выискивая в словах Иисуса малейшие свидетельства если не утверждающего, то хотя бы мимолетно-одобрительного отношения к культуре, естественной философии, этике или эстетике. Но ничего подобного там нет. Предприятия, которые функционируют самостоятельно, не нуждаются в посещении хозяина. Время, которое Всевышний проводит рядом со своими созданиями, — это ценное, наисвятейшее время, которое и нельзя проводить иначе как в твердом и сосредоточенном состоянии духа (Мф 9, 14сл.). Исполнение истории, великое чудо, которое она имела в виду во всех своих начинаниях и чаяниях, теперь настало и не может иметь никакого иного содержания, кроме себя самого, и не должно быть нарушаемо самодовольством предпраздничных приготовлений, возведением сцены, более или менее удачно проведенными мероприятиями, привлеченной рабочей силой, прессой, возвещающей всему миру о месте и протекании события.
Событийное ядро праздника, т. е. чудо, целиком и полностью зависит от прихода Сына и от его царской сущности. Никто не может сказать, как Сын будет себя вести. Его этикет — в нем самом. Весь его образ действий обличает прирожденного царя, и потому он никому не дает отчета в своих мыслях и делах. Если же они тем не менее бывают явлены, то обретают чеканящую образную силу. Каждую отдельную личность они втягивают в отношение с царской единичностью. Пускай царь есть царь всех и каждого, пускай его посещение затрагивает всех и все встают шпалерами, чтобы увидеть и приветствовать его, все же царь заговорил лишь с одним, вон тем человеком, пригласил его и отличил. Но в этом одном каждый чувствует свое участие, в нем радуются все. Один или несколько выбраны, чтобы уловить нечто от света сущностной уникальности, которая принадлежит к самой сущности царской милости, и участвовать в ней на правах отдельных личностей, — естественно, от имени всех, в качестве посредников между единичностью царя и всеобщностью народа. Их репрезентирующая роль не должна заслонять того, что они по рождению — обычные люди с обычным имманентным миру эйдосом: Симон, сын Ионин, Иоанн, сын Алфеев. Если на них падает отблеск единичности, тем возводя их обновленный эйдос в область всеисполняющей уникальности, то происходит это исключительно вследствие их свободной избранности. Недопустимо понимать эйдос избранного (а избранными в конечном итоге являются все, как отдельные личности, так и народы) как нечто изначально сформированное ввиду последующего избрания (а значит, заранее исходя из этого избрания) Это верно несмотря на сказанное выше о том, что само творение определено страстным подвигом Искупителя, из чего следует не только предопределение к избранности, но и само сущностное содержание избранных. Если перепрыгнуть через ступень собственного сущностного содержания твари, то все сведется к некоему «панхристизму», приравнивающему благодатное событие вочеловечения Бога к космологическому процессу гностического толка. .
Б. Внутреннее напряжение эйдоса и церковные состояния
Возвышение главы возвышает благодаря ее божественной сущности и тварную природу членов: «Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех. И что Он видел и слышал, о том свидетельствует» (Ин 3, 31−32). Однако то в человеке и в истории, что поднимается «снизу», должно подчиниться этому свидетельству и позволить своему имманентному эйдосу расшириться до размеров трансценденции главы. Отсюда возникает то, о чем в общих чертах было сказано уже во «Введении»: переход внутри самого эйдоса. Этот последний может быть либо отмирным эйдосом, устремленным к окончательному осмыслению во Христе, либо эйдосом, который (в Христовых избранниках) преображается в уникальность Христа; при этом, аналогично тому, как это происходит в самом Христе, всемирномножественное целиком превращается в функцию уникального. Это мощное напряжение, которое пронизывает мировой эйдос своей сквозной управляющей силой и которое впервые должно разрешиться в исполнении Божьего Царства, не может быть сглажено, — тем более что оно неизбежно должно быть представлено в самбй зримой структуре Христовой Церкви двумя христианскими состояниями: «при Христе» и «в мире». Оба эти состояния глубочайшим образом взаимосвязаны, внутриположны друг другу и нераздельны; оба, обретая свой смысл в Христовой любви, взаимно замыкают друг друга. И все же они нетождественны. Здесь их взаимное отношение может быть истолковано лишь в той мере, в какой этого требует историкотеологический подход. Христианская и историческая экзистенция с теологической точки зрения раскладывается по двум полюсам и выступает (1) как экзистенция избранности, поручающая свой эйдос правящему распоряжению Христа, с тем чтобы потом вновь получить его обратно в качестве миссии и поручения по установлению Царства Божия в мире, и (2) как экзистенция, которая принимает свой тварный эйдос, но все время держит его в соотнесении с возвышением и исполнением во Христе. Обе эти экзистенциальные формы, делающие зримым напряжение между природой и сверхприродным, но также и запечатлевающие крест в самой структуре Церкви, не могут расколоть единство христианской экзистенции как веры, любви и надежды. Поскольку же надприродное репрезентирует себя в образе первого состояния, то дух этого первого состояния и его внутренняя форма должны насквозь определять собою всю форму «мирского» состояния (ср.1 Кор 7, 29−31). В этой communio Духа необходимым образом коммуницируют между собой также и внешние формы состояний: они подчинены функциональному Павлову «закону о членах Христова тела», который, поскольку члены тела Христова суть личности, действует как часть закона о царской брачной любви. Лишь при таком условии обе указанные стороны могут быть описаны по отдельности.
В. Эйдос в трансцендентном. Божественное состояние
Рассмотрим сначала трансцендентный аспект, находящий свое выражение в христианском основополагающем акте веры, любви, надежды и репрезентируемый в церковном «состоянии при Христе». Здесь человеческое естество захвачено обаянием уникального. Освобождено от неволи греха и от разрушительного греховного плена в круговороте рождений и смертей. Освобождено ради уз ученически-невестного последования, ради единящей Христовой тайны Креста и Воскресения. О человеке, захваченном таким выбором (целиком или отчасти) можно сказать, что свою форму экзистенции он подчинил экзистенции Христа. Как Христос жил во времени — открыто, доверчиво, без забот и планов, не делая попыток упредить волю Отца, но просто в вере, надежде и любви к Богу и людям — так должен жить и ученик. Он должен оставаться во времени и не пытаться возвыситься над ним. Пребывать в постоянной готовности уловить знаки времени и стоящее за ними послание, а также, избегая титанизма, стремиться сообщить времени свой собственный, самостоятельно изобретенный смысл. Принимать содержание и толкование своей жизни, а равно и своего времени, как ежеминутно получаемый подарок Бога и не пытаться по-прометеевски овладеть всем этим. Знать, что базисная структура экзистенции, в которой только и раскрывается смысл и становится событие, есть разламывающее вскрытие человека навстречу Богу: вера и надежда. Лишь на долю такого отношения выпадает миссия, а милость ниспосылаемой миссии есть всегда исчерпывающий, всегда преизбыточный смысл исторического «теперь». Такое раскрытие составляет жизнь христианина. Восприятие всегда новой божьей истины не заслонено у него схемами и предрассудками, будь то светскими или духовными: они порождены днем вчерашним и, сколь бы справедливыми ни были они вчера, сегодня они для него невозвратимы и недостаточны. Отношение Церкви и христианина к жизни Сына подобно отношению Сына к воле Отца: оно тоже в известном смысле по-женски восприимчиво. Излияние семени Бога (1 ИнЗ,
9) в лоно мира происходит в самом сокровенном из покоев истории. Но принятие и зачатие совершается в крайней заброшенности и оставленности. Отказ от всякого расчета составляет неотъемлемую часть этой «полноты времен». Поэтому «переполнять», «преиз — быточествовать», «наделять сверх меры» (nepiaacvav) суть главнейшие слова Павловой теологии. Как раз в средоточии мужского разума, который спонтаннотворчески набрасывает контуры своей работы, сокровенно правит женственная тайна, которую мирская мудрость всегда смутно угадывала в инспирации сокровеннейшей области сердца («внутреннем голосе», музе, божественном Духе). Человеческий дух может распространить свое господство вовне лишь если сделается рабом по отношению к своему внутреннему, но в этом горьком и безропотном служении заключено его достоинство и высшее наслаждение: в самом ядре подневольного житейского разума осуществляется не — вестное таинство (что глубочайшим образом осознавал Карл Шпиттелер). В области естественного эта тайна яснее всего выступает в тех привилегиях, которыми наделен художник, хотя не следует принимать их слишком уж всерьез; лишь сверхприродное наполняет эту тайну подлинным смыслом, поскольку соединение «по плоти» человечества с актуально присутству-ющим Богом непостижимым образом осуществилось в категориях эроса, во исполнение того, что задолго до того было воспето в Песни песней как состояние невестной обрученности. Церковь, равно как и душа, воспринимающие семя слова и смысла, могут способствовать его росту лишь в женской открытости и готовности, не противясь, не сжимаясь и не препятствуя его проникновению, т. е. вообще не оказывая никакого «мужского» противодействия, но отдаваясь в полной темноте, зачиная в темноте, вынашивая в темноте, ничего в точности не зная о понесенном плоде, которому предстоит рождение. Это незнание, как прообраз нежелания знать, свойственного Сыну, а также особой благодати его вочеловечения, является предпосылкой для всего, что заслуживает называться христианским гнозисом в вере.
Женщина произошла от мужчины, и жена в браке бывает в конечном итоге воспитана и сформирована мужем. Через то, что он ей дает, она становится матерью, зреет изнутри ее тело и дух, достигая своего предназначения. Она является для мужчины физическим, хранительным телом и лоном, он же для нее — лоном духовным, в котором живет и возрастает ее сущностный образ. Христианин и Церковь обретают свой эйдос, пребывающий в Женихе Христе, тем, что принимают в себя и хранят волю Отца — семя его вочеловечившегося Слова. Семя благодати, которая является и семенным началом миссии, а значит — началом формирующим и раскрывающим. Только при выполнении миссии может назреть момент, когда достигается — благодаря благодати воплощенной в жизнь веры — (христологически) идеальная пропорция между требуемым и совершенным и тем самым преодолевается трагедийность, которую исторический человек всегда воспринимает как разрыв между идеальным и реальным. Дарованное — но и достигнутое самим человеком соответствие божественной всемирно-исторической воле — и есть бытийное и действенное ядро мировой истории.
Эта сокровеннейшая тайна не остается без видимого свидетельства. Чем больше человек пытается заменить чем-то эйдос, данный ему благодатью, или смешать его с самоизобретенным эйдосом, тем слабее, бледнее, ничтожнее выглядит то в его жизни, что способно обрести образ. Чем слабее прорастающий мирской образ укоренен в глубинном образе Иисуса Христа, тем больше он превращается в «дерево, сено, солому», которые будут пожраны эсхатологическим огнем Страшного суда (1 КорЗ, 12−13). И напротив, чем с большим самоотвержением человек предстает перед Богом, чем меньше он забегает вперед, иными словами, чем теснее он связан со временем, тем более значимые образы вызревают с течением времени из его экзистенции, образы, которые по своей насыщенности и символичности превосходят все, чего можно достичь с помощью самоформирования и самораскрытия. Так, в пространстве истории нет ничего более значимого и «говорящего», чем жизнь Марии и составляющие ее моменты: встреча с ангелом, затруднения в отношениях с Иосифом, рождение Иисуса, бегство, необходимость скрываться, расставание с Сыном, Кана Галилейская, отказ Иисуса от матери во время проповеди, крест и снятие с креста, Пасха и Пятидесятница, скрытая для мира дальнейшая жизнь у Иоанна. Каждый из этих моментов (большие пробелы в повествовании тоже составляют необходимую часть картины) есть сам по себе концентрированное повествование. Ничто из перечисленного Мария не смогла бы заранее предугадать или представить в мыслях, ни к чему такому она не стремилась в душе и не пыталась сама воплотить. Все эти образы суть чистые дары свыше и лишь в качестве таковых они — наиболее полное и личностное осуществление ее жизни. Данное ей поручение есть не что иное, как абсолютное самоотвержение и покорная безмятежность. Но в руках Бога эта ее готовность превратилась в драгоценный материал, из которого был сформирован совершенно непредвидимый образ.
В этом самоотвержении Марии, которое здесь описано лишь как высший образец для всякой вообще христианской и человеческой позиции по отношению к Богу, нет ни малейшей пассивности и резиньяции. Напротив, оно требует активизации всех сил человека, напряженного отстранения всего, что могло бы затуманить чистое приятие божественной вести и божественной субстанции и такое же чистое их проживание. Тот, кто может вынести это до конца, оказывается подлинным победителем. О «пребывании» постоянно говорит Иоанн (Ин 5, 38; 6, 57; 8, 31.35; 15, 4−5.6.9.10.16; 21, 22; 1 Ин2, 6.17.24; 3, 14.17.24; 4, 12.13.15.16). Это — пребывание в терпении, не колеблемом никакой нетерпеливостью воли (будь то воля к действию или страданию) или отказом вынести мировой ход вещей, — но лишь растущем и крепнущем благодаря нетерпению упорного ожидания, выраженному возгласом: «Приди!» (Откр 22, 17). Пребывание, которое вбирает в себя все образотворческие силы человека: продуктивность, творческую изобретательность, техническую и художническую гениальность. Лишь под постоянным прессом этого пребывания и эсхатологического упорного ожидания образ человека обретает чеканность и четкий контур. Лишь актуальное присутствие Единственно Необходимого может оправдать и искупить роковое рассеяние во многом, столь для нас горестное. Поэтому такой порядок должен править не только во всякой жизни, исполненной веры, но твердо господствовать и в Церкви. Молящиеся и отрешенные, выбравшие тишину и высоту (о чем так достоверно пишет Райн — хольд Шнайдер), держат на своих плечах вершащуюся историю. Они имеют часть в Христовой уникальности, в этой неуловимой, первозданной и безмятежной свободе благородного достоинства, даруемого свыше, — первого, что заключает в себе оправдание всякого вообще достоинства, и последнего, что осталось у нашего лишенного благородства времени. И все же христианин отрешенный и христианин, участвующий в формировании мира, всегда идут рука об руку. Ведь христианин, погружен ли он в молитву или занят активной деятельностью, послан в этот мир вместе с Христом и всегда находится в пути. И это радикально отличает его от сторонящегося истории мистика или монаха азиатского Востока.
Эсхатологическая тоска переродится в безделье (2 Фес 3,11), если не подчинит себе всю деятельную энергию человека, все его планы и намерения (1 Фес 4, 11; 2ФесЗ,
12). И точно так же «пассивная мистика» превращается в квиетизм, если не пройдет испытание действием, вернее, не поставит свои активные силы на службу пассивного самоотречения. Между вершиной исторического процесса, которая в Царстве Христа возносится над всеми человеческими ситуациями, и широким подножьем этой вершины, охватывающим всю полноту этих ситуаций вместе с их историческими, социологическими и психологическими предпосылками, необходимым образом располагается целый континуум состояний. Закон вочеловечения предполагает, что смысл истории не накладывается на нее откуда-то сверху и извне, словно печать (подобный принцип «извне и сверху» означал бы изолированную трактовку христологической истины), но вырастает из нерасторжимой связи судеб Бога и внутренней смысловой ориентации истории. Поэтому теперь необходимо очертить контуры этого имманентного исторического смысла, проистекающего из тварной природы и потому от нее неотделимого, чтобы затем свести его в единое целое со сверхприродным смысловым содержанием.
эйдос апокалипсис иисус христос
Г. Эйдос в имманентном. Мирское состояние
Прогресс вертикальный и горизонтальный
Платон усматривал сущность человеческого земного бытия в том напряжении, которое имеется между вечным фоном-основой и временным процессом, протекающим на этом фоне, причем временнбе исхождение экзистенции на свет осмысляется им как удаление от истока и забвение основы, а протекание экзистенции — как интериоризация и усиление тоски по этой основе. Аристотель углубил платоновскую мифо-исто — рическую трактовку исторической сущности и вместе с тем лишил ее драматизма, введя описываемую сущность в онтологическую структуру напряжений между dvva/Jtg и ivipyaa. Оба подхода показывают, что истолкование экзистенции не может обойтись без понятия прогрессаНеобходимо заметить, что в немецком языке слово Fortschritt, переводимое как «прогресс», имеет внутреннюю форму: «шаг вперед». Таким образом, в данном контексте понятие прогресса ассоциируется с необходимостью «принять решение», «сделать решительный шаг». (Прим. пер.): для Платона продвижение вперед в земном плане означает изначально исполненный трагизма шаг прочь с небесной родины, при этом, однако, утрачивается понятие естественного «разворачивания-разви — тия»; Аристотель же, напротив, рассматривает процесс реализации потенциального как результат развития изначально «свернутого», но при этом его мало интересует непроясненная суть исходной точки экзистенции.
Без применения категории «прогресса» (шага-впе — ред, Fort-schritt) невозможно было бы истолковать исторически зависимый от времени образ человека. То, в чем греки, а позднее идеалисты видели «процесс» реализации потенциального, даже антипро — гессистские теории способны истолковать лишь радикальным и как бы «сокращенным» образом — как «решение», «прыжок», будь то из царства возможного («эстетического») в царство действительного («этического») (Кьеркегор), или из царства несобственного, характеризующегося (платоническим) забвением бытия, в пространство собственного, т. е. в открытость бытия (Хайдеггер). В основе этого всегда наличествует «шаг», «поступь». Само понятие «смысла» сводится к «путешествию», «стремлению», «перемещению» (др. — в. — нем. sinnan). Человек обретает о-пыт лишь в путиНекоторое звуковое сходство корней в этих двух русских словах, к сожалению, лишь внешнее. В немецком параллель этимологическая: Fahrt (путешествие) — erfahren (узнавать, испытывать). (Прим. пер.). Подобный корень в индогерм. sent дал лат. sent — ire «чувствовать, чуять» и фр. sentier «тропинка, стезя», которую, чтобы двигаться по ней, следует «унюхать, учуять». Вопрос состоит лишь в том, чем же является такой опытно познанный смысл? Путь-бег когда — нибудь прекращается, значит ли это, что он заведомо ведет к смерти? Если же смысл бесконечен (а это именно так), каким же образом этот конечный путь — бег может заключать в себе бесконечный смысл? Последний смысл, заложенный в беге времени, остается непроясненным как для отдельного человека, так и для истории в целом. Если этот бег понять как концентрированное выражение аристотелевского развития (подобно раскручиванию свернутой пружины, дающему выход силе и действию), то указанная непроясненность раскрывается снова по-другому: осуществление — это всегда смысл (как развитие цветка из корня, плода из цветка и т. д.), однако оно всегда сопряжено с утратой потенциальной силы, источник которой теперь разряжен, исчерпан и мертв. И это относится ко всему: к отдельному человеку, к народу и культуре.
Эта непроясненность природы прогресса не позволила в дохристианскую эпоху развернуть историческую концепцию, которая решилась бы однозначно истолковать бег времени в терминах прогресса. Что касается платоновского учения о коренной связи между отпадением и последующим приближением к (небесному) источнику, то оно, скорее, является философским наследованием мифологических и религиозно-политических представлений о бытии, зародившихся в высоких культурах раннего периода. Сверху вниз на землю нисходит спасение (закрепляемое союзом с богом данного народа или встречей бога и народного правителя), позволяющее избежать плена судьбы, материи или царства смерти и обеспечить себе (какими угодно магическими и сомнительными средствами) прочное место в царстве света. Этот «шаг вперед» (прогресс) с земли на небо, от смертного распада к родству с богами, это (столь потрясшее древние народы) распрямление образа человека, поднявшегося из горизонтального животного состояния к вышнему эфиру — все это составляло основное содержание опыта высоких культур двух или трех тысячелетий до прихода Христа. Земные победы и завоевания были приурочены к тем или иным местам на земле лишь как знаки проявления божественной милости.
Именно в этот период прорыва, крайне важный для всего человечества и его природного земного пути (Ясперс называет его по этой причине осевым временем всемирной истории: все, происходившее ранее, лежит ниже горизонта этого прорыва, все более позднее является его следствием), укладывается в библейский опыт-познание. Этот опыт впервые опрокидывает вертикальное толкование истории, придавая ему горизонтальное направление; тем самым полюс Бога, прежде находившийся «вверху», существенным образом переносится во временное будущее. Теперь люди ждут Бога в истории, он придет и будет вершить суд на земле, и все непроясненное и сомнительное станет несомненным. Вся динамика истории еврейского народа устремлена к будущему, заключающему в себе абсолют. Во всех своих перипетиях, также и в христианскую эпоху, эта история сохраняет нечто от безусловности. За почти смехотворно короткий срок (менее двух тысяч лет) Яхве поднял этот народ из плоскости общего переднеазиатского мифа до кульминационной мировой идеи — вочеловечения Сына Божия. Все категории общей религиозной философии и истории вновь востребованы в Израиле, в очищенном и развитом виде. И при этом все они соотнесены с уникальным, которое их полностью преображает, кладет на них печать смысла, который по существу является божественным и начинает все менее и менее нравиться одному из партнеров по союзу-завету — человеку. Израиль не сам делает шаги по ступеням прогресса, его приходится тащить по ним за волосы, против его воли, преодолевая все большее сопротивление. На каждой ступени он снова и снова пасует перед Богом и в итоге почти полностью лишается своей субстанции, чтобы лишь в качестве «остатка» достичь наконец обетованной земли Христа. Те приговоры, имеющие характер квинтэссенции, которые выносит Господь как последний пророк Отца, лишь подтверждают то, что стало реальностью уже при Иеремии: избранный отвержен. И лишь когда Христу как единственному избраннику Отца пришлось понести всю тяжесть человеческой отверженности, он снова резко — и уже окончательно — «выворачивает руль» и освобождает сначала неизбранные языческие народы и затем — в эсхатологической перспективе — первоизбранный священный стебель (Рим 9−11). Ибо к нему раз и навсегда была привита священная история, и без него Новый Завет невозможен и непонятен.
Ступени Ветхого Завета, ведущие от Авраамовой веры к Закону Моисея, к харизматическому судье, царю, пророку, суть ступени интериоризации и усвоения человеком божественного откровения. Поскольку Бог неуклонно идет по этому пути, то человек благодатно принуждается исполнить и усвоить последнюю истину, вписанную в историю Израиля.
Если он не хочет делать этого своей свободной волей, то воспитательные воздействия — суд, изгнание, отвержение — подталкивают его к этому. Грех, который первоначально был внешним, искупаемым по закону преступлением, теперь становится внутренне переживаемым падением в бездну, которое в конечном итоге может быть искуплено только «рабом Божиим». В пророке, равно как в авторе и герое псалмов, Дух Божий приучается жить вместе с человеком (что особенно подчеркивали Отцы Церкви). Слово Божие, обращенное к человеку, направляется пророком — т. е. человеком (пусть не обычным, а облеченным особой миссией) — в гущу таких же людей, связанных нравственными, политическими и социальными узами; оно есть одновременно слово Божие и человеческое. И человеческая молитва, которая в псалме восходит к Богу и сначала воспринимается как ответ человека Богу, теперь делается столь глубокой и непреложной, что может стать одновременно словом самого Бога. Рамки ипостасного союза, таким образом, заданы. В облике раба Божия и, более конкретно, в облике Иова почти совсем отчетливо проступают черты Распятого. С высоты эпохи пророков можно оглянуться на эпоху обретения обетованной земли: ностальгически вспомнить «дни юности» (Ос 2, 15), «когда Израиль был юн» (Ос 11, 1) — но и прежние грехи (Пс 78; 105; 106), за которые благочестивому остается лишь просить у Бога совокупного прощения (Вар 1, 2; Неем 1, 5сл.; Дан 9). Снизу вверх, в исторически стадиальном молитвенном путешествии к Священному Граду (под пение псалмов, знаменующих ступени восхождения), под водительством действующего изнутри Святого Духа, святой народ оказывается на путях, в конце которых угадывается Кумран, и далее — Елизавета, Иоанн, Иосиф, Мария и их Сын.
История Израиля, будучи по существу предысторией Христа, является неповторимой, как сам Христос. Эта предыстория нужна ему, чтобы в подлинном смысле обрести историчность. Но он может включить историю в свою собственную экзистенцию лишь в той мере, в какой она сделается священной историей — пусть даже в ней действует достаточно большое число грешников. Доказательство божественности миссии Христа — поскольку он одновременно является Богом и человеком — может быть выстроено как вертикально, так и горизонтально. Вертикально, так как он сам, его слово и его земное существование достаточны, чтобы дать расслышать в его учении голос Отца: верующий различает в одном слове два свидетельства (Ин 8, 17−18). Однако «скачок», который закоснелый рассудок не хочет различать в христиански-новом, может также быть истолкован в горизонтальной плоскости — как завершение длинной, со ступени на ступень «прыгающей» истории. Тот, кто хочет быть иудеем и сыном Авраама, логически должен совершить прыжок ко Христу. Обетование и исполнение предстоят друг другу, как части исторического диптиха, доступные всякому человеку для чтения и сравнения и включающие два основных элемента природы и истории как таковых: «полярность и возвышение» (Гете). Полярность мира (всех дел Всевышнего — «по два» Сир 33, 14) — и головокружительное возвышение мира ко Христу. И одновременно это возвышение — благодаря искусству мирового Архитектора — может быть истолковано в образе истории.
Д. История спасения в профанной истории
История Израиля, насчитывающая всего несколько столетий, на всем своем протяжении является двухслойной. Над уровнем профанного развития, в продолжение которого этот народ, зажатый между огромными государствами, совершает восхождение от мистически приуроченного времени к греческому — а позднее общеэллинскому — универсальному разуму (который ведь не просто является в последней фазе Библии, но решительным образом вступает в ней в свои права), происходит совершенно другое, крутое восхождение, которое ведет к уникальности Христа. Но если мы рассматриваем приход Христа как наступление «полноты времен» в системе истории спасения, то возникает трудный и для теологии весьма важный по своим последствиям вопрос: имеет ли другая, профанная история, протекающая в нижнем слое параллельно Израилевой, — имеет ли она также какое бы то ни было отношение к этой исторически достигнутой «полноте»? Для Гегеля, признававшего только одну историю, являющуюся одновременно профанной и сакральной, утвердительный ответ на этот вопрос был бы очевиден. Равно как и для тех христианских теологов истории, которые вслед за Иустином и Евсевием (Praeparatio Evangelica) с содержательной точки зрения допускали конвергенцию времени язычников и времени иудеев в общем процессе становления человека. Но не вкладывается ли тем самым в историю откровения нечто такое, чего там нет, что явным образом противоречит положению о том, что (циклическое) время язычников не правится по Христу. Современная протестантская теология истории приложила немало усилий, чтобы восстановить трансцендентность процесса становления человека во всем его изначальном библейском величии, освобождая его от всех профанно-исторических связей. «Наличие связи между историей спасения и мировой историей недоказуемо во всемирно-историческом плане и не выводимо из веры. Фактическая встреча „августианского Рима“ с „Христом“ сама по себе еще не исключает для верующего разума того, что Бог может открыть себя за тысячу лет прежде или через две тысячи лет после этого: в наполеоновской Европе, сталинской России или гитлеровской Германии — если Богу так угодно. Поскольку же события истории спасения — как изначально, так и в конечном итоге — не имеют никакого касательства к царствам, нациям и народам, но только к спасению каждой неповторимой души, то ниоткуда не вытекает, что христианству нельзя быть совершенно безразличным ко всем историческим различиям» (Karl Lowith, Weltgeschichte und Heilsgeshehen).
В принципе, из сказанного можно было бы вывести иное представление о связи между профанной историей и историей спасения, правда, лишь в качестве гипотезы, нуждающейся в более тщательной проверке, для которой здесь нет места. Речь, однако, надо вести не о сопоставлении и гармонизации двух отдельных величин: библейского и всемирно-исторического событийного ряда (прогресса), из чего, судя по всему, исходят все историко-теологические построения протестантского типа. Речь идет о собственно теологическом, собственно библейском утверждении, что «воспитание человеческого рода», которое Бог первоначально предпринял на примере Израиля, при всей своей особой характерности, использует всеобщее «развитие» как транспортное средство, двигающееся, в буквальном смысле, по восходящей линии, причем использует для достижения своей собственной, совсем особой цели. Это относится не только к «форме откровения», которое в «мифологический» период жизни еврейского народа принимало соответствующие, понятные для людей формы (можно вспомнить об откровениях в эпоху патриархов или во времена скитаний в пустыне), ставшие почти «рациональными» в более поздние, эллинистические времена. Данное утверждение верно и в том смысле, что прогресс откровения по сути состоит во внутреннем усвоении изначально и всегда актуально присутствующего Бога, так что продвижение вперед свойственно скорее человеку, чем Богу.
Восходящий свет над Израилем и его усугубляющимися несчастьями лишь углубляет осознание его представительской функции среди прочих народов: для Израиля подверженность Божиему суду находится в диалектическом единстве с обретением спасения. Может ли для других «народов», призванных к суду пророческим словом Бога, дело обстоять иначе? Не должны ли все эти «народы» вновь быть приведены к Авраамову имени и к родству с ним? И не остается ли всемирная история — несмотря на все разобщения — все той же историей Авраамова рода? А именно — как подчеркнет Павел — историей рода явно и скрыто верующих? Причем не только для отдельных верующих как личностей, но и для народов как таковых, которые, начиная от Книги Бытия и кончая Откровением, фигурируют в истории Спасения как качественно определенные величины. «Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской, и Филистимлян — из Кафтора, и Арамлян — из Кира?» (Ам 9,7).
Из всего этого, конечно, невозможно сконструировать теолого-историческую концепцию в стиле Гегеля, который рассматривает стадии развития профанной истории в одной плоскости со ступенями ветхозаветной священной истории и тем самым помещает свою синтезированную метафизику истории по ту сторону философии и теологии. Здесь можно с осторожностью утверждать лишь то, что кайрос становления человека, к которому (кайросу) явным образом сводится история Израиля, является кайросом не только для Израиля, но и для всех «народов», и что Израиль при этом обеспечивает конечную неразрывность истории спасения и мировой истории, хотя в плоскости истории народов эта неразрывность скрыта вплоть до Страшного суда. Когда Бог до конца использует «транспортное средство» исторического прогресса (шагания-впе — ред) (вместе со всей его непроясненностью), чтобы достичь своей абсолютно иной [чем у исторического прогресса] и абсолютно ясной цели, тогда эта «повозка» (используя индийское выражение) как целое будет отличена тем, что Бог воспользовался ею для своих нужд, а именно, для доставки благодати. Дальше теология истории в этом направлении продвинуться не может. Противоречие этой мысли с понятием «осевого времени» истории как времени решающего духовного прорыва, произошедшего до Христа, разворачивается уже совсем в другой плоскости, и здесь любой полученный вывод не сможет превзойти даже самую слабую из своих предпосылок.
Е. Полнота и прогресс
Христианская эпоха определяется событием Христа: полнота достигнута, вера в ошеломлении останавливается перед чудом, вознося ему поклонение. Само время кажется остановившимся, наступает «безмолвие на небе как бы на полчаса» (Откр 8,1). Тысяча лет и более посвящается созерцанию; христология, учение о троичности полностью поглощают верующую мысль. То, что принес Христос (самого себя), является абсолютным, окончательным и никоим образом не может быть преодолено временем. Христос, полнота, пришел в конце времен, непосредственно перед обращением в вечную жизнь, и все предшествующее начинает восприниматься как захваченное единым потоком прогресса, устремленным ко Христу. Поскольку что касается древнейших времен (Библия практически играет роль книги профанной мировой истории), то эта история и история спасения почти полностью совпадают, и шесть «эпох» человечества в перспективе седьмой, христианской, предстают как ветхозаветные, населенные «по периферии» различными «народами». В августиновом «Граде Божием» на мгновение разверзается бездна между профанной историей и историей спасения, чтобы затем снова уступить место исходной гармонии единой культуры средневековья. Даже попытка прорыва и преодоления зона Христа, принадлежащая Иоахиму Флорскому, который провозгласил эон Святого Духа, еще только долженствующий вступить в силу, — даже эта попытка, несмотря на все ее побуждающее воздействие, остается лишь эпизодом. Церковной мысли не хватало еще исторического пространства для подобных выводов.
Лишь многократные сломы, которыми изобилует новое время, впервые подорвали этот первоначальный наивный синтез — в том, что касается профанно-исторического измерения и его природы. С одной стороны,
в древнейшей истории человечества обнаружились такие временные горизонты, что основной христологический факт применительно к ним еще больше закрепился в своем завершающем качестве. С другой — история в высоком смысле начинается лишь после прорыва, завершившего последние предхристианские тысячелетия. В этом смысле Христос предстает как начало и основание решающего духовного сражения, которое должно исполнить историю, и тогда короткая история Израиля начинает выглядеть почти как частная семейная хроника. И все же: если иудейский порыв устремлен в будущее человечества, где должно состояться мессианское чудо — прыжок из царства необходимости в царство свободы, то для христиан эта свобода всегда непосредственно доступна, заключена в непревосходимой полноте, и, какой бы то ни было, прогресс человечества может осуществляться лишь в присутствии (napovaia) последнего и абсолютного, т. е. эсхатона истории, который никаким восхождением невозможно аппроксимировать, тем более — достичь или превзойти. Всякое новое духовное завоевание должно соизмерять себя с этим внутриисторическим абсолютом, который поэтому все сильнее выбивается из мировой и культурной истории как некий вызов, и не только незримо-сущностно, но также зримо и наглядно «все притягивает к себе», диктуя (в силу своего превосходства) темы мировой истории и побуждая (в силу своей абсолютности) к выбору между последним «да» и последним «нет». Именно поэтому нельзя вести речь о конвергенции и окончательной гармонизации мировой истории и истории Царства Божия. Скорее, дело обстоит по притче: пшеница и плевелы растут одновременно, поскольку растущая моральная ответственность исторического и культурного человека перед самим собой, равно как растущая ответственность верующих за наследие Христа перед Богом ведут ко все более острой необходимости решающего выбора.
В действительности, само представление об эволюционном развитии проникло в теологию в XIX веке в ходе общего развития секулярной эволюционистской мысли — как следствие церковно-ортодоксальной рецепции наследия Иоахима. Сегодня принято говорить о догматическом развитии, при этом указывают на то, что Церковь вправе — посредством созерцательного размышления и под просветительным водительством Святого Духа — предпринять развертывание переданных ей через откровение тайных «сокровищ премудрости и ведения» (Кол 2,3). Нужно лишь заметить, что этот прогресс теперь уже не является собственно (объективным) откровением, как обстояло дело в Ветхом Завете. Если тогда логическое продвижение к цели было стадиальным, то теперь, когда абсолютная полнота уже достигнута, истолкование может нескончаемым потоком двигаться по кругу, свободно и неподвластно принуждению, заложенному в развитии как таковом. В ней есть нечто от спокойно-отрешенной свободы Иисуса по отношению к традиции, которую он исполняет, от свободы Святого Духа по отношению к ситуативному содержанию мировой истории. Вполне может быть (как показал Вальтер Дирке в своих глубоких сочинениях), что даруемые Святым Духом кайросы церковной истории — как, скажем, явление великого святого или другое важное духовное послание — содержат (упреждающие) ответы на настоятельные вопросы мировой истории. Отсюда, однако, совершенно нельзя вывести никакой систематической взаимосвязи, никакой жесткой зависимости между истолкованием откровения и самоистолкованием человечества на протяжении его истории. Хотя неисчерпаемая сокровищница христианской истины всегда находится под рукой, всегда открыта, чтобы выверять по ней свое самоистолкование и прибегать к ней для принятия верных решений, все же самую существенную роль играет жизнь Церкви и ее Главы, осиянного славой, и эта жизнь совершается выше плоскости прогресса.
Конечно, это все же не отделяет судьбу человечества от христианской истины. Именно под солнцем Абсолюта как идеи и истины христианской любви процветает все, что человек может исторически развернуть в силу заложенных в нем возможностей. Эта истина внутренне одушевляет исторически развиваемое или, где это невозможно, правильным образом наружно его поляризует. Трансцендирующее историю содержание и ядро Церкви есть то последнее, что Творец даровал человеческой истории, чтобы изнутри привести ее к самоосуществлению. Образ «полярности и возрастания», который запечатлен в диптихе объективного откровения, объединяющем «прогресс» (Ветхий Завет) и «всепревосходящую полноту» (Новый Завет), — этот образ становится для истории основополагающим и развертывается из своего средоточия — вовне, причем развертывается в аналогических формах, напряженно соотнесенных с этим средоточием. Чтобы усмотреть этот образ в его подлинном виде, необходимо уяснить центральный тезис Павловой теологии истории: исполнение во Христе Божиего завета с Израилем есть одновременно снятие особого отношения к Израилю ради всех остальных народов, которые прежде были «чужды заветов обетования» (Еф 2,12), отныне же, через вочеловечение и крест, «стали близки» (Еф 2, 13). «Ограда», отделяющая про — фанную историю от истории спасения, кончается там, где Слово уже не звучит пророчески с неба, но становится плотью, т. е. человеком (этот момент продуман Гегелем, быть может, с наибольшей глубиной). Ибо, когда Бог в своей абсолютной уникальности не желает для выражения себя самого пользоваться никаким другим языком, кроме лучшего своего творения, человека, — тогда не один какой-то народ, но все человечество целиком становится затронутым этой речью. И точно так же человечество может лишь как единое целое быть искуплено и освобождено Богом «в Его плоти» и «в любви» (Еф 3, 12−18). Исполнение (ветхозаветной) истории с необходимостью свидетельствует о ее снятии ради народов, окружающих Израиль, — снятии, которое поэтому было в ней изначально подразумеваемым, чаемым и изнутри направляющим. «Разрушение ограды» — это снятие разницы между обособленной («исторической») историей спасения и общей профанной историей: после Христа вся история становится принципиально «сакральной», и не в последнюю очередь — благодаря свидетельствующему присутствию Христовой Церкви внутри единой и всеобщей мировой истории. Таким образом, это основополагающее соотношение содержит внутри себя еще и другое, нашедшее выражение у Павла в том, что он объединил две веры, иудейскую и языческую, в личности Авраама, еще не связанного никаким законом (Рим 4). Зримый образ истории спасения, к которому Павел относит также «Христа по плоти», теперь снят смертью и воскресением Христа; «древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5,16.17). То, что с земной точки зрения виделось поразительной отвагой — бросить языческий мир, непричастный (иудейской) традиции, в полноту времен (это и составляло предмет спора апостолов и первого собора) — заслуживало риска, поскольку после этого изменился весь исторический фон: теперь существует лишь одна мировая история и ее трансцендентно-имманентное исполнение в Господе. А потому становится возможным добавить к двум первым отношениям третье, и для этого имеется по меньшей мере одно основание и оправдание, которое находим в Рим 8.
То, что в древней философии и мистике всегда рассматривалось как место изгнания и рабства, — материя, от которой дух должен был освободиться и оторваться, эта самая материя приобретает в глазах нашего времени совсем другой образ. Она становится иерархически упорядоченным царством последовательных, постепенно развивающихся (неизвестным нам пока способом) жизненных форм, внутренне ориентированных на некую высшую форму, человека, который (онтогенетически) компактно сочетает в себе все природные формы, увенчивает их собой и транс — цендирует. Царь творения не является чужим в своем собственном царстве, он не просто посажен на царство свыше, — он есть одновременно и тот, кто поднялся по восходящим ступеням предваряющих форм и тем самым впервые связал между собой в бытийном плане все эти формы, открыв для них возможность взаимного сообщения. Теперь мы вправе сказать: природа, стоящая ниже человека, и естественная история относятся к человеку и, соответственно, к истории человечества, аналогично тому, как Ветхий Завет относится к Новому Завету. В обоих случаях мы видим ряд шагов, уводящих от прежнего состояния, и в конечном итоге — прыжок в новое состояние. И в обоих случаях динамика прогресса в идеальном плане питается той энергией, которую еще только предстоит достигнуть. Но поскольку человек, первый «Адам от земли», изначально создан ради второго Адама, то мир и человек совокупно могут быть радикальным образом охвачены единым божественным планом спасения (Рим 8, 19−22), который зародился не только в борьбе Израиля с Богом Отцом за Израиль, не только в борьбе (лаку означает гимнастическую борьбу, Еф 6,12) Церкви с Богом Сыном за Церковь, но в борьбе всей истории человечества и даже космической истории — при со-ратничестве и со-воздыхании Святого Духа (Рим 8, 23.26). И эта борьба космоса за обретение Бога и борьба Бога за обретение космоса (см. Exerzitienbuch Nr 236) никогда не обрела бы своего величия, если бы в ней, с крайним имманентным напряжением, не стремилась родиться на свет форма, которая превосходит собою все космическое. В истории есть имманентный эйдос, однако Христос, спустясь в ад и будучи затем вознесен на небо, взял его с собой, и история сможет снова обнаружить его там только в конце времен.
Ж. Рыцарь Апокалипсиса. Господь и его Невеста
Расширение истории человечества до размеров космической истории (что соответствует не только представлениям современных естественных наук и принципам диалектического материализма, но полностью совпадает с видением Павла и Тайнозрителя Апокалипсиса) неизбежно сопровождается вступлением в игру новых сил и расширением поля деятельности этих сил. Если материализм выводит развитие человечества из определяющих его социальных и экономических условий, то Новый Завет знает такие космические инстанции, влияние которых на историю человечества могло бы оказаться вполне зримым кошмаром, если бы не чудодейственный «палладиум», помогающий в борьбе с ними: живая вера в победу Христа. Павел обозначает эти инстанции такими словами, как biv&fxaq («власти»), tgovaiai («начальства», «сферы власти»), ар/си' («начала господства») и, возможно, awixcTa («стихии»). Он приписывает им бытие, родственное бытию ангелов, отчасти идентичное или сравнимое с этим последним. Эти власти, которые, наряду с другими факторами, являются движущими силами мировой истории, слишком глубоко укоренены в новозаветном мышлении о спасении, чтобы можно было объявить их всего лишь исторически обусловленными. Сколь прочно земное бытие пронизано этими потенциями, столь непостижимой остается для нас их сущность, состоящая в колебаниях между личной и безличной духовной силой, между добрым, злым — и безразличным, между мирскими, материальными — и надмир — ными, в известном смысле, нематериальными формами бытия (ср.1 Кор 15, 24; Еф 1, 21; 3, 10; 6, 12; Кол 2, 10.15; 1 Петр 3, 22). Абсолютно ясным остается лишь возвещение, что в нашем эоне некоторые области мира определены быть посредующими для этих властей, которые в конце времен будут целиком «выведены из строя», «низложены» {натруeTv).
Церковь вместе со всеми своими членами стоит на пороге нового эона, поэтому в своем сущностном ядре она неподвластна гнетущему давлению со стороны космических властей. Однако, поскольку она полностью разделяет с миром его историческую судьбу, она не может уйти от со-страдания миру в его бедствиях. Более того, поскольку она есть место, где совершается выбор в пользу Бога, то ярость «властей века сего» (1 Кор 2,6) направлена непосредственно против нее. Однако вера освобождает от рабства этим властям. Христианин во всяком случае освобождается от «мудрости властей века сего», «низложенных» Церковью, освобождается от власти дьявола (Евр 2, 14) и смерти (2 Тим 1,10), этого «последнего врага» (1 Кор 15, 26), который, хотя и продолжает пребывать в мире, но для Христа и для христиан уже не имеет силы (Рим 6, 8 — 11). Война «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего» (Еф 6,12), которую мы все же вынуждены вести, так как она нам объявлена (Откр 12, 17), есть война с уже побежденным и низложенным противником, поскольку вера должна устоять по самой своей сути. Точно так же в Апокалипсисе падение Вавилона объявлено как свершившееся (Откр 14,8) прежде, чем он вообще появился и проявил свою силу (Откр 17). И тем не менее это — совершенно реальная борьба, потому что она ведется собственно за веру и в ней принимает личное участие Агнец со своими «зваными, избранными и верными» (Откр 17, 14). Это — «брань», в которой враг всех человеческих сил терпит поражение (Еф 6, 12−13) и при этом приобретает масштаб противника Бога, Поскольку вызывает на бой его самого. Но человек также вынужден принимать участие в этой сверхчеловеческой брани не на жизнь, а на смерть (см. уже кумранский «Устав войны»), и то «всеоружие», в которое ему предложено было облечься, — Божие, ибо сам Бог воевал в нем еще в Ветхом завете (Еф 6, 11 = Прем 5, 17сл.; ср. Пс 34, 1сл., Ис 59, 17сл. и т. д.). Уже тогда Божие слово «несло острый меч», ибо «сошло с небес. на средину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин. оно касалось неба и ходило по земле» (Прем 18, 14−16). На этом месте даже теология истории начинает касаться своим теменем неба, и там, где человек, сколь бы отважен он ни был, теряет дар речи, Апокалипсис продолжает говорить и рассказывает о том, что звери дотягиваются до неба своими головами, ибо им было «дано. вести войну со святыми и победить их» (Откр 13,7) и как они, бесчисленные, «как песок морской», «окружили стан святых и город возлюбленный» (20, 7−8). В самой средине неба эта космическая битва обретает реальность непосредственного присутствия, и все существа, пав перед Невидимым, воспевают победную песнь столь мощно, что каждая строка книги буквально сотрясается от этой происходящей на наших глазах битвы.