СВИДЕТЕЛИ НА СУДЕ (Заметки и воспоминания судьи)
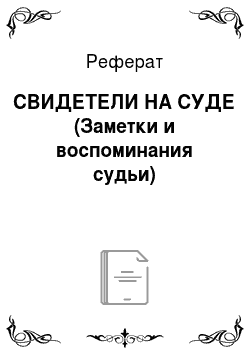
Но и после всей этой проверочной работы в показании свидетеля, даваемом при существующих условиях, остается свойство, делающее его, подчас, несмотря ни на что и вопреки всему, в значительной степени недостоверным. Самое добросовестное показание, данное с горячим желанием показать одну правду и притом всю правду, основывается на усилии памяти, рисующей и передающей то, на что было обращено в свое… Читать ещё >
СВИДЕТЕЛИ НА СУДЕ (Заметки и воспоминания судьи) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Наше время называют временем «переоценки всех ценностей». Приветствуя ее, как зарю новой жизни, свободной от вековой условности и вызываемой ею лжи, многие думают, что присутствуют при окончательном погребении отживших, по их мнению, идей, начал и учений. Едва ли, однако, эта поспешность в праздновании победы не преждевременна. Многое из того, что признается окончательно устаревшим, пустило глубокие корни, между которыми есть еще крепкие и здоровые. Нередко то, что выдается за решительный переворот, при ближайшем рассмотрении оказывается лишь новым путем к улучшению сложившегося и существующего. Притом эта переоценка не есть какое-либо небывалое явление, начало которого почему-то приписывается концу прошлого столетия. Она так же стара, как само человечество, и история цивилизации в широком ее смысле полна проявлениями такой переоценки иногда в огромном масштабе. Достаточно указать на христианство, выдвинувшее идею личности человека и тем разложившее строй античного мира, на Лютера, провозгласившего начало свободного понимания и толкования Священного Писания, на великую французскую революцию, сразу переоценившую все наслоение феодальных порядков. Не только в общественной, но и в личной жизни большинства людей, мыслящих и чувствующих, не отдаваясь исключительно во власть животных потребностей и вожделений, переоценка ценностей — явление естественное и почти неизбежное. Когда жизнь склоняется к закату и ее суетные стороны представляются особенно рельефно, приходится многое переоценить — и в себе, и в других. Благо тому, кто выходит из этой внутренней работы, не утратив веры в людей и не краснея за себя! Но и в разгаре жизни, когда, по-видимому, в личном существовании все определилось ясно и «образовалось», внезапно наступает необходимость переоценки.
' Печатается в сокращенном виде.
Иногда кажется, что время несбывающихся надежд и мечтаний, время роковых страстей и упорной борьбы за существование минуло навсегда и неширокий путь личной удовлетворенности тянется под серым небом, сливаясь вдали с ничего не обещающей, но ничем и не обманывающей серой далью. И вдруг из какого-нибудь забытого или небрежно обойденного уголка жизни подымается вопрос, грозящий все изменить и властно заставляющий произвести перестройку всего здания душевной жизни человека.
Совершается «переоценка» и в различных областях знания. Она составляет естественный результат движения вперед человеческой мысли и ее пытливости. Ее нельзя не приветствовать, с нею необходимо считаться. Но в понятном и нередко благотворном стремлении к такой переоценке надо отличать торопливую готовность к смелым выводам и неразборчивым обобщениям от действительно назревшей потребности; надо отделять ценные приобретения старого и целесообразного труда от увлечения самим процессом работ при «переоценке», причем случается, что скудные или непригодные плоды этих работ далеко не соответствуют потраченным на них силам. За последнее столетие медицинские науки представляют несколько примеров поспешной переоценки, где частичное ценное наблюдение или полезное открытие восторженно клалось «во главу угла» громко провозглашаемого «переворота», в котором потом приходилось усомниться и постепенно вернуться к тому, что было объявлено навсегда обесцененным.
Не миновали переоценки и явления правовой области. Стоит указать на новейшее движение в науке о государстве, на труды Менгера и Дюги, на отрицательное отношение к основам парламентаризма и т. п. С особой энергией предпринята переоценка карательной деятельности государства и ее оснований. Почти вся совокупность трудов старой, так называемой классической школы уголовного права объявлена в ряде ученых исследований по «пенологии» и «криминологии» и в заседаниях конгрессов по уголовной антропологии бесплодным собранием чуждых жизни теоретических положений и черствых вымыслов односторонне направленного ума. Изощряясь в наименованиях и подразделениях и втискивая человеческую природу в их мертвые рамки, классическая школа опутала жизнь своим учением о злой воле и ее проявлениях. Надо бросить все эти устарелые и вредные схемы, говорят нам, и вместо преступного действия обратить главное внимание на преступное состояние, изучая преступный тип, признаки которого с любовью разработаны и указаны итальянскими антропологами-криминалистами и их французскими последователями.
Шекспир, в глубине своего поэтического прозрения, понял существование такого типа, в образовании которого наследственность и атавизм играют такую огромную роль. Он дал в Калибане («Буря») яркий образ «человека-зверя». Но калибаны существуют не только на безвестном острове под твердой властью Просперо. Ими населено, в значительной степени, все современное общество, неудачно и близоруко заменившее силу мудреца и пение чистого Ариеля статьями уголовного уложения и приговорами уголовного суда. Для оценки виновности этих существ, ярко отражающих в себе преступный тип, с его мореловскими ушами, гутчинсоновскими зубами, седлообразным нёбом, маленькой головой, особой нервной возбудимостью и нечувствительностью к внешним страданиям, с его привычкой грызть ногти и с наклонностью к татуировке, с оригинальным почерком и ослабленными подошвенными рефлексами и т. д., нужна переоценка как понятия о времени преступлений, так и процессуальных целей и приемов. Очевидно, что суду юристов с его теоретическими хитросплетениями и операциями in anima vili1 и суду присяжных, совершенно чуждых всякому понятию об антропологии, нет уже места в деле общественной самозащиты. Их должен заменить суд врачей-специалистов, для которого, по самому его существу, не нужны гласность, защита, обжалование, возможность помилования. Это все шаткие условия искания истины в деле, а не положительного и твердого знания о ней, даваемого наукой. Последнее движется, открывая горизонты разума, не волнуя совесть и спокойно взвешивая действительность в ее реальном проявлении, а не мнимом понимании, не ведая ни ненависти, ни жалости, ни любви. Где другие сомневаются — оно уверено. К чему же здесь пафос адвоката, критика общественного мнения, прощение того, что не прощено самой природой? Для такого научного суда преступление есть лишь повод заняться определением опасности.
' Душ презренных (ничего не стоящих).
преступника для общества. Выяснив достоверную, антропологически доказанную возможность совершения им в будущем деяний из категории тех, за которые он судится, суд назначит ему затем срочное или пожизненное заключение или, в случаях особой вредоносности, вовсе «устранит» его из жизни. Вторгаться в исследование внутреннего мира и душевного склада таких подсудимых совершенно излишне. С представителями «преступного типа» следует бороться, как с хищными зверями, как с бактериями в общественном организме, пресекая в их лице опасную прогенитуру и тем, по выражению одного из новейших криминологов, «очищая породу и облагораживая сердца».
Так, начавшись с заботы о живом человеке, задавленном безжизненными уголовными формулами, эта переоценка путем далеко непроверенных положений и крайних обобщений дошла до низведения карательной деятельности государства к охоте на человека с применением научных приемов антропометрии. Логические результаты такой переоценки, ставящей вследствие возможности вырождения некоторых виновных и всех остальных в положение стихийной силы, идут вразрез с нравственными задачами государства и с человеческим достоинством.
Пример такой же поспешной переоценки представляют вторгшиеся в область учения о вменении смутные и расплывчатые понятия о неврастении и психопатии. Исходя из недостаточности старых и, так сказать, казенных понятий о сумасшествии и безумии, давно опереженных жизнью, мы впали в другую крайность. Практические юристы в России были в два последних десятилетия прошлого века свидетелями почти систематического объяснения естественных страстей человека как проявлений болезни воли, причем лишь бесплотные небожители или, наоборот, грубо прозябающие и чуждые всяких сильных душевных движений существа могли оказаться свободными от почетного звания «неврастеника» или «психопата». Негодование, гнев и ревность, сострадание к животным и жалость к людям, наклонность к сомнениям и стремление к опрятности в своих резких проявлениях стали признаваться несомненными признаками болезненного истощения нервов и носить громкие названия разных «фобий». Понятие о психопатии как болезни характера далеко вышло за пределы того, что английские врачи называли «moral insanity»[1], и разлилось в своем практическом применении таким безбрежным потоком, что самим психиатрам пришлось работать над тем, чтобы направить его в русло ясно очерченных душевных недугов и регулировать его разлив.
В последнее время в области уголовной антропологии предприняты настойчивые попытки еще одной переоценки, поспешной, произвольной и вовсе не основанной на требованиях нормальной жизни. Они направлены на проявление так называемого «уранизма» и выражаются в отрицании необходимости общественного осуждения уранизма и применения карательной деятельности государства в некоторых особо резких его случаях вообще. Не по дням, а по часам растет литература, требующая с поднятым забралом оправдания противных природе похотей и внушаемых ими безнравственных действий. Действия эти, согласно новому учению, не могут быть вменяемы, будучи законными проявлениями естественных свойств человеческой природы, не знающей того исключительного разделения на два пола, которое доселе признавалось законодательством за аксиому. Для тех же, кому не по вкусу такое основание переоценки, предлагается услужливая теория половой психопатии, заменяющей то, что прежде отсталость и невежество привыкли называть распущенностью и развратом. На последнем уголовно-антропологическом конгрессе в Амстердаме профессор Аллетрино, убежденный и горячий защитник предоставления уранизму «непостыдного и мирного жития», поставил вопрос ребром. Дозволительно, однако, думать, что завершение такой переоценки человеческих отношений наступит еще не скоро и что еще не близко время, когда скрывавшийся в тайне порок, перешагнув через народное понятие о грехе и через чувство стыда, с гордо поднятым челом опрокинет последнюю преграду свободе своих вожделений- страх общественного осуждения…
Еще ближе, чем уголовное право и судоустройство, еще, если можно так выразиться, острее, соприкасается с жизнью и ее вечно новыми запросами уголовный процесс. Поэтому в нем «переоценка» неминуемо совершалась чаще, хотя, быть может, в меньшем объеме и не столь коренным образом. Эта переоценка всегда направлялась на критику и изменение необходимых приемов действия судьи и вытекающих из них условий его деятельности. Под влиянием ее совершился переход от свободы внутреннего убеждения древнего народного судьи к внешней задаче судьи феодального, характеризуемой отсутствием и ненадобностью внутреннего убеждения, так как решение вопроса о вине и невиновности было отдано на «суд божий», указывающий виновного посредством результата ордалии или поля. Затем, очищенная влиянием церкви от воззрений феодального времени, система доказательств свелась к показаниям и, прежде всего к собственному сознанию и оговору. Для получения собственного сознания — этого «лучшего доказательства всего света» — стала применяться пытка, и дело решалось не совестью судьи, а физической выносливостью подвергаемого пытке. Но с движением человечества вперед главную цену приобретают формальные, предустановленные доказательства. Система этих доказательств, сводящая задачу судьи к механическому сложению и вычитанию доказательств, вес и взаимная сила которых заранее определены, знаменует собой период связанности внутреннего убеждения судьи. Но вот наступает новая переоценка прав и размеров судейского убеждения, и оно принимает свой современный объем, распространяясь на все роды доказательств и свободно взвешивая внутреннее достоинство каждого из них. Вместе с тем вырабатывается судебной практикой и законодательством ряд правил, обеспечивающих получение доказательств в возможно чистом виде, без посторонних примесей, коренящихся в физической или нравственной природе их источника. Вещественные доказательства — плоды, орудия и следы преступления — охраняются от порчи, тщательно описываются, фотографируются, соблюдаются по возможности в таком виде, в котором они наиболее соответствуют действительности. Особенное внимание обращается на чистоту источника главного из доказательств, которое прямо или косвенно (в качестве улики) по большей части имеет решающее значение для выработки судейского убеждения, выражающегося в приговоре. Это доказательство — свидетельское показание.
Как всякое доказательство, оно должно быть добыто в таком виде и в такой обстановке, которые устраняли бы мысль о его подделке или о получении его вымогательством. О насилии личном со стороны органов правосудия при гласном разбирательстве в новом суде почти не может быть и речи, кроме исключительных случаев вопиющего злоупотребления властью, но возможно насилие или воздействие нравственное, составляющее особый вид психического принуждения. Как всякое такое принуждение, оно может состоять в возбуждении страха, надежд или желаний получить выгоду и выражаться в угрозах, обольщениях и обещаниях. К ним может быть присоединено душевное томление или искусственно вызываемые усталость и сознание беспомощности. Закон, категорически воспрещающий домогаться сознания обвиняемого путем психического вымогательства (статья 405 Уст. Уг. Судопр.), должен всецело применяться и к свидетелям. Допрос их должен производиться умело, с соблюдением строго определенных приемов и без всякой тени стремления добиться того или другого результата показания. Отсюда воспрещение прочтения перед судом показаний, данных при полицейском розыске или негласном расспросе и занесенных в акты дознания.
Закон сознает, однако, что отсутствие злоупотреблений со стороны допрашивающих свидетеля недостаточно. В самом свидетеле могут заключаться элементы, отклоняющие его показание от истины, замутняющие и искажающие его строго фактический источник. Отсюда стремление очистить показания свидетелей от влияния дружбы, вражды и страха, от обстоятельств посторонних и слухов, неизвестно откуда исходящих (статьи 717 и 718 Уст. Уг. Судопр.), и устранение от свидетельства душевнобольных и тех, кто при даче показания может стать в тягостное и неразрешимое противоречие со своим служебным или общественным долгом (священники по отношению к открытому на исповеди, защитники по отношению к признанию, сделанному им доверителями). Отсюда предоставление отказа от показания близким родственникам подсудимого — и, во всяком случае, допрос их без присяги; отсюда, наконец, обставленная карательными гарантиями присяга свидетелей перед дачей показаний (а в Германии, в некоторых случаях, после дачи их) в торжественной обстановке, способствующей сосредоточению внимания на том, о чем придется говорить, причем закон тщательно профильтровывает свидетелей по их личным отношениям и по пониманию ими святости совершаемого обряда, оставляя.
по сю сторону присяги целый ряд лиц, в достоверности показаний которых можно усомниться или высказано сомнение одной из сторон. Только пройдя это, так сказать, предохранительное испытание для соблюдения внешней достоверности, показание свидетеля предъявляется суду. Но и здесь, с одной стороны, свидетель вновь ограждается от тревоги и смущения разрешением ему не отвечать на вопросы, клонящиеся к его собственному обвинению, а с другой — показание его относительно полноты и точности содержания подвергается тщательной проверке, а во многих случаях и выработке путем выяснения встреченных в нем противоречий с прежним показанием и в особенности путем перекрестного допроса.
Данное в этих условиях, полученное и обработанное таким образом, свидетельское показание поступает в материал, подлежащий судейскому рассмотрению и оценке. Над ним начинается работа логических сопоставлений и выводов, психологического анализа, юридического навыка и житейского опыта, и оно укладывается, как кусочек мозаики, как составная частица в картину виновности или невиновности подсудимого. Несомненно, что критический анализ судьи должен быть направлен на все стороны этого показания, определяя в последовательном порядке его относимость к делу как доказательства, его пригодность для того или другого вывода, его полноту, правдоподобность, искренность и, наконец, достоверность.
Но и после всей этой проверочной работы в показании свидетеля, даваемом при существующих условиях, остается свойство, делающее его, подчас, несмотря ни на что и вопреки всему, в значительной степени недостоверным. Самое добросовестное показание, данное с горячим желанием показать одну правду и притом всю правду, основывается на усилии памяти, рисующей и передающей то, на что было обращено в свое время свидетелем свое внимание. Но внимание есть орудие для восприятия весьма несовершенное, а память с течением времени искажает запечатленные вниманием образы и дает им иногда совершенно выцвесть. Внимание обращается не на все то, что следовало бы в будущем помнить свидетелю, а память, по большей части, слабо удерживает и то, на что было обращено неполное и недостаточное внимание. Эта своего рода «усушка и утечка» памяти вызывает ее на бессознательное восстановление образующихся пробелов и, таким образом, мало-помалу в передачу виденного и слышанного прокладываются вымысел и самообман. Таким образом, внутри почти каждого свидетельского показания есть своего рода язва, отравляющая понемногу весь организм показания не только против воли, но и без сознания самого свидетеля. Вот с каким материалом приходится судье иметь дело.
Большая часть серьезных обвинений построена на косвенных уликах, то есть на доказанных обстоятельствах того, что еще надо доказать. Но можно ли считать доказанным такое обстоятельство, повествование о котором испорчено и в источнике (внимание) и в дальнейшем своем движении (память)? Согласно ли с правосудием принимать такое показание, полагаясь только на внешние процессуальные гарантии и на добрые намерения свидетеля послужить выяснению истины? Не следует ли подвергнуть тщательной проверке и степень развития внимания свидетеля и выносливость его памяти? — и лишь узнав, с какими вниманием и памятью мы имеем дело, вдуматься в сущность и в подробности даваемого этим свидетелем показания, от которого иногда всецело зависят справедливость приговора и судьба подсудимого.
Таковы вопросы, лежащие в основании предлагаемой в последнее время представителями экспериментальной психологии переоценки стоимости свидетельских показаний.
- [1] Моральной ненормальностью.