Основные мотивы и образы в рассказах Даниила Хармса
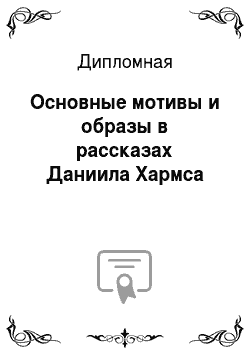
Если первый эпизод (1−4) был внутренне незавершен, то второй (6) никакого продолжения, в общем, и не требует. Переход к третьему эпизоду осуществляется вполне мирно. Мы прекращаем о них рассказ и начинаем новый рассказ о пиве. Кажется, что дальше будет нечто из того же ряда. Был рассказ про блевавших сладострастников, теперь про партию любителей пива. Ан-нет. Рассказ будет про философа и в этом… Читать ещё >
Основные мотивы и образы в рассказах Даниила Хармса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1 Проза Даниила Хармса в современном литературоведении
1.1 Жанровое своеобразие рассказов Даниила Хармса
1.1.1 «Случаи» как стихотворения в прозе
1.1.2 «Случаи» как драматические произведения
1.1.3 «Случаи» как квазижанр
1.2 Особенности повествовательной манеры Д. Хармса
1.2.1 Повествование и фрагментарность
1.2.2 Мотивно-тематическое единство и циклизация
1.2.3 Интертекстуальные связи в рассказах Даниила Хармса Выводы по главе 1
Глава 2 Художественная интерпретация мотивов и образов в прозе Даниила Хармса
2.1 Основные мотивы в рассказах Даниила Хармса
2.1.1 Мотив исчезновения в рассказах Д. Хармса
2.1.2 Мотивы рождения, смерти и бессмертия в рассказах Д. Хармса
2.1.3 Мотивы сна и яви в рассказах Д. Хармса
2.2 Значение некоторых образов в метавосприятии Д. Хармса
2.2.1Образ числа в рассказах Д. Хармса
2.2.2 Образ окна в рассказах Д. Хармса
2.2.3 Роль образа шара в рассказах Д. Хармса
2.2.4 Роль образа трамвая в произведениях Д. Хармса Выводы по главе 2
Заключение
Библиографический список Примечания
Феномен писателя, зарабатывающего на жизнь талантливыми детскими произведениями и в то же время день за днем создающего — безо всякой надежды на опубликование — блестящие стихи, прозу, драмы, был определен реалиями коммунистического диктата в нашей стране в 20-х — 30-х годах XX века. «Второе рождение» Д. Хармса, начавшееся через двадцать пять лет после его смерти, продолжается до сих пор. Якову Семеновичу Друскину мы обязаны «открытием» Даниила Хармса современному читателю. Именно он спас архив Даниила Ивановича, в котором также сохранились некоторые произведения Введенского, Олейникова, Олимпова и других. Друскин пришел, рискуя жизнью, зимой 1942 года в опустевшую комнату Хармса и забрал оттуда чемоданчик с рукописями. С этим чемоданчиком Яков Семенович не расставался ни в эвакуации, ни по возвращению в Ленинград в послевоенное время. Примерно двадцать лет он не прикасался к его содержимому, сохраняя надежду на чудо — возвращение хозяина. И лишь когда надежды не стало, он начал разбирать бумаги покойного друга. Сейчас эти бумаги хранятся в рукописном отделе Пушкинского Дома и в отделе рукописей ГПБ им. Салтыкова-Шедрина в Ленинграде.
Обусловленность выбора темы выпускной квалификационной работы. Наше решение написать работу о Хармсе, мотивировалось целым рядом проблем, с которыми мы столкнулись в нашей предшествующей работе. Конечно, определяющую роль в принятии этого решения сыграла наша читательская любовь к Хармсу. В контексте этой работы нас заинтересовал Хармс не как читателей, но как исследователей. Творчество Даниила Ивановича Хармса исследовано не в полном объеме. По-прежнему остаются проблемные вопросы, которые дают почву для новых исследований.
Материалом исследования послужили художественные произведения Даниила Хармса. Даниил Хармс — «поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла. Действие, перелицованное на новый лад, хранит в себе „классический“ отпечаток и в то же время представляет широкий размах обэриутского мироощущения». Это из декларации обэриутов (68). Говоря о Хармсе, стоит рассматривать прежде всего мироощущение, тип сознания автора и приемы жизнестроительства, а не текст как таковой.
Искусство Д. Хармса противорассудочно, если под рассудком понимать схематичность, мертвую обязательность, дотошный анализ, исключающий любой новый синтез. «Когда я пишу стихи, — признавался Хармс в письме к К. Пугачевой, — то самым главным кажется мне не идея, не содержание и не форма, и не туманное понятие «качество», а нечто еще более туманное и непонятное рационалистическому уму… Это — чистота порядка. Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением"(3;15).
Под «чистотой порядка» Хармс подразумевал, вероятно, логику искусства — порядок соединения слов, моделирование мира в образах. Соединение это может быть алогичным, но алогичность должна быть «первого порядка» и обладать «чистотой». Ведь главное — точное воплощение художественного образа, не искаженное сопротивлением материала и применением профессионального поэтического инструментария. «Чистота порядка» — результат скорее точного знания образа, чем сознания того, как он должен выглядеть на бумаге. Под порядком, думаю, имелся в виду порядок аксиомы, а не теоремы, первозданная цельность и стройность, не требующая объяснений и доказательств. Порядок мироздания таков, какой есть, не по определенной причине, а потому, что он — единственно возможный порядок. И следовательно, искусство достигает своей цели лишь тогда, когда точно воплощает и одушевляет архетипы сознания (также не требующие доказательств), а не оценивает их и не замыкается на демонстрации и развитии своих художественных средств.
Автор не стремится к тому, чтобы мы поверили в реальность происходящего. Сама неправдоподобность случаев — для Хармса лучшее доказательство их подлинности. «Может быть, вы скажете, что наши сюжеты „нереальны“ и „нелогичны“? А кто сказал, что „житейская“ логика обязательна для искусства!.. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать», — говорится в декларации ОБЭРИУ. У каждого из обэриутов существовала своя система знаков и символов, свой особый условный мир образов, строящийся по индивидуальным законам. В 1928;м кодирование было творческой позицией. Позже оно во многом стало вынужденным и применялось не только в творчестве, но и в разговорах, дневниковых записях, при переписке…
Актуальность темы
. Актуальность темы дипломной работы определяется необходимостью изучения искусства авангарда в целом, и творчества обэриутов в частности, а также вниманием сегодняшнего литературоведения к поэтике абсурда, в том числе и к творчеству Д. Хармса как типичного представителя литературного авангарда. Наряду с этим представляется важным исследовать прозу и драматургию Д. Хармса как структурно-целостное единство. В контексте современного развития науки и с учетом специфики художественного мира писателя актуальным является комплексное осмысление произведений писателя.
Объект исследования — прозаическое творчество Д. Хармса.
Предмет исследования. Предметом изучения стали реализованные в рассказах Даниила Хармсахудожественные стратегии автора и его поэтика.
Методологическая основа. Методологической основой исследования являются работы ведущих обэриутои хармсоведов: В. Н. Сажина (1988), Ж.-Ф. Жаккара (1995), К. В. Кукулина (1997), А. А. Кобринского (1998), А. А. Александрова (1998), МБ. Мейлаха (1999), А. Герасимовой (1995), В. И. Глоцера (2009), Л. Ф. Кациса (2000), Ю. Хейнонена (2003), А. Никитаева (1998), И. Е. Лощилова (1991), Н. В. Гладких (1998), Д. В. Токарева (2006).Эти методологические установки согласуются с целью и задачами дипломной работы.
Методы и принципы исследования. В работе использованы следующие методы и принципы исследования, выработанные отечественным литературоведением: историко-функциональный, типологический, принцип целостного анализа художественного произведения.
Цель — исследование своеобразия художественного мира Д. Хармса и описание механизмов создания этого мира.
Задачи исследования:
— рассмотреть образы персонажей в произведениях Хармса;
— проанализировать образ автора в прозе писателя;
— выявить сквозные мотивы в творчестве Хармса и определить их художественную функцию;
— раскрыть жанровое своеобразие произведений писателя;
— описать характерные особенности повествовательной манеры Д. Хармса;
— проследить интертекстуальные связи в рассказах Даниила Хармса;
Теоретическая значимость данной работы определяется такими понятиями, как «метод абсурда», «интертекстуальность», «аллогизм», «сквозной мотив», «квазижанр». Теоретическая значимость исследования состоит в уяснении особенностей поэтики и художественного мышления Д. Хармса, а также в утверждении его места в русском литературном авангарде XX века.
Практическая ценность заключается в том, что материал и результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания теории и истории отечественной литературы в высшей и средней школе, в создании учебных пособий и спецкурсах по истории русского авангарда.
Исследование логики художественного мира Хармса позволит объяснить его (мира) уникальность, механизм функционирования. Вскрытая логика демонстрирует, что «художественный мир» — это не отвлеченный термин, а действительный факт искусства, причем искусства живого, подвижного, многогранного, спорного, трагичного и проблематичного. Вместе с тем выявление элементов логики художественного мира позволяет объяснить и традиционные его составляющие, а именно — пространственно-временную структуру и систему образов. Подобным образом обстоит дело и с основными мотивами художественного мира, т.к. мотивы здесь понимаются как функциональные образования, семантически наполненные. Понятно, что описание всех мотивов художественного мира — предмет отдельной большой работы, мы рассматриваем только те, которые действительно являются основными, т. е. конструктивными.
Апробация работы. Основные положения данной работы были апробированы во время педагогической практики в МОУ СОШ № 16 города Пятигорска, на методологических семинарах по русской литературе, на научнопрактических конференциях при ПГЛУ «Молодая наука — 2010» и «Молодая наука — 2011» .
Научная новизна. Научная новизна исследования обусловлена прежде всего тем, что художественный мир Д. Хармса рассматривается в единстве составляющих его сторон, а тексты писателя анализируются как метатекст. Несмотря на то что появились работы, посвященные некоторым особенностям творчества Д. Хармса (В.В. Подкольского (1999), В. Д. Токарева (2000), И. Е. Лощилова (1999)), в целом его поэтика на материале всего творчества не изучена. Впервые предпринимается попытка структурно-целостного рассмотрения творчества писателя в единстве авторского сознания, мира хармсовских персонажей, системы мотивов и жанровых модификаций. Наряду с лиро-драматическими и прозаическими формами мы обращаемся к жанрам драматургии и «драматургическому» принципу как одному из структурообразующих в творчестве Д. Хармса.
Структура работы обусловлена задачами, которые мы ставим перед собой. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка, насчитывающего 136 источников. Общий объем исследования 98 страниц.
Глава 1 Проза Даниила Хармса в современном литературоведении
1.1 Проблема жанрового своеобразия рассказов
Даниила Хармса
хармс мотив образ рассказ
1.1.1 «Случаи» как стихотворения в прозе
Цикл «Случаи» собран из произведений разных жанров. Он представляет собой коллаж из прозы, ритмической прозы, стихов и коротких сцен. Рассказы, вмещающие порой всего несколько строк и скорее называющие, чем рассказывающие или описывающие событие, трудно назвать рассказами; сцены, состоящие из нескольких немотивированных реплик, — пьесами. Эти квазирассказы, квазипьесы, квазистихотворения — особый жанр, разработанный Даниилом Хармсом. А между тем все тридцать случаев стилистически однородны и близки композиционно. Каждый из них представляет собой законченное произведение, а все тридцать — цикл.
Вычленив структуру цикла и системные связи, можно обнаружить сквозные темы: обезличивание человека, автоматизированность бытия, замкнутость и ограниченность пространства и времени… Хармс словно бы экспериментирует с основами существования. Сам термин «случай» он обыгрывает двояко — как происшествие и как случайность.
Среди одномерных, плоских и пародийных персонажей «Случаев» изредка попадаются и иные: такие, например, как молодой человек, выспрашивающий у дворника путь на небо, Калугин, которого выкинули «как сор», Макаров, владеющий таинственной книгой, несчастный Ракукин… Их меньшинство, они принадлежат тому же дисгармоничному миру, что и остальные персонажи, но, в отличие от последних, они — жертвы, попавшие в жесткие тиски случая, а не его инструменты.
Реальность «Случаев» шифрована, и к ней необходим ключ. Хармс этот ключ предоставил. Одна из главных новаций Хармса — клишированное письмо. Клише — более мелкая, по сравнению со случаем, единица его стиля. Его главный герой — человек-клише, собственно, не человек, а идея человека, не наполненная сколько-нибудь конкретным содержанием.
Значительная часть произведений, собранных в рукописном сборнике «Случаи» (1939), может быть рассмотрена как «стихотворения в прозе».
Первым признаком «стихотворения в прозе» здесь является короткий размер текста, который увеличивает эмфатичность, выделенность каждого его элемента (как слово в телеграмме стоит дороже, чем в письме).
Во-вторых, часто выделяется в самостоятельную текстовую единицу фраза, как аналог стихотворной строфы или даже строки, если предложения простые. В текстах <6> «Оптический обман», <8> «Столяр Кушаков», <11> «История дерущихся», <12> «Сон», <22> «Что теперь продают в магазинах», <23> «Машкин убил Кошкина» каждое предложение (с небольшими отклонениями в <11> и <12>) начинается с красной строки. Хармс стремится в прозе имитировать то, что Ю. Н. Тынянов назвал «единством и теснотой стихового ряда» .
Тексты <2> «Случаи» и <29> «Начало очень хорошего летнего дня» членятся на прозаические «строфы» по формуле: большой период + короткая фраза-концовка, аналогичная заключительному двустишию в октаве, шекспировском сонете или онегинской строфе.
Помимо этого, Хармс широко использует структурные приемы стихотворной организации текста: синтаксический параллелизм, повторы, рефрены — в драматических сценках это часто главные композиционные приемы: <7> «Пушкин и Гоголь», <13> «Математик и Андрей Семенович», <15> «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного», <20> «Неудачный спектакль», <21> «Тюк!».
Как частный, но важный вид повторов выделим анафоры и эпифоры (структурные эквиваленты рифмы), напр. в первой части рассказа «Сон»:
Калугин заснул и увидел сон, буд-то он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер.
Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер.
Калугин проснулся, положил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку, и опять заснул, и опять увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер.
Калугин проснулся, переменил газету, лег и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, буд-то он идет мимо кустов, а в кустах сидит милиционер.
Но соблюдать такое единообразие до конца Хармсу, наверное, не интересно, и далее он отказывается от чередующихся эпифор, а мимо кустов проходит милиционер / в кустах сидит милиционер.
Наиболее образцовым «стихотворением в прозе» у Хармса является текст <23> «Машкин убил Кошкина»:
Товарищ Кошкин танцевал вокруг товарища Машкина.
Тов. Машкин следил глазами за тов. Кошкиным.
Тов. Кошкин оскорбительно махал руками и противно выворачивал ноги.
Тов. Машкин нахмурился.
Тов. Кошкин пошевелил животом и притопнул правой ногой.
Тов. Машкин вскрикнул и кинулся на тов. Кошкина.
Тов. Кошкин попробовал убежать, но спотыкнулся и был настигнут тов. Машкиным.
Тов. Машкин ударил кулаком по голове тов. Кошкина.
Тов. Кошкин вскрикнул и упал на четвереньки.
Тов. Машкин двинул тов. Кошкина ногой под живот и еще раз ударил его кулаком по затылку.
Тов. Кошкин растянулся на полу и умер.
Машкин убил Кошкина.
Результат поединка сообщен в названии миниатюры, поэтому все внимание привлечено к процессу развертывания текста.
По Ю. Н. Тынянову, слово в стихе развертывается сукцессивно (последовательно) — в противовес симультанному (одновременному) воссоединению слов и словесных групп в прозе. Столкновение ритма и семантики «динамизирует» слово в стихе. Стихотворный ритм деформирует и подчиняет себе семантику, а в прозе семантика деформирует и подчиняет ритмические компоненты текста. Таким образом, прозаическое слово стремится к смысловой прозрачности, а восприятие поэтического слова затруднено (4; 1993: 49−51).
В данном случае мы сталкиваемся с пограничной ситуацией. В целом это проза с доминантой семантики, но использование структурных принципов стихотворной речи — обособление строки, параллелизм, анафора, созвучие фамилий (шкин) — производит и сильную динамизацию слова. Самое яркое проявление динамизации — слово тов., выступающее в тексте как метроном и привлекающее внимание к форме произведения. В конце концов, многократное повторение сокращения раскрывается как символ. Эти редуцированные «товарищи» взаимодействуют до тех пор, пока не освобождаются от обременительного титула и не обретают свои человеческие (точнее звериные [8]) границы в финальном событии: Машкин убил Кошкина.
Отметим в этом тексте еще морфологическое отклонение спотыкнулся, об которое не может не спотыкнуться читатель.
Немаловажно, что Хармс никогда не использует поэтические приемы, тяготеющие, по Тынянову (1993: 48), к «максимуму условий стиха»: плавные метризованные фразы, закругленные периоды, внутренние рифмы, подчеркнутую аллитерацию. У стиха он берет структурно-композиционные приемы организации целого.
Интересно, что один из прозаических случаев <4> называется «Сонет» (<12 ноября 1935>). В нем, как в настоящем сонете, 14 фраз и его можно разделить на сегменты 8: 6. Интерпретация связи названия, формы и содержания этого рассказа достаточно противоречива.
1.1.2 «Случаи» как драматические произведения
В драматических случаях структурной основой часто является агон — спор, словесное состязание двух персонажей, в котором главным является не выяснение истины, а победа одного из них. В хармсовских сюжетах победа одного спорщика может выражаться обмороком или смертью другого.
Если наложить на драматическое развертывание принцип серийности, получится своеобразное членение пьесы не на сцены и акты, где интрига развивается во времени (синтагматически), а на строфы, воспринимаемые одновременно и параллельно (парадигматически). Возникает квазижанровое «стихотворение в драме», яркий пример которого — <15> «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека к ней не подготовленного».
I
П и с, а т е л ь: Я писатель.
Ч и т, а т е л ь: А по-моему, ты г… о!
(Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и падает замертво. Его выносят).
II
Х у д о ж н и к: Я художник.
Р, а б о ч и й: А по-моему, ты г… о!
(Художник тут же побелел как полотно, И как тростинка закачался, И неожиданно скончался, Его выносят).
III
К о м п о з и т о р: Я композитор.
В, а н я Р у б л е в: А по-моему, ты г… о !
(Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят).
IV
Х и м и к: Я химик.
Ф и з и к: А по-моему, ты г… о !
(Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол).
Это пример драматической серии, предельной простой, но со своими разнообразными отклонениями.
В тексте четыре парадигматических ряда: пары персонажей (назовем их протагонистом и антагонистом), их реплики и авторские ремарки. Реплики протагонистов тождественны по смыслу, а реплики антагонистов тождественны по смыслу и форме. Развертывание текста создается заменой пар персонажей и варьированием ремарок.
Протагонисты взяты из одного ряда: Писатель, Художник, Композитор, Химик — все профессии. Антагонисты — из разных: Читатель (функция), Рабочий (социальная группа), Ваня Рублев (конкретное лицо), Физик (профессия). Ряд протагонистов можно назвать ассоциативным (включающим семантически связанные элементы), а ряд протагонистов — диссоциативным (построенным на семантическом расподоблении элементов).
Если смотреть по парам: I-й акт: Писатель и Читатель образуют свой ассоциативный ряд (автор и реципиент); II-й: Художник и Рабочий — тоже (представители духовной и материальной сферы труда); III-й — Композитор и Ваня Рублев — диссоциативный; IV-й — Химик и Физик — снова ассоциативный (ученые), причем антагонист из того же ряда, что и все протагонисты. Получается один элемент полностью диссоциативный (Ваня Рублев) и два полностью ассоциативных (Химик и Физик), хотя в последнем случае есть более тонкая противопоставленность ученых людям искусства.
Любопытно, что сначала у Хармса было только три акта, последний он приписал в ответ на замечание А. А. Введенского, что текст получился слишком прямолинейный (Шишман 1991: 140−141).
В четырехчастном виде полностью выпадающий из всех рядов персонаж Ваня Рублев оказывается не в концовке, что было одним способом его выделения, а в месте золотого сечения текста (III действие делит пьесу на группы в два и одно действие = 4 (вся пьеса): 2 (большая часть)).
Текст строится на двух взаимно компенсирующих принципах — уподобления, кумуляции, автоматизации сегментов и элементов текста и отклонения, неожиданности, взламывания автоматизма.
Диссоциация создается и авторскими ремарками. Самый яркий несогласованный элемент на этот раз находим во II-м акте. Ремарки, как принято в многовековой драматургической практике, в I, III и IV актах написаны прозой. Совершенно неожиданно, тем более в прозаической пьесе, одна ремарка оформляется в стихи:
(Художник тут же побелел как полотно, И как тростинка закачался, И неожиданно скончался, Его выносят).
Обращает на себя внимание и фраза Его неожиданно выносят в III-м акте. Слово неожиданно попадает сюда из ремарки предыдущего акта И неожиданно скончался. Там оно было уместным, здесь явно нет, но перед нами прием варьирования элементов стиха, известный по стихотворениям Хармса (ср. «Иван Топорыжкин пошел на охоту…»).
Это один из самых выразительных образцов родо-жанровой диффузности случаев Хармса.
Любопытный пример своеобразной родо-жанровой рефлексии Хармса — драма «О драме»:
Л о ш к и н (прихрамывая входит в комнату). Товарищи! Послушайте! Я скажу несколько слов о драме.
Все снимают шляпы и слушают.
Л о ш к и н: В драме должно иметься оправдание драмы. В комедии легче, там оправдание смех. Труднее в трагедии.
К у г е л ь: Можно мне вставить свое слово?
Л о ш к и н: Ну говорите.
К у г е л ь: Вы обратили внимание, что тема, недостаточная для прозоического произведения, бывает достаточна для стихотворной вещи.
Л о ш к и н: Совершенно правильно! Если тема была недостаточной, то вещь оправдывают стихи. Потому то во времена расцвета драматического искусства трагедии писались стихами.
В с е х о р о м: Да, прозаическая драма — самый трудный вид творчества.
Здесь названы два важнейших фактора, обеспечивающих единство текстов самого Хармса (их оправдание): стихи и смех. Не исключено, что оправдание прозаической драмы давалось ему самому всего трудней.
Характерный для многих случаев сдвиг формы от прозы к стиху наиболее ярко проявляется в ряде текстов в рукописном сборнике «Голубая тетрадь» (1937). Следом за определенно прозаическими записями и рассказами (№№ 1−11) появляются весьма необычные «свободные стихи» (№№ 12, 13, 14, 15, 20):
<�…> Елена била Татьяну забором.
Татьяна била Романа матрацом.
Роман бил Никиту чемоданом.
Никита бил Селифана подносом.
Селифан бил Семена руками.
Семен плевал Наталье в уши.
Наталья кусала Ивана за палец.
Иван легал Пантелея пяткой.
Эх, думали мы, дерутся хорошие люди. («Голубая тетрадь» № 12; ЦШ: 752).
<�…> Рагозин в женскую баню подглядывал.
Сенька на Маньке верхом сидел.
Манька же дремать начала.
Потемнело небо. Заблистали звезды.
Под полом крысы мышку загрызли.
Спи, мой мальчик, и не пугайся глупых снов.
Глупые сны от желудка («Голубая тетрадь» № 13; ЦШ: 752).
Я подавился бараньей костью.
Меня взяли под руки и вывели из-за стола.
Я задумался.
Пробежала мышка.
За мышкой бежал Иван с длинной палкой.
Из окна смотрела любопытная старуха.
Иван, пробегая мимо старухи, ударил ее палкой по морде. («Голубая тетрадь» № 20; ЦШ: 754−755).
В принципе, то, что каждая строка является законченным предложением (или даже двумя предложениями — Потемнело небо. Заблистали звезды.), формально позволяет рассматривать строки как прозаические абзацы и, значит, квалифицировать приведенные тексты как прозу.
Помимо членения текста на строки, за это говорят единство ритмических и грамматических структур в группах строк, наличие женского окончания во всех строках текста № 12, наконец, доминирование парадигматических связей строк-предложений над синтагматической связью.
Для нас, в рамках этой работы, важно зафиксировать пограничный, неоднозначный характер текстов Хармса. Здесь двусмысленность усиливается «антипоэтичным» содержанием произведений и столкновением интонационных и семантических планов — сниженного (Сенька на Маньке верхом сидел) и «возвышенного» (Потемнело небо. Заблистали звезды).
Не менее любопытен неожиданный переход прозы в стихи в отрывке без названия :
Михайлов ходил по Летнему Саду, неся под мышкой гамак. Он долго искал, куда бы гамак повесить. Но всюду толкались неприятные сторожа. Михайлов передумал и сел на скамеечку. На скамеечке лежала забытая кем-то газета.
Лежала забытая кем-то газета.
Лежала забытая кем-то газета.
Михайлов садился на эту газету И думать поспешал И думать поспешал.
Прозаическое начало формирует тревожный «реалистический» контекст: Летний Сад, полный толкающихся неприятных сторожей. Через забытую кем-то газету герой и читатель отклоняются, перемещаются в другой космос, из прозы в стихи. Трудно себе представить, как можно поспешать думать, но двукратный повтор настаивает, что было именно это, и требует от читателя некоего неанализирующего сверх-понимания. Михайлов намеревался повесить в Летнем Саду гамак — то есть хотел оторваться и воспарить над «реальностью». В результате в этом положении «подвисает» озадаченный читатель. По функции, перед нами риторический прием, трюк, направленный на изменение восприятия.
Проза, драма и стихи по-разному реализуют непостижимость, непрозрачность смысла. В прозе изображен овнешненный человек, мотивы поступков и речей которого загадочны. В драме воплощено овнешнение речи (типовая ситуация хармсовских диалогов — один персонаж стремится к коммуникации, другой нет). В стихе же овнешнено само слово: как уже было сказано, фиксация на ритмико-фонетических признаках затрудняет восприятие слова. Соседство разнородных произведений в рамках цикла и даже разнородных частей в рамках одного текста связано с тем, что Хармс не развивает мысли, а разнообразит эффекты восприятия.
1.1.3 «Случаи» как квазижанр
Жанровая природа текстов Хармса очень своеобразна. Не раз говорилось, что авторское название многочисленных прозаических текстов и сценок Хармса, завершившееся в 1939 году оформлением цикла «Случаи», может быть наиболее удачным обозначением жанра этих произведений.
Такое решение требует уточнить понимание жанра. Дело в том, что никаких устойчивых отличительных жанровых признаков случаи не имеют, за исключением сравнительно небольшой величины и отношения к сфере комического. Любой из них более или менее определенно соотносится с каким-либо жанровым прототипом, среди которых: рассказ, анекдот, сказка, драма, биография, автобиография, назидательный пример, басня, письмо, трактат, а также их комбинации. Случаи расслоены не только в жанровом плане, но и в родовом. У них есть два родовых полюса — проза и драма, причем драматические сценки часто написаны в стихах. Поэтому случаи нам кажется более правильным называть квазижанром.
Часто важные признаки жанровых прототипов у Хармса отброшены или перемешаны. Взятые вместе, в контексте всего творчества Хармса, случаи как бы «отражают» друг друга и создают впечатление однородности. Наличие многочисленных сквозных мотивов (повторяющиеся имена и фамилии персонажей, числовая символика, сюжетные и тематические переклички и т. д.), наконец, реализация во всех текстах единых интенций оказываются более значимыми, чем родо-жанровые границы между отдельными текстами. Кроме того, многие миниатюры — и это достаточно сильная тенденция — оформляются под знаком превращения в стихотворение в прозе.
Следует отметить еще один аспект, касающийся взаимоотношения случаев с жанровыми прототипами: Хармс в целом не пародирует жанры. Пародия актуализирует все виды своей связи с первоисточником — Хармс даже не то чтобы эти связи дезавуирует, а просто строит из готовых конструктивных элементов нечто свое. Разговор о пародийности случаев скорее уводит в сторону от понимания их природы.
М. Б. Ямпольский считает: «Главным же объектом хармсовского пародирования является газетная хроника происшествий. Хармсовские „случаи“ откровенно ориентированы на этот газетный жанр (что пародически объединяет Хармса с влиятельным слоем литературы двадцатых годов, ориентировавшейся на газету как форму представления „материала“). Хроника газетных происшествий интересна в данном контексте тем, что она безлична. <�…> Газета, вероятно, и интересует Хармса потому, что она парадоксальным образом воплощает отсутствие памяти, отсутствие имени. К хронике происшествий это относится в еще большей степени, чем к иным жанрам. Хроника — амнезический жанр, рассчитанный на мгновенное забывание» (1998: 11). Вообще-то, двадцатые годы не актуальны — практически вся проза Хармса написана в 1930;е годы. Что касается обезличенности газеты, она есть, правда, своеобразная: в советской газете вообще не бывает нейтральной хроники фактов, ее вытеснили назидательные образцы и примеры, обязательно соотнесенные с категориями «что такое хорошо и что такое плохо». Такой аспект Хармс порой с мрачной иронией обыгрывает: Хорошие люди, а не умеют поставить себя на твердую ногу. («Случаи»; 22 августа <1936>), Некий Пантелей ударил пяткой Ивана. Некий Иван ударил колесом Наталью. Некая Наталья ударила намордником Семена. Некий Семен ударил корытом Селифана и т. д. <�…> Эх, думали мы, дерутся хорошие люди! («Голубая тетрадь» № 12; 8 января 1937; ЦШ: 752); Эти слова так взбесили Коратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой ноздрей сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошолки самый большой огурец и ударил им Коратыгина по голове. Коратыгин схватился за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах! («Что теперь продают в магазинах»; 19 августа 1936; ЦШ: 691). Да, здесь неким образом воплощено «отсутствие имени» — важны, как бы, не Тикакеев и Коратыгин, а большие огурцы в теперешних магазинах и то, что люди у нас в стране хорошие. Но даже в этих примерах схождение случаев с газетным жанром крайне эфемерно (и, скорее всего, случайно).
А. А. Кобринский обращает внимание на серию орфографических «сдвигов» в названиях произведений Хармса: «Анегдоты о Пушкине», «Скасска», «Скавка», «Пассакалия № 1» (вместо пассакалья), «Пашквиль», «Синфония № 2» и комментирует: «орфографический сдвиг сигнализирует о жанровом сдвиге. Каждый раз, отталкиваясь от какого-то существующего жанра, Хармс вводит в него то, что он сам называл „небольшой погрешностью“ — незначительные отклонения от канона, приводящие к серьезным смысловым и эстетическим наращениям» (Кобринский 1998: 197). Список интересный. Бесспорно, что анегдоты имеют отношение к анекдоту. Стихотворение «Скавка» (<1930>; ЦШ: 360) состоит всего из двух строк: восемь человек сидят на лавке / вот и конец моей скавке. Рассказик «Скасска» (<1933>; ЦШ: 514), конечно, в своей основе кумулятивная сказка: Жил-был один человек, звали его Семенов. Пошел однажды Семенов гулять и потерял носовой платок. Семенов начал искать носовой платок и потерял шапку. Начал шапку искать и потерял куртку и т. д. А вот пассакалья, пасквиль и симфония — вообще не литературные жанры. Если все это вместе описывается выражением «незначительные отклонения от канона», тогда «эстетические наращения» надо признать очень серьезными.
У Хармса есть еще одна «Симфония» («Начало одного хорошего летнего дня»; <1939>). Даже если считать, что автор отсылает к «Симфониям» Андрея Белого, все равно говорить о «небольшой погрешности» в «каноне» невозможно. Белый для того и называл свои произведения так, чтобы вывести их за пределы существующей системы литературных жанров, и никакого нового, опознаваемого читателем канона не создал. Исследователь же вспоминает, кроме Белого, еще и симфонии к Библии (1999а: 13), окончательно погружая вопрос о жанре в непроницаемый туман.
Кроме перечисленных А. А. Кобринским, в названиях у Хармса дважды встречается жанровое обозначение пиеса: «Пиеса для мужчины и женщины» (<1930;1931>) и «Пиеса» (<�апрель 1933>); есть еще стихотворная «Песень» (<1934;1935>) — в них отклонения от заявленных в названии прототипов невелики настолько, насколько это для Хармса возможно.
Добавив к приведенному перечню прозаический рассказ под названием «Сонет» (<12 ноября 1935>) и определяющие жанр подзаголовки пьес Дидаскалия («Грехопадение или познание добра и зла»; <27 сентября 1934>) и балет («Дедка за репку»; <1935;1938>), мы все-таки склонны полагать, что Хармс не столько соотносит свои произведения с их реальными жанровыми прототипами, сколько настойчиво выводит их за пределы всяких канонов.
1.2 Особенности повествовательной манеры Даниила Хармса
1.2.1 Повествование и фрагментарность
Произведения, включенные в цикл «Случаи», — наиболее «ударные» (Герасимова 1995: 134) вещи Хармса. «Ударность», как мы старались показать, связана с их формой, в которой существенно преодолена их прозаическая, повествовательная природа.
Но у Хармса очень много произведений, где нет иных жанровых прототипов, кроме собственно повествовательных — рассказа или повести. И вполне очевидно, что там, где нет серийности с ее способностью структурировать текст, для автора возникает трудноразрешимая проблема завершения повествования.
Связана она с тем, что замысел — как общее интуитивное видение целого («И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще не ясно различал») — не предшествует процессу письма.
Автор сам не знает, куда выведет его кривая дорога отклонений. Здесь едва ли верно говорить о нарушении или разрушении наррацииэто имело бы смысл, если бы Хармс писал как обычный писатель, но у него это не получалось.
Хармс идет не обычным путем. Его путеводная нить — стремление произвести впечатление, удивить, поставить в тупик гипотетического читателя. При этом удастся ли ему самому не зайти в тупик как повествователю, объединить и завершить текст — зависит от случая, то есть от потенциала неожиданного и смешного, заложенного в начальных и поворотных точках сюжета.
Не удивительно, что такое огромное количество текстов Хармса осталось незавершенным уже в самом начале или в любой другой фазе повествования. Не удивительно и такое количество формальных завершений повествования: Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать. До свидания. Всё («О явлениях и существованиях. № 2»; 18 сентября 1934; ЦШ: 542); Вот, собственно, и все («Встреча»; Дата неизвестна; ЦШ: 895); Эх! Написал бы еще, да чернильница куда то вдруг исчезла («Художник и Часы»; 22 октября 1938; ЦШ: 796); На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась («Старуха»; <�Конец мая и первая половина 1939 года>; ЦШ: 840); Однако на этом автор заканчивает повествование, так как не может отискать своей чернильницы («Рыцари»;21 июня 1940; ЦШ: 861); Вот и все («Синфония № 2»; 9−10 июня 1941; ЦШ: 888). Не редко случай заканчивается тем, что рассказчик-наблюдатель покидает место события: А потом мы разошлись по домам («Сонет»; <12 ноября 1935>; ЦШ: 628); Мне надоела эта постоянная ругань и стук швейной машинки. Я плюнул и вышел на улицу («Такие же длинные усы…»; <�Между 10 и 15 ноября 1937>; ЦШ: 758); Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль («Вываливающиеся старухи»; <1936;1937>; ЦШ: 775).
Обрывы повествования у Хармса получили свое осмысление как явление «открытого финала» у И. Кукулина (1994: 70−77).
Можно сказать, что Хармс обращает главную трудность в конструктивный прием, точнее, даже в несколько разных приемов: 1) развитие «поэтики фрагмента», существовавшей уже у романтиков и получившей второе рождение в модернизме — «финал, открытый, так сказать, поневоле: текст не закончен и, таким образом, открыт» (Кукулин 1994: 74); 2) введение формальных концовок — «финал, связанный с исчерпанием повествовательного языка. „Вторичный“ автор развинчивает язык до конца и сообщает, что дальше повествовать не может» (Кукулин 1997: 74); 3) минимизация размера текста вплоть до моностиха;
4) создание своего рода «серии серий», где в один текст объединяются даже ассоциативно не связанные между собой повествования.
Бессвязность своих повествований Хармс отрабатывает на уровне сознательно обнаженного приема в двух произведениях, созданных в 1937 году и оформленных как письма Я. С. Друскину. Рассмотрим первое — «Пять неоконченных повествований» (<27 марта 1937>; ПвН: 498−499) :
Дорогой Яков Семенович,
1. Однажды человек, разбежавшись, ударился головой об кузницу с такой силой, что кузнец отложил в сторону кувалду, которую он держал в руках, снял кожаный передник и, пригладив ладонью волосы, вышел на улицу посмотреть, что случилось. 2. Тут кузнец увидел человека, сидящего на земле. Человек сидел на земле и держался за голову. 3. «Что случилось?» — спросил кузнец. «Ой!» — сказал человек. 4. Кузнец подошел к человеку поближе. 5. Мы прекращаем повествование о кузнеце и неизвестном человеке и начинаем новое повествование о четырех друзьях гарема. 6. Жили-были четыре любителя гарема. Они считали, что приятно иметь зараз по восьми женщин. Они собирались по вечерам и рассуждали о гаремной жизни. Они пили вино; они напивались пьяными; они валились под стол; они блевали. Было противно смотреть на них. Они кусали друг друга за ноги. Они называли друг друга нехорошими словами. Они ползали на животах своих. 7. Мы прекращаем о них рассказ и начинаем новый рассказ о пиве. 8. Стояла бочка с пивом, рядом стоял философ и рассуждал: «Эта бочка наполнена пивом; пиво бродит и крепнет. И я своим разумом брожу по надзвездным вершинам и крепну духом. Пиво есть напиток, текущий в пространстве, я же есть напиток, текущий во времени. 9. Когда пиво заключено в бочке, ему некуда течь. Остановится время, и я встану. 10. Но не остановится время, и мое течение непреложно. 11. Нет, уж пусть лучше и пиво течет свободно, ибо противно стоять ему на месте». И с этими словами философ открыл кран в бочке, и пиво вылилось на пол. 12. Мы довольно рассказали о пиве; теперь мы расскажем о барабане. 13. Философ бил в барабан и кричал: «Я произвожу философский шум! Этот шум не нужен никому, он даже мешает всем. Но если он мешает всем, то, значит, он не от мира сего. А если он не от мира сего, то он от мира того. А если он от мира того, то я буду производить его». 14. Долго шумел философ. Но мы оставим эту шумную повесть и перейдем к следующей тихой повести о деревьях. 15. Философ гулял под деревьями и молчал, потому что вдохновение покинуло его.
О бессвязности этого повествования уже сказано достаточно — «повествования, как такового уже нет» (Жаккар 1995: 245). Не сказано о том, почему вопреки/благодаря этой бессвязности Хармсу удается быть увлекательным рассказчиком.
Жанровая рамка письма, начинающегося с обращения и запятой после него, требует произнесения приветственной формулы. Отклонение — такой формулы нет. Сразу идет цифра 1 и начинается повествовательный текст. Текст этот интригующий: Однажды человек, разбежавшись, ударился и т. д. Читатель, как бы идентифицирующий себя с кузнецом, ожидает разъяснения, в чем дело. За точкой, показывающей, что поведение странного человека было противоречивым и для него самого (если он сказал Ой! значит не ожидал ушибиться), кузнец подходит к человеку поближе — нас как бы успокаивают, что вот-вот сейчас любопытство будет удовлетворено. И тут читателя кидают. Далее велеречивый и эпический тон переходной фразы — Мы прекращаем повествование о кузнеце и неизвестном человеке и начинаем новое повествование — вводит в атмосферу сказок Шехерезады — и она немедленно будет воплощена. Сегмент под цифрой 6 отличается плавностью и монотонностью синтаксических конструкций. При этом безбрежный эротизм и гедонизм переходит в столь же пышное смакование безобразного падения четырех любителей гарема (да-да, четырех!). Было противно смотреть на них — так что глаз радуется. Они ползали на животах своих — цитатой из библейского проклятия змея («ты будешь ходить на чреве твоем») этот впечатляющий эпизод заканчивается.
Если первый эпизод (1−4) был внутренне незавершен, то второй (6) никакого продолжения, в общем, и не требует. Переход к третьему эпизоду осуществляется вполне мирно. Мы прекращаем о них рассказ и начинаем новый рассказ о пиве. Кажется, что дальше будет нечто из того же ряда. Был рассказ про блевавших сладострастников, теперь про партию любителей пива. Ан-нет. Рассказ будет про философа и в этом переходе повествование связывается с обращением всего произведения к философу Якову Друскину. Сопоставление философом себя с пивом насквозь пародийно и комично. Зато начинает активно играть нумерация сегментов — цифры, разбивающие повествование, прикидываются параграфами философского дискурса: Пиво есть напиток, текущий в пространстве, я же есть напиток, текущий во времени. 9. Когда пиво заключено в бочке, ему некуда течь. Остановится время, и я встану. 10. Но не остановится время, и мое течение непреложно. 11. Нет, уж пусть лучше … ибо противно законам природы и т. д. Четвертый (шумный) и пятый (смолкающий) эпизоды так же оригинальны и смешны по форме, но вполне серьезны по смыслу. Даже если не знать трактатов Я. С. Друскина «Это и то» и «Деревья», понятно, что речь идет об основах философской рефлексии.
В общем-то, в тексте незавершенным оказывается только первое повествование, все остальные самодостаточны — они лишь немотивированно объединены, да и то последние три связаны общим героем. Эта странность соединения заявлена автором в названии — чем уже отчасти погашена — и подчеркнута выделением сегментов с помощью цифр. Поскольку же отсчет сегментов не совпадает ни с количеством, ни с границами эпизодов, обнаруживается, что цифры создают контрастное членение текста. Два несовпадающих типа членения (по эпизодам и по цифрам) незаметным образом сцепляют текст как шестерни. Заканчивается все по-своему гармонично: прогулками отбарабанившего и умолкшего философа среди деревьев.
Ж.-Ф. Жаккар (1995: 242−245) считает текст вообще незавершенным, ссылаясь на его название — коль скоро и пятый, последний, эпизод входит в число незавершенных, значит не завершено все. Между тем, концовка в своем роде замечательна и символична — повествование прекращено там, где философа покинуло вдохновение. Позволим себе экстраполировать ситуацию и на писателя, которому должно прекращать свой текст в том самом месте, где его покинуло вдохновение.
Тогда мы получим ясный ключ к чтению фрагментов Хармса. Многочисленные начала нереализованных случаев, конечно, не дают развития мотива или темы и не достигают смехового катарсиса. Но они чрезвычайно экспрессивны и уже поэтому художественно состоятельны. Не случайно их охотно включают в сборники Хармса наряду с завершенными произведениями.
Берем наугад — сценка без названия (<�Середина 1930;х>; ЦШ: 662):
К, а ш т, а н о в — Лиза! Я вас умоляю. Скажите мне: кто вы?
Е л и з, а в е т, а — Вы отстаните от меня или не отстаните?
К, а ш т, а н о в — Нет! Я не могу! не могу!
Е л и з, а в. — Чего вы не можете?
К, а ш т. — Лиза! Кто вы?
Е л и з, а в. — Да что вы привезались ко мне с идиотской фразой. Вы не знаете, кто я, что ли?
К, а ш т. — Незнаю! Незнаю!
Трудно себе представить, как эту завязку можно развивать. Но это излишне. В семи репликах уместилась почти половина русской литературы XIX века: Чацкий и Софья, Онегин и Татьяна, герои и героини Тургенева, Островского, Гончарова. Не нужно объяснять, какими коннотациями нагружено имя Лиза. Даже все орфографические неправильности (отстаните, привезались, Незнаю!) воспринимаются как броская, аттракционная стилизация.
Длить этот текст сложно и нет смысла, потому что событие взято сразу в кульминации. Можно разве что выстроить для него серию, хотя не известно, удержится ли при этом достигнутая эмоциональная концентрация. К фрагментам можно подходить как к примерам творческих неудач писателя, не способного к завершению, даже развитию своих текстов, как к просто к заготовкам, раскрывающим творческую лабораторию, но можно и как к своеобразным прозаическим одностишиям, фиксирующим «инициальную» (пользуясь удачным словом М. И. Шапира) точку очередного случая, а дальше — актуализирующим воображение читателя, литературоведа, потенциального писателя-соавтора. Например, диалог «Баронесса и Чернильница» (<11−30 ноября 1930>) легко разрезается на несколько совершенно бессвязных кусочков, тем не менее, весьма забавных. А обрывается все на ремарке Выходит Колбасный Человек. Возникает чувство, что самое интересное тут-то и должно начаться.
Обрывы повествования, как и обрывы мотивации, у Хармса имеют некое энергетическое измерение. Эта энергия — в способности текста заинтересовать читателя и не дать интересу удовлетвориться. Почему вываливаются старухи, почему книга называется МАЛГИЛ, почему рассказ называется «Сонет», даже почему на полях текста написано «против Канта» — все вопросы могут иметь только эвристические ответы. Но само интригующее ускользание ответов делает текст реальным, не исчерпанным к моменту окончания его чтения, а бесконечно длящимся в последующей интеллектуально-эмоциональной деятельности читателя. Можно провести аналогию с описанным в психологии «эффектом Зейгарник»: незавершенные действия забываются медленнее, чем завершенные (Зейгарник 1979).
С другой стороны, необходимо добавить, что фрагменты читаются нами не сами по себе — их всегда «достраивает» окружение всей прозы Хармса, подобно тому как в набросках Пушкина или в разбуженных резцом, но незавершенных мраморах Микеланджело мы угадываем контуры шедевров — да простится нам это кощунство отрицателями всякого таланта Д. И. Хармса.
1.2.2 Мотивно-тематическое единство ициклизация
Важным компенсаторным фактором по отношению к механизмам отклонений всех уровней выступают мотивно-тематические связи произведений.
Сквозные образы-иероглифы проходят через многочисленные тексты: имена, числа, окно, круг, шар, падение, полет, небо, время, чудо, сон, смерть, шкаф, шапка (колпак), забывание, отрывание (руки, ноги, уха), старухи, дети и т. д.
Наконец, подавляющую часть произведений объединяет тема насилия: «насилие и столкновение — основные темы прозы Хармса» (Жаккар 1995: 179). Эта содержательная характеристика одновременно является и формальной, поскольку она связана с определенной парадигматикой ссор, драк, убийств, абсурдных смертей и т. п., из которых строятся сюжеты.
Особую роль у Хармса играют числа и повторяющиеся имена. Независимо от их места в синтагматике текста они образуют единые парадигмы, связывающие все его творчество в один текст, выступают как ритмический и упорядочивающий фактор.
В. Н. Сажин (1997) выделил у Хармса устойчивый интерес к числам от 1 до 8: число два «всегда сигнал неблагополучия, настоящей или грядущей опасности»; три часто встречается, «в том числе и в связи с его важностью в индийской философии, изучением которой занимался Хармс» (2: 429); четыре — «основополагающее число в системе мироустройства» (2: 443); «семь отверстий в голове живого существа управляются семью планетами» (2: 443); числу восемь «в компании близких друзей Хармса придавалось мистическое значение .В текстах чаще всего встречаются имена Иван (26 раз) и Антон (13 раз), среди них Иваны Ивановичи, Антоны Антоновичи и Иваны Антоновичи; фамилии персонажей — Бобров (6 раз), Козлов, Окнов, Петраков (по 5 раз), есть Антон Антонович Бобров и Антон Антонович Козлов. Если мы соберем все тексты, где фигурирует Антон Бобров, мы не получим ни стереоскопии характера персонажа, ни динамики его развития, — это определяет его большую принадлежность ритмико-фонетическому плану, нежели миметическому.
Объединение текстов в цикл как образование целостности более высокого уровня создает новые возможности для согласования элементов текста, а также самих произведений, в том числе разнородных, разножанровых и фрагментарных.
Делались попытки описать цикл «Случаи» как целое (Кобринский 1988б). Трудно ответить уверенно, расположены ли произведения в цикле в соответствии с интуитивным авторским видением целого, или же ключ к объяснению композиции «Случаев» еще будет предложен. Программное значение первых двух произведений в цикле <1> «Голубая тетрадь № 10» и <2> «Случаи» бесспорно, хотя трактовать это значение можно по-разному. Безусловно символичен и финал последнего рассказа <30> «Пакин и Ракукин», где злобную маленькую душу покойного Ракукина забирает ангел смерти. Данный тип концовки И. Кукулин относит к третьему типу открытых финалов у Хармса — символически изображающих раскрытие сознания: «по ходу действия один из героев (или оба под влиянием одного) претерпевает (-ют) радикальное изменение, после чего в описании начинают фиксироваться элементы невидимой реальности: „душа“, „ангел смерти“ и др.» (1997: 74−75).
Одним из сквозных является мотив сна. По словам В. Н. Сажина, «мифопоэтическая» функция сна — перемещать человека в мир истинных сущностей [15]: <8> «Столяр Кушаков», <12> «Сон», <24> «Сон дразнит человека».
«Случаи» были не единственным опытом создания цикла или сборника. Всего в архиве Хармса имеется семь сформированных подборок текстов, многие из которых объединяют прозу, сценки и стихи.
1.2.3 Интертекстуальные связи в рассказах Д. Хармса
Любопытный момент был впервые отмечен В. И. Глоцером — над многими текстами Хармса (включая стихотворные) в рукописях стоит значок, представляющий собой рукописную русскую букву «т» или латинскую «m» в сочетании с числом (от 1 до 43). В. И. Глоцер предположил, что Хармс пометил таким образом порядок произведений в задуманной книге (Глоцер 1989). В. Н. Сажин предложил этому другое объяснение: писатель соотносил свои тексты с транскрипциями арканов Таро (значок — русская буква «т») по книгам Папюса и П. Успенского. «Так, например, значение Аркана 32 — благоденствие, процветание — в новелле „Что теперь продают в магазинах“, которую Хармс обозначил этим номером, реализуется в последней фразе: Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах! Но ей предшествует история потасовки двух героев, в ходе которой один убивает другого этим самым огурцом» (Сажин 1993: 94).