Иностранцы в Советской России в 1920-е — 1930-е гг.: Источники и методы социально-исторического исследования
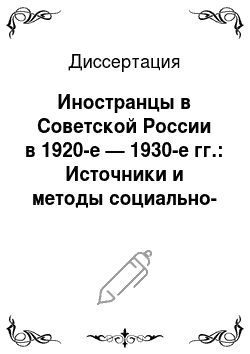
См.: Василевский А. И. Деятельность Московской парторганизации по развитию интернациональных связей трудящихся столицы и зарубежных стран. 19 281 932. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1981; Иоффе А. Е. Интернациональные научные и культурные связи Советского Союза. 1928;1932. М., 1969; Исаева Г. М., Кулешова Г. С., Цыганков В. П. Москва интернациональная. М., 1977; Лукьянов К. Т… Читать ещё >
Иностранцы в Советской России в 1920-е — 1930-е гг.: Источники и методы социально-исторического исследования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Новые подходы и инструментарий социальной истории
- Перспективные направления социальной истории и источниковедение: проблемы взаимодействия
- Иностранная иммиграция и иноколония в СССР в 1920—1930-е гг.: итоги изучения в отечественной и зарубежной историографии
- Источниковая база исследования
- Часть I.
- ИММИГРАЦИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ. ВОПРОСЫ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
- Глава 1. Иностранные рабочие и тайна советской электролампы. Проблема контекста в социально-историческом исследовании
- Иммиграция 1920−1930-х гг. сквозь призму биографической истории
- План ГОЭЛРО под угрозой
- Операция «вольфрам»: источники и практические вопросы биографической реконструкции
- Инорабочие на московском Кабельном заводе и заводе б. Морзе
- Глава 2. В иностранных клубах Москвы. Материалы об особенностях социальной адаптации иммигрантов
- Источники о деятельности немецкого коммунистического клуба
- У истоков клуба инорабочих
- Глава 3. Документы об интернациональных корнях советской индустриализации
- Социально-исторические подходы и источники изучения индустриальной модернизации на уровне предприятий
- В погоне за «западным чудом»
- Промышленный шпионаж как предмет инженерной гордости
- Материалы о производственной повседневности вольфрамового отдела московского Электрозавода
- Часть II.
- МАССОВОЕ ХОЖДЕНИЕ В СОЦИАЛИЗМ. ОПЫТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО МИКРОИССЛЕДОВАНИЯ
- Глава 4. Материалы заводского архива как источник о создании иностранной колонии московского Электрозавода в начале 1930-х гг
Особенности формирования иноколонии в общем контексте иммиграции. 264 Социальный портрет, количественный и качественный состав иноколонии .281 В СССР с открытым сердцем: иностранцы и советская специфика.
Глава 5. Социальная практика: советская действительность 1930-х гг. через повседневную жизнь и эмоциональное восприятие иностранцев.
Ожидания, реалии и социальная справедливость.
Деньги плюс идеалы.
Валюта ценою в жизнь.
Закрепление" иностранцев.
Коммунальная повседневность.
Жизнь по карточкам.
Иноколония в зеркале социального конфликта.
Эмоциональные срывы на производстве: случайность или закономерность?.
Глава 6. Иностранная колония в семейно-биографическом ракурсе.
Рабочий во фраке: портрет В. Путцке на фоне его жилища.
От единства в Германии к противоположности в СССР: семьи Бандша и
Шмидта на Электрозаводе.
Люди и символы: история «образцовых» семей Гутов и Цинтов.
В Моссовет под чужим именем: В. Кох и его окружение.
Часть III.
ЛИКВИДАЦИЯ ИНОСТРАННОЙ КОЛОНИИ В КОНЦЕ 1930-х гг. ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ
Глава 7. Повседневная жизнь, «большая политика» и проблемы поведенческой мотивации.
Дезертиры" с фронта социалистического строительства.
Конец эпохи пролетарского интернационализма.
Фашистская Германия лучше сталинской России?
Глава 8. Материалы НКВД как источник о массовых репрессиях среди иностранцев.
Социальная история репрессий: новые подходы и источники.
Аресты и следствие: детали человеческой трагедии.
Человек в экстремальных ситуациях: истории о любви, верности и предательстве.
Эрих Виттенберг и Карл Шредер в застенках НКВД.
Последнее желание Хелен Шредер.
Реабилитация.
Новые подходы и инструментарий социальной истории.
Задачи переосмысления прошлого нашей страны настоятельно выдвигают на первый план необходимость углубленного изучения проблем социальной истории1, которая представляется одним из важных и перспективных направлений современной историографии вообще, и по истории советского периода в частности2. По мнению специалистов, «именно на поле социальной истории происходит апробирование новых подходов к истории в целом, выдвижение новых тем и методик, использование того инструментария, который в наибольшей степени соответствует современному этапу мировой историографии"^. Социально-исторический подход в самом общем виде определяется как ретроспективное исследование человека и его положения в обществе в различных ситуациях и взаимосвязях.
1 Социальная история относится к историографическому направлению, которое активно развивается и совершенствуется. Специалисты выделяют несколько этапов, пройденных социальной истории. На смену «научно-социальной» (social science history) пришла «новая социальная история» и даже «другая социальная история». В данном исследовании предложена более общая трактовка. Под термином «социальная история» понимается комплекс родственных направлений, исповедующих единый социально-исторический подход — первичность исследования человека и его положения в обществе, общий взгляд на прошлое не «сверху», через историю государственных институтов, а «снизу», через мысли, взгляды, оценки и восприятия, поступки рядовых людей, объединенных в естественные социальные ячейки (семья, бригада, друзья, соседи и др.). Вместе с тем, разного рода государственные, партийные учреждения — тоже объект изучения социальной истории, но под специфическим углом зрения. Во-первых, как номенклатурные социумы с характерными взаимоотношениями, производственной этикой, бытовым укладом жизни сотрудников и т. д. Во-вторых, для исследования взаимоотношения общества и государства. В-третьих, для установления смысла, значения и соотношения исторических явлений, особенно на микроуровне, вписывания их в более широкий исторический контекст.
2 Знаменательным событием последних лет стал выход в свет нескольких выпусков ежегодника социальной истории: Социальная история. Ежегодник, 1997. М., 1998; Социальная история. Ежегодник, 1998/1999. М., 1999.
3 Чубаръян А. О. Современные тенденции социальной истории // Социальная история. Ежегодник, 1997. С. 7.
Уже первые предварительные выводы, основанные на сравнении ставших доступными в последние годы архивных материалов, включая рассекреченные коллекции, с существующей историографией по советской истории приводят к выводу о том, что меньше всего и хуже всего у нас оказались изученными именно советский человек и советское общество, являвшееся чрезвычайно сложно структурированной, многогранной и крайне противоречивой социальной системой. Последние работы российских социальных историков свидетельствуют: изучение советской истории, в частности периода 1920 — 1930;х гг., невозможно без признания того обстоятельства, что общество в этот период выступает как важный самостоятельный фактор, оказывающий влияние на государство, властные структуры и особенности развития страны4.
По нашему мнению, именно углубленное исследование сложного, в значительной степени опосредованного, а потому не всегда заметного взаимодействия общества, человека и власти как единой системы является задачей номер один в исследовании советской истории вообще, и сталинского периода в частности. Однако концепции и подходы, господствующие в современной российской историографии, не позволяют в достаточной мере ответить на многие ключевые вопросы истории советского общества. Наличие существующего сегодня кривого историографического зеркала частично объясняется историографической традицией, основанной на.
4 Так, по мнению Е. Ю. Зубковой, «после того, как социальная история пережила своего рода „бум“, уже нет необходимости доказывать, что умонастроения и психологические ориентации людей. в значительной степени определяют механизм принятия решений, в том числе и во властных структурах» (Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945;1953. Политика и повседневность. М., 1999. С. З). Вопрос о взаимозависимости ментально-сти общества и «высокой политики» также рассмотрен в практической плоскости в сб.: Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918;1932 гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. Авторы текста и комментариев А. К. Соколов, С. В. Журавлев, В. В. Кабанов. М., 1997; Общество и власть. 1930;е гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. Авторы текста и комментариев С. В. Журавлев, А. К. Соколов. М., 1998; Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. М., 1998; псевдо) марксистской, на практике государственно — ориентированной концепции исторического процесса, в которой обществу отведено второстепенное, подчиненное положение, и связанных с этой установкой историографических приоритетах. Советская социально-историческая проблематика оказалась по существу поделенной на «социально-экономическую» и «социально-политическую», а для «чисто» социальной истории, за малым исключением, специального места не находилось5. Либо же она трактовалась исключительно как история классов. Этот вывод особенно заметен по сравнению с явным креном советской историографии в сторону изучения фактически сросшихся между собой партийно-государственных институтов, учреждений и общественных организаций, а также роли их руководителей.
В отечественной, да и в зарубежной историографии до сих пор преобладающим остается интерес к въедающимся личностям, тесно связанным с властью — к «генералам» истории, в то время как ее «рядовые» участники незаслуженно находятся в тени. В СССР, как и в других странах, существовали специальные институты, занимавшиеся изучением и публикацией биохроник и творческого наследия вождей, лидеров марксизма-ленинизма. Каждый новый документ, относящийся, например, к деятельности В. И. Ленина, в свое время приравнивался к научному открытию. Период перестройки вызвал к жизни настоящий биографический бум, связанный с «первыми лицами»: Н. И. Бухариным, В. И. Лениным, И. В. Сталиным, Л. Д. Троцким, Н. С. Хрущевым и др.6 Стали доступными или были переве.
5 В этих условиях, конечно, не прекращался процесс накопления социально-исторического знания, в основном, в фактологической форме. Подробнее о заслугах и недостатках советской историографии в области изучения социально-исторической проблематики см.: Соколов А. К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С.39−41.
6 Данная тема могла бы стать предметом специального исследования. Наиболее ярким примером «новой волны» является трилогия Д. А. Волкогонова — политические портреты В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого и И. В. Сталина (М., 1989, 1994). дены многие посвященные им исследования западных ученых7. За последнее десятилетие наблюдается заметный всплеск издания мемуарной литературы о советских руководителях. Одно перечисление названий опубликованных мемуаров заняло бы не один десяток страниц. Несомненным достижением постсоветского времени стало привлечение внимания научной общественности к людям из «второго эшелона» власти, а также к изучению номенклатурной элиты8. Предметом специального изучения на основе новых источников стало сталинское Политбюро как в плане механизма функционирования этого важнейшего органа, так и входивших в него персоналий9. Немало выходит и сборников документов, переписки людей из сталинского окружения10. В результате можно констатировать, что в последнее время наметился заметный положительный сдвиг в плане изучения разных аспектов деятельности, семейной жизни и быта узкого круга советского руководства и номенклатурной элиты. В связи с их исследованием.
7 Кот С. Бухарин. Политическая биография. 1888−1938. М., 1988; Куманев В. А., Куликова КС. Противостояние: Крупская — Сталин. М., 1994. Особенно богатой является зарубежная литература о И. Сталине, который долгое время рассматривался на Западе как ключевая личность для объяснения сталинского периода и главный рычаг всей советской системы 1930;х — 1940;х гг. По сути дела, целая сложнейшая эпоха российской истории изучалась в основном сквозь призму сталинской биографии. Наиболее показательные работы такого рода, ставшие в конце 1980;х — начале 1990;х гг. настольными книгами российских историков: Tucker, Robert С. Stalin as a Revolutionary, 1879−1929: A Study in History and Personality (New York, 1977) — Ulam, Adam. Stalin: The Man and His Era (New York, 1973) — Bialer, Seweryn. Stalin’s Successors: Leadership, Stability, and Change in the USSR (Cambridge, 1980) — Medvedev, Roy. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism (New York, 1971).
8 Коржихина Т. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // Вопросы истории. 1993. № 7- и др.
9 Сталинское Политбюро в 30-е годы / Сост. О. В. Хлевнюк, А. В. Квашонкин, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая. М., 1995; Хлевнюк О. В. Сталин и Орджоникидзе: Конфликты в Политбюро в 1930;е гг. М., 1993; Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930;е годы. М., 1996.
10 Берия: конец карьеры. Сб. / Сост. В. Ф. Некрасов. М., 1991; Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф.Чуева. М., 1991; Генрих Ягода: Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар госбезопасности. Казань, 1997; Письма И. В. Сталина — В. М. Молотову. 1925;1936 гг. Сб. док. М., 1995; в настоящее время готовится к публикации переписка И. В. Сталина и Л. М. Кагановича. при оценке конкретной личности историки впервые в отечественной историографии обратили столь серьезное внимание на значимость черт характера, окружения, образовательного уровня и жизненного опыта, пристрастий, состояния здоровья, личной жизни руководителей и т. д.
На этом сравнительно благополучном фоне особенно отчетливо проявляется критическая ситуация, связанная с отсутствием специальных исследований о рядовых гражданах сталинского времени, о том, как они воспринимали эпоху, в какой степени и как именно события тех лет преломились в сознании и судьбах этих людей, какую роль им — составлявшим громадное большинство населения — довелось сыграть в истории11. Более того, за счет обилия работ о представителях советской элиты и отсутствия таковых о «маленьких людях» возникла историографическая диспропорция, способная сформировать ложное представление, будто все важнейшие аспекты жизни страны и общества могут быть изучены и объяснены через штудирование биографий вождей. С учетом вышесказанного, по нашему мнению, назрела острая потребность в таких биографических исследованиях, которые позволят воскресить из исторического небытия «маленькую личность», показать ее роль в жизни страны, реконструировать на основании документов бытовую и производственную повседневность обыкновенных советских граждан12.
11 К сожалению, работы такого рода можно буквально пересчитать по пальцам. См., например: Старков Б. А. Дела и люди сталинского времени. СПб., 1995. В условиях отсутствия исторических исследований по данной теме образовавшийся вакуум был в известной мере восполнен литераторами и публицистами перестроечной поры, призведения которых оказались зачастую не менее идеологически ангажированными, чем творения времен соцреализма.
12 Обращает на себя внимание плодотворность сходного подхода, продемонстрированного на примере социальной истории Магнитогорска 1930;х гг. американским исследователем Стивеном Кожиным. Опираясь на методологические разработки Пьера Бурдье (Bowdieu, Pierre. Outline of a Theory of Praxis (Cambridge, Mass., 1977), С. Когкин в качестве задачи своего исследования указал на необходимость изучения того, «какой образ жизни люди были в состоянии веста», «как они понимали свои жизни», для чего, полагал Коткин, «людям надо дать говорить как можно больше своими словами».
С точки зрения социальной истории, на первый взгляд, общепризнанное деление людей на субъекты и объекты истории, как и градация на более и менее значимые субъекты исторического процесса, не могут считаться оправданными, в том числе из-за уникальности и самоценности человеческого индивидуума как такового. Как, впрочем, и по той простой причине, что никто еще не доказал (а чаще всего историки, будучи под властью стереотипов, просто не задумываются над абсурдностью подобного сопоставления), что быть выдающимся публичным политиком или государственным деятелем «важнее», чем, например, просто честно трудиться, рожать и растить детей, стать хорошим семьянином, солдатом или строителем, церковнослужителем, учителем или музыкантом. Несправедливость и субъективность традиционной истории, долгое время ориентировавшейся на безусловную приоритетность макроисследований (оставляющих историю с абстрактными обобщениями и цифрами, но без «человеческого лица»), либо открывающей свои страницы лишь для единиц «великих» (причем, неважно — созидателей или разрушителей, святых или преступников) и оставляющей за скобками миллионы жизней и судеб, должна быть исправлена во имя приближения к объективному знанию о прошлом. Для социальной истории, имеющей для достижения этой цели особое значение, все люди и сферы человеческой жизнедеятельности равны в том смысле, что все они — лишь части единого целого, а их приоритетность весьма относительна. Социальная история полагает, что обычный, рядовой человек достоин и должен стать объектом научного изучения и наравне с «сильными мира сего» попасть на страницы исторических книг.
Нельзя не признать, однако, что традиционная приоритетность «вождистского» и «государственнического» подхода отразилась на существовавшей в СССР и продолжающей действовать системе отбора документов на постоянное архивное хранение. А ведь именно на основе таких.
Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization (Berkeley-Los Angelesисторических остатков" исследователям в основном приходится изучать прошлое. Найти среди них сведения об известном деятеле или руководителе оказывается несравненно проще, чем о «маленьком человеке"13. Кроме национальной специфики отбора документов на постоянное хранение, существует и интернациональная проблема: традиционные источники, которыми привыкли пользоваться историки (законодательные, делопроизводственные, статистические материалы и др.), как правило, не содержат либо «отбрасывают» прямую информацию о рядовых людях14. В результате возникает вполне закономерный вопрос: а возможна ли в принципе, с учетом нынешнего состояния источниковой базы по истории 1920;х — 1930;х гг., детальная биографическая реконструкция повседневной жизни конкретного рядового человека советской эпохи? Какие именно источники и методики должны быть положены в основу такой работы? Что нового она может дать для понимания социальных процессов в целом? Как представляется, биографический подход и, соответственно, персонифицированные источники и документы личного происхождения могут стать одним из ключевых звеньев в такого рода исследованиях.
Вопрос об освобождении от стереотипов остро стоит и в связи с анализом соотношения публичной и частной сфер в жизни человека и общества. По существу историкам не известно не только само содержание частной жизни рядового советского гражданина, но и то, в какой степени оно определяло его поступки и как соотносилось с публичной сферой, с офи.
Ьопёоп, 1995). Р.21).
13 Неудовлетворенность научной общественности ситуацией с комплектованием госархивов источниками личного происхождения и осознание того, что в силу этого из поля зрения специалистов исчезает целый пласт общественной жизни, стала одной из причин возникновения в период перестройки Народного архива при РГГУ, архивных коллекций общества «Мемориал», Архива личных коллекций в составе Мосгорархива. Фонды указанных хранилищ состоят в основном из источников личного происхождения, материалов семейных и творческих архивов, наиболее слабо востребованных отечественной исторической наукой. циальной пропагандой, с господствовавшими в обществе настроениями и т. п. Новый ракурс социальной истории заключается в том, что она исходит из мнения о человеке как активном действующем субъекте прошлого. Его представления о жизни в широком смысле слова, как и поступки, в значительно большей степени, чем принято было полагать применительно к советскому времени, зависели от повседневного опыта конкретного индивидуума, от воспитания в семье, в дворовом и трудовом коллективе, от окружения и т. д. Такие общие категории, как экономика, политика, идеология, законодательство и проч. в реальности существовали и действовали лишь опосредованно, «просеиваясь» сквозь призму конкретного опыта, объективных и субъективных обстоятельств и проч., побуждая определенные ответные реакции и действия. Вопрос о том, как именно это происходило, какую роль играл жизненный опыт, социальная практика и индивидуальное восприятие, а также — эмоциональный фактор в истории, поставлен, но до сих пор по большому счету не изучен.
Другим «родимым пятном» отечественной историографии, от которого никак не удается избавиться, можно признать схематизм и «клишированность». На наш взгляд, особая научная привлекательность направления социальной истории заключается в том, что она помогает не допустить упрощения, «спрямления», унификации исторического процесса, тенденции к чему достаточно заметны. Напротив, она демонстрирует и стремится учесть по возможности всю его сложность, многогранность, противоречивость, опосредованность, вскрыть новые, ранее неисследованные пласты прошлого. Понятно, что такая задача намного сложнее, и не только потому, что предполагает для решения комплексный междисциплинарный подход. Одним из главных лозунгов социальной истории является необходимость возвращения из области абстрактного теоретизирования,.
14 Iggers, Georg G. Historiography in the 20th Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge (Hannover and London, Wesleyan Univ. Press, 1997). P. 114. от стереотипов, от придуманных специалистами клише и категорий, которыми в действительности никогда не оперировали обычные люди, от часто не вполне оправданных субъективных исследовательских обобщений и типизации — к живой исторической конкретике, к фактам, подробностям, казусам, уникальным, а не только типичным ситуациям, — к тем самым «мелким деталям», которые традиционная история, как правило, опускает, считая их несущественными, но без которых она превращена подчас из яркого благоухающего растения в высушенное, блеклое его подобие. В этом смысле именно приемы и методы социальной истории (прежде всегомикроистории, биографической и семейной истории, истории повседневности и др.), о которых подробнее речь ниже, представляются наиболее эффективными для решения ключевых для историка вопросов исторической реконструкции.
По всей вероятности, изучение советской социальной истории потребует и более творческого подхода к «механике» исследовательского труда. Общепринято, что историк сначала формулирует задачи своего исследования, а затем подбирает под их решение соответствующую источнико-вую базу. Тем самым изначально задается условная модель, уровень абстрагирования которой от исторической реальности может быть весьма существенным. Хорошо, если по интересующему вопросу существует доброкачественная обширная литература. Однако специфика советской социальной истории 1920;1930;х гг. такова, что исследователь нередко выступает в роли первопроходца либо вынужден сугубо критически подходить к написанному ранее, в том числе и в связи с ограниченностью источниковой базы. В таком случае, по-видимому, плодотворен принципиально иной подход: идти к пониманию прошлого и его ключевых проблем путем проведения его предварительной «пункции» — через детализированную, углубленную документальную реконструкцию пробных «отрезков» (или «срезов») истории с помощью микроанализа, через документальное реконструирование биографий людей, микросоциумов, конкретных жизненных ситуаций и т. д.
Речь, таким образом, идет об «интервенции» на начальном этапе исследования — с помощью одновременного привлечения новых источников и задействования социально-исторических (в том числе микроаналитических, биографических и др.) методов — в «живую ткань» прошлого. На определенном этапе исследования, однако, наибольшую важность преобретает вопрос о вписывании результатов микроанализа в общий исторический контекст, а именно: о том, как они соотносятся с макропроблематикой и способны ли и в какой мере реконструированные «отрезки», биографии или ситуации отразить существо более общих явлений и процессов. Направление социальной истории накопило значительный, зачастую невостребованный отечественной историографией методический опыт как для осуществления реконструктивных задач и микроанализа, так и для решения проблемы практической интеграции микрои макроистории15. Апробирование этого опыта именно на источниках советского периода представляется актуальной историографической задачей.
Активно развиваясь в течение нескольких последних десятилетий на Западе, социальная история советского времени как особое научное направление в современной России делает только первые шаги и находится по существу в состоянии критического осмысления зарубежного опыта, постановки и начала решения исследовательских проблем16. В постсоветское время, когда наметилась тенденция переписывания советской истории «наоборот», в отечественной историографии адаптировалась и получила.
15 О значении, итогах и перспективах интерграции микрои макроисследований в отечественной и зарубежной историографии см.: Историк в поиске. Микрои макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5−6 октября 1998 г. (М., 1999).
16 Подробный анализ развития данного направления, включая важные наработки советской историографии, см.: Соколов А. К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С.39−76. Во многом в аналогичном положении находится и другое перспективное историографическое направление, рассматривающее отечественную историю с точки зрения популярной на Западе широкое распространение концепция тоталитарного общества. Родившаяся в советологических кругах Запада во времена «холодной войны» и несущая на себе явный идеологический подтекст, она утверждала, что советское общество, раздавленное тотальным контролем партийно-государственной машины во главе с диктатором, по существу не действовало как самостоятельный социальный и политический фактор. Советский человек представлялся либо подвергнутым насилию в ГУЛАГе, либо марионеткой, ма-нипулировавшейся «сверху», обезличенным «винтиком» в механизме государства, пропитанным «ядом коммунистической пропаганды». Используя образное сравнение американских историков А. Гетги и Р. Маннинг, дело было представлено таким образом, будто рядовые советские граждане никогда не были актерами на исторической сцене, игравшими свои собственные роли по собственному сценарию и воле17. По мнению «классиков» тоталитаризма Х. Арендта, З. Бжезинского, М. Фэйнсода и др., истоки советского тоталитаризма, наиболее рельефно проявившегося в период правления Сталина, лежат в Октябрьской революции и в большевизме, в коммунистической идеологии вообще и социализме как форме общественного устройства18. С этой точки зрения, например, массовые репрессии 1920 -1930;х гг. рассматривались как органическая часть и одно из наиболее ярких проявлений сущности тоталитаризма. Проводились и прямые параллели между тоталитарными режимами, особенно сталинским социализмом, гитлеровским национал-социализмом19 и итальянским фашизмом. Безтеории модернизации. Специальное рассмотрение данной тенденции — самостоятельный вопрос, который не входит в задачи нашего исследования.
17 Getty, Arch J. and Manning, Roberta T. Introduction for: Stalinist Terror: New Perspectives (Cambridge Univ. Press, 1993). P.2.
18 Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism (New York, 1951) — Fainsod, Merle. How Russia Ruled (Cambridge, Mass., 1953) — Brzezinski, Zbignew. The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism (Cambridge, Mass., 1958).
19 Многолетнее господство тоталитарной модели в изучении истории Германии 1920 — 1930;х гг. оценивается в современной немецкой историографии негативно. Оно привело к тому, что, как и в случае с советской историей, долгое время детально не изучалось само немецкое общество в условиях национал-социализма. ошибочной характеристикой тоталитарных подходов стал также знак равенства в понятиях ленинизм, сталинизм и тоталитаризм.
Показательно, тем не менее, что из многочисленных работ, анализировавших советскую историю под этим ракурсом, практически только исследования Фэйнсода и Бжезинского основывались на новых источниках, причем весьма специфического свойства. Бжезинский широко использовал материалы интервью с бывшими советскими гражданами, эмигрировавшими после Второй мировой войны на Запад и рассказывавшими в поисках убежища ужасы о советских порядках20. С точки зрения источниковедения, введение в научный оборот столь субъективных и политизированных источников без надлежащей проверки на достоверность и критического анализа вело к искажению действительности. Заслуга Мерла Фэйнсода заключается в том, что он первым ввел в научный оборот и использовал не менее сложный с точки зрения источниковедческого анализа и интерпретации комплекс материалов Смоленского архива, первоначально захваченного гитлеровцами и оказавшегося впоследствии в США, проложив до.
Только в 1980;х гг. германскими, британскими и американскими учеными началось глубокое исследование гитлеровского общества «изнутри». С тех пор вышло немало работ, которые подводят к совершенно иному пониманию сути нацизма и его проявлений в обществе. Своеобразным итогом ревизии германской истории под ракурсом социально-исторических подходов является сборник: Nazism and German Society. 1933;45. Ed. by David F. Crew (London and New York, Routledge, 1994). Многие выводы, основанные на данных германской истории, особенно в отношении социальной поддержки фашизма, имеют прямое отношение к советской истории сталинского времени или заставляют по крайней мере задуматься об аналогиях. Одной из таких принципиальных позиций является точка зрения D. PeuJkert, что 3-й Рейх был всего лишь патологическим вариантом модернизации, который породил феномен национал-социализма (Peukert, Detlev. Inside Nazi Germany. Conformity, Opposition and Racism in Everyday Life (New Haven-London, Yale Univ. Press, 1987). Если так, то очевидна и связь сталинизма с процессами индустриальной модернизации в Советской России.
20 Brzezinski, Zbignew. The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism (Cambridge, Mass., 1958). В данном исследовании использованы материалы специального проекта интервью с эмигрантами из СССР военной волны — Harvard Emigre Interview Project. рожку к этим документам для других ученых21. С историографической точки зрения представляется существенным тот факт, что Фэйнсод и его последователи, в известной мере вынужденно, из-за недоступности советских архивных источников, на примере изучения документов трофейного Смоленского архива обратили внимание на значимость исследований регионального и местного уровня для того, чтобы через частное и малое (по сути — микроподходы) постараться выяснить особенности советской эпохи. Смоленский архив они рассматривали как «маленькую модель реальной деятельности коммунистической партии и правительства на низовом уровне"22. Вместе с тем, в условиях «холодной войны» Бжезинский, Фэйнсод и их последователи увидели в документах Смоленского архива и материалах интервью с эмигрантами то, что и хотели найти, исходя из представлений об СССР как о тоталитарном государстве. В обоих случаях речь шла о подгонке эмпирического материала под заранее заданную схему и игнорировании всего того, что не вписывалось в нее. «Как и у многих политологов, интересы Фэйнсода были узко политическими, слишком абстрактными и чрезвычайно увязанными с вопросами власти. В итоге человеческая ткань системы управления, имевшие место изменения во времени, взаимодействие правительства с народом. были отвергнуты для изучения"23, — позже отмечала представительница оппозиционного тоталитаристам — «ревизионистского» по отношению к ним направления американской историографии Р. Маннинг, проанализировавшая материалы того же трофейного Смоленского архива,.
21 Fainsod, Merle. Smolensk Under Soviet Rule (Cambridge, Mass., 1958). Как показал в докторской диссертации Е. В. Кодин, материалы трофейного Смоленского архива сыграли ключевую роль как важнейшая документальная база для обоснования ведущих направлений американской советологии в 1960;1970;е гг. См.: Кодин Е. В. Американская послевоенная советология: методология и источнико-вая база. Автореф. дисс. докт. историч. наук. М., 1998.
22 Цит. по: Кодин Е. В. Указ. соч. С. 8.
23 См.: Маннинг, Роберта. Вельский район, 1937 год. / Пер. с англ. Смоленск, 1998. С.7−8. Данная работа не является исключением. Материалы Смоленского архива были предметом изучения и других историков-ревизионистов, пришедших, но уже под другим углом зрения, и пришедшая благодаря этому к иным выводам о роли советского общества, партии и государства в 1930;е гг. в масштабе конкретного региона. Данный пример, когда, исследуя одни и те же источники, признанные специалисты Фэйнсод и Маннинг, исповедующие разные методологические принципы и подходы, пришли к разным выводам, представляется чрезвычайно существенным для понимания того, насколько важно для воссоздания объективной картины прошлого рассматривать одни и те же явления с разных сторон, под разным углом зрения, используя разнообразные, в том числе — социально-исторические приемы и методы исторического исследования.
Разоблачение в СССР в конце 1950;х гг. культа личности Сталина, процесс реабилитации необоснованно репрессированных и расширение в связи с этим круга доступных источников, а также издание на Западе в начале 1970;х гг. известных работ А. Солженицына и Р. Медведева вызвали новый оживленный интерес к проблеме массовых репрессий в СССР, рассматривавшихся в тесной увязке с задачами разоблачения «кровавого тоталитарного коммунистического режима», «империи зла». Наиболее ярким представителем этой волны исследователей стал политолог, историк и поэт Роберт Конквест. В центре его внимания оказались материалы показательных процессов 1930;х гг., по которым проходили известные деятели партии, государства, международного коммунистического движения, а его выводы, обличающие сталинизм, стали мощным оружием в продолжавшейся идеологической борьбе двух систем24.
По признанию иностранных ученых, только в 1970;е гг. на Западе начинается изучение советской истории с научных позиций, то есть как к аналогичным выводам. См.: Getty, Arch J. Party and Purge in Smolensk, 1933;1937 // Slavic Review, Vol.42, № 1 (Spring 1983). P.60−79.
24 Conquest, Robert. The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties (New York, 1968) — Он же. The Great Terror: A Reassessment (New York-Oxford, 1990). В том, что P. Конквест остается верен своим подходам к советской истории, провозглаистории, а не политического феномена25. Характерно, что происходило это в основном именно под флагом социально-исторического анализа. Накопление критической массы необъяснимых с точки зрения традиционных антикоммунистических, политизированных подходов проблем вызвало в США выход на историографическую арену историков — «ревизионистов» М. Левина, Ш. Фитцпатрик и их последователей26, подвергнувших переосмыслению прежние представления о тоталитарной концепции как единственно верной для объяснения советской истории. Они впервые обратили внимание на изучение социальной базы сталинизма и значимость исследования социальной истории советского общества, также как и разных аспектов взаимоотношения общества и власти. Характерно, что работы историков — «ревизионистов» были основаны на значительно более широком шенным в 1960;е гг., нам довелось убедиться во время личной встречи в Стэн-форде в начале 1995 г.
25 Getty, Arch J. and Manning, Roberta T. Introduction // Stalinist Terror: New Perspectives (Cambridge Univ. Press, 1993). Р.З. С выводом Арча Гетти и Роберты Маннинг об антиисторичности подходов Фэйнсода и других американских политологов 1950;х — 1960;х гг., исповедовавших тоталитарную модель, солидаризировался такой признанный авторитет, как Стивен Коэн: Cohen, Stephen F. Old and New Approaches: Bolshevism and Stalinism // Tucker, Robert (ed.): Essays in Historical Interpretation (New York, 1977). P.5−10.
26 Lewin, Moshe. Political Undercurrents in Soviet Economic Debates (Princeton, 1974) — On же. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia (New York, 1985) — Он же. Russia/USSR/Russia: The Drive and Drift of a Super-State (New York, 1995) — Fitzpatrick, Sheila. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921;1934 (Cambridge, 1979). Последняя работа имела для своего времени особое значение, поскольку автору удалось показать: политика советского режима в области культурной революции получила существенную социальную поддержку «снизу». Тем самым в повестку дня уже не на уровне догадок и предположений был поставлен вопрос о социальной базе сталинизма. Среди наиболее известных последователей традиций советской социальной истории в разных странах мира — Lewis Siegelbaum, Vladimir Andrle, Donald Filtzer, William Chase, Hiroaki Kuromiya, Lynne Viola, Arch Getty, Gabor Rittersporn, Andrea Graziosi и др. Историографию изучения советской социальной истории 1920;х -1930;х гг. подробнее см.: Siegelbaum, Lewis Н. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935;1941 (New York, 1988). P. 16−65. Единственная на русском языке, но не самая удачная обобщающая работа о советской социальной истории (лекционный курс в Ростовском Университете): Холмс Л. Социальная история России: 1917 — 1941. Ростов-н/Д., 1993. круге источников (включая материалы советских архивов), чем труды «тоталитаристов». Исторически направление социальной истории воспринималось во многом как «левая» альтернатива «правой» тоталитарной модели. В настоящее время историки, относящие себя в той или иной степени к сторонникам изучения советского прошлого с позиций социальной истории, занимают лидирующие позиции в американской и весьма влиятельны в европейской историографии. Общепризнанным считается и тот факт, что одним из важных результатов противостояния тоталитарной и ревизионистской школ в западной историографии последних десятилетий стало определение исследовательских направлений, вокруг которых не стихают дискуссии. В связи с этим произошло известное смещение исследовательских приоритетов. По мнению Е. В. Кодина, специально изучавшего данный вопрос применительно к американской историографии, «это в первую очередь социальная, а не политическая история Россииистория развития всего общества как живого организма, а не только его верхушки», изучение неисследованных пластов советской истории, особенно на местном и региональном уровне, на основе введения в научный оборот новых архивных документов27. По нашему наблюдению, аналогичные тенденции углубленного интереса специалистов именно к истории разных сторон многогранной человеческой жизнедеятельности рельефно отразили результаты Всемирного Конгресса историков в г. Осло (август 2000 г.), подводившего итоги развития исторической науки в уходящем веке28.
С учетом вышесказанного, многие западные коллеги в конце 1980;х -1990;е гг. с удивлением следили за победным шествием по пространствам бывшего СССР концепции тоталитарного общества, аксиоматичным отношением к которой зарубежная историография уже «переболела"29. И де.
27 Кодин Е. В. Указ. соч. С. 17.
28 19th International Congress of Historical Sciences. Proceedings. Reports, Abstracts and Round Table Introductions (Oslo, 2000).
29 О тоталитарной модели в российской историографии см.: Борисов Ю. С., Голубев A.B. Тоталитаризм и отечественная история // Свободная мысль. 1992. ло не только в том, что данная концепция оказалась весьма кстати идеологам «новой» России для обоснования антикоммунизма. Именно она по большому счету давала оптимальную возможность для быстрого переписывания истории «со знака плюс на знак минус» без столь необходимого реального переосмысления прошлого. Ведь для этого нужно было, не ограничиваясь разоблачительной публицистикой, кропотливо разбираться в советском «наследстве», вводить в научный оборот и анализировать новые комплексы рассекреченных исторических источников, глубоко перепахивая слежавшиеся за долгие годы пласты истории, где, например, «культурный слой» социальной истории — самый толстый и жирный — оказался в самом низу. Парадоксально, но факт: на первый взгляд, явные идеологические антиподы — (псевдо)марксистская концепция в исполнении советской историографии и антикоммунистическая теория тоталитаризма — в их политизированности, преувеличении значимости партийно-государственных институтов, а, с другой стороны, в недооценке истории общества, истории «рядового человека» и истории повседневности неожиданно оказались очень близкими между собой. Принципиальным исходным моментом обеих теорий, таким образом, явился подход к истории «сверху», но никак не «снизу», не через судьбы, восприятие и жизненный опыт миллионов обычных граждан. Былые призывы, раздававшиеся на заре перестройки, о значимости человеческого фактора в истории, как правило, призывами и остались, так и не воплотившись в конкретные исследования30.
14- Головатенко А. Ю. Тоталитаризм XX века: материалы для изучающих историю и обществоведение. М., 1992; Игрицкий Ю. И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе // История СССР. 1990. № 2- Он же. Снова о тоталитаризме // Отечественная история. 1993. № 1- Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989; и др. Относительно засилья в российской историографии тоталитарных подходов см., например, мнение Марка ван Хагена в рецензии на книгу Вильяма Чейза (Chase, William. Workers, Society, and the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918;1929 (Urbana, 1990). // ILWCH. 1994. № 45. Spring.
30 См.: Козлов В.A. u Хаевнюк О. В. Начинается с человека: человеческий фактор в социалистическом строительстве. М., 1988.
Однако только ли историографическая ситуация и борьба идей виноваты в том, что мы по существу до сих пор не знаем тех вопросов, которые в последнее время относят к области исторической антропологии: как реально жил простой советский человек в сталинскую эпоху, чем он питался и как одевался, много ли болел и как лечился, с кем дружил, кого любил и как отдыхал, о чем он думал и мечтал, как относился к власти и государству, к общественной и частной жизни, семье и работе, каковы были его каждодневные нужды, заботы и развлечения? Многие историки и публицисты в конце 1980;х — 1990;е гг. пробивавшиеся с боем, всеми правдами и неправдами, в секретные советские архивы, испытывали разочарование. Вместо ожидаемых скандальных суперсекретов государственной важности их взору чаще всего представали обширные массивы документов по социальной истории советского общества, которые и прятать за семью замками вроде было незачем, разве что для перестраховки. Для охотников за «сливками советского прошлого» эти комплексы источников не представляли интереса: они были слишком обширны и требовали многолетней кропотливой обработки. Не вполне ясно было и то, какие методики следует использовать для анализа этих специфических видов источников и извлечения из них необходимой информации. При пристальном рассмотрении содержания спецфондов оказывалось, что в конечном итоге самым главным государственным секретом являлась именно советская социальная история. За семью печатями хранились документы о разных аспектах жизни и судьбах обыкновенного, рядового человека, о попытках его самоидентификации и о положении в обществео мнениях, настроениях, а также о поведении простых людей, о реальном жизненном уровне населения и миграционных процессах, межнациональных и религиозных конфликтах, о распространенности и причинах «социальных болезней», преступности, антисемитизма и проч. В связи с этим становится все более очевидным, что существование монолитности помыслов и побуждений единого советского народа во многих аспектах было мифом31. Судя по всему, введение в оборот новых комплексов документов, рассматривающих эти и другие проблемы социальной истории, способно придать советской истории новый ракурс, оплодотворить процесс ее изучения не только новыми источниками, но и свежими перспективными идеями.
В принципе подход к рассмотрению прошлого с точки зрения социальной истории — это своеобразный, новый, более острый и обогащенный самыми современными методиками взгляд на то, что раньше казалось неважным, несущественным, а потому либо вовсе не изучалось историками, либо рассматривалось ими под другим углом зрения. Видя свою особую нишу в изучении прошлого, социальная история не отрицает правомерность разработки любых подходов и научных построений, включая тоталитарные или модернизационные, выступая, однако, против абсолютизации одного определенного при недооценке или дискриминации иных направлений. Тем более, что сама социальная история является результатом междисциплинарного синтеза, открыта для совершенствования и постоянно вбирает в себя достижения как разных направлений истории, так и смежных наук.
31 Из работ по социальной истории последних лет, специально посвященных проблеме изучения общественного мнения сталинского времени на основе рассекреченных документов, выделяется исследование: Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934;1941 (Cambridge Univ. Press, 1997). С точки зрения инструментария, обращает на себя внимание умелое использование автором дискурсивного подхода.
Перспективные направления социальной истории и источниковедение: проблемы взаимодействия.
В последние десятилетия особенностью мировой историографии стало то, что в орбиту социальной истории втягивается все большее количество течений, значительное количество которых, в свою очередь, находится на стыке дисциплин и в силу своей междисциплинарности отличается неординарными исследовательскими подходами. Все это имеет исключительно важное значение для грядущего переосмысления советской истории. Наряду с такими традиционными областями социальной истории, как рабочая история, этно-национальная история, история миграции населения и эмиграции, все большее признание приобретают тендерные исследования32, историческая антропология33, биографическая история, история семьи34, история детства, история частной жизни35, история эмоций, ситуационная история и case studies, а также вопросы социальной стратифика.
32 См. одну из лучших обобщающих работ о значении тендерного подхода: Пушкарева H.JI. Зачем он нужен, этот «тендер»? Новые концепции и новые подходы к анализу прошлого // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. С. 155 174.
33 См., например: Куприянов А. И. Историческая антропология. Проблемы становления // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. С.366−385. Показателен вывод автора, что «к началу 1990;х тг. изучение отечественной истории оказалось чуждым и культурно-антропологическому, и историко-антропологическому подходам» (С.370).
34 Социальная история семьи — все более активно развивающееся направление исследования, концентрирующееся на истории семейной жизни и родственно-семейных отношениях людей. Предпринимаются попытки изучать через историю семьи как важнейшей ячейки общества особенности социального поведения людей. Зародившись в 1960;е гг. в рамках генеалогических подходов, изучавших в основном богатые и родовитые семьи, социальная семейная история изменила предмет исследования и превратилась в комплексное направление, которым занимаются историки, социологи, демографы. См. библиографию работ по семейной истории: Milden, James W. The Family in the Past Time. A Guide to the Literature (New York-London, 1977).
35 См., например, многотомное издание: A History of Private Life (Cambridge, Mass., 1987;1990) — Schutz A., Luckmann T. The Structures of the Life-World (Evaston, 1989). ции, самоидентификации личности и менталитета36. Каждое из этих направлений, входящих в сферу социальной истории, имеет особенности формирования источниковой базы и стремится к разработке собственного методического инструментария. Вместе с тем, для специалистов в указанных областях характерны общие социально-исторические приоритеты, что даже позволило известному историографу Георгу Иггерсу объединить их под термином «историки, ориентированные на исследование социальной истории» («social history-oriented historians»)37.
В последнее двадцатилетие активно разрабатывается такое близкое к социальной истории многообещающее направление, как история повседневности (alltagsgeschichte)38, одними из родоначальников которой являются германские историки Альф Людтке и Ханс Медик. На наш взгляд, главное значение истории повседневности, выступившей против историографической традиции, которая исключала повседневность из своего видения, состоит в значительном расширении горизонтов познания истории. Утверждая, что многие вопросы социальной истории не поддаются измерению с помощью традиционных методов, по-разному понимаются современниками либо доступны смысловой дешифровке только на уровне микроанализа, история повседневности не предлагает, тем не менее, уходить от «больших» исторических тем. Она считает полезным сменить ракурс их рассмотрения, перенести их в сферу повседневной жизни, где они, неизбежно сталкиваясь с реалиями действительности, проходят проверку на истинность. В настоящее время программа и инструментарий данного на.
36 О развитии данных направлений подробнее см.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентации и метаморфозы социальной истории // Социальная история. Ежегодник, 1997. С.11−52- Ежегодник, 1998/99. С.7−38.
37 Iggers, Georg G. Historiography in the 20th Century. From Scientific Objectivity to th Postmodern Challenge (Hannover and London, Wesleyan Univ. Press, 1997).
38 См.: de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life (Berkeley, 1984) — The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life / Ed. by A. Luedtke (Princeton, 1995) — Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/1999. С.77−100. правления все более засширяются, переплетаясь с другими течениями, особенно — с микроисторией и биографической историей, с историей эмоций, а также с исторической антропологией, социологией, этнологией, демографией и др. В силу этого история повседневности становится все более комплексной и многоплановой. Определяя сферу интересов истории повседневности, А. Людтке отмечает, что она делает упор на изучении поступков тех, кого называют «маленькими, простыми, рядовыми людьми». «Что важнее всего — это изучение человека в труде и вне его. Это — детальное историческое описание устроенных и обездоленных, одетых и нагих, сытых и голодных, раздора и сотрудничества между людьми, а также их душевных переживаний, воспоминаний, любви и ненависти, тревог и надежд на будущее. Центральными в анализе повседневности являются жизненные проблемы тех, кто в основном остались безымянными в истории. Индивиды в таких исследованиях предстают и действующими лицами, и творцами истории, активно производящими, воспроизводящими и изменяющими социально-исторические реалии прошлого (и настоящего). Такая перспектива обостряет наше видение тех контуров жизни, которые приносят страдания людям, иными словами, позволяют видеть, как творцы истории становятся ее жертвами"^. Характерно, что история повседневности не стремится к глобальным историческим обобщениям, выдвигая на передний план исследование социальной практики людей и восприятия ими окружающей действительности. Стало распространенным и разделение повседневности на бытовую (сфера личной жизни, семья, дом, дети, досуг, дружба) и производственную. Историки повседневности совершили по сути дела переворот, введя в историческое исследование не абстрактные «народные массы», а конкретных простых людей, активно участвующих в историческом процессе. Среди наиболее перспективных направлений и современных задач изучения истории повседневности выделяется история эмоций, а также необходимость.
39 Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспектинайти методики для воспроизведения всего многообразия личного опыта и форм поведения, связав воедино, по выражению А. Людтке, «пестроту» исторического действа40. Существенное принципиальное отличие истории повседневности, которое многие историки относят к ее методологическим посылам, заключается в том, что она (как, впрочем, социальная история в целом и также источниковедение) понимает изучение истории прежде всего как процесс реконструкции прошлого41. Это обстоятельство выдвигает на первый план проблему разработки адекватной источниковой базы для такого рода реконструкции и выяснение источниковедческой специфики исследований по истории повседневности.
К сожалению, специальных работ об источниках по истории повседневности новейшего времени ни в зарубежной, ни в отечественной историографии не существует. Однако применительно к анализу советской повседневности 1920;1930;х гг. может оказаться полезным наиболее богатый практический опыт германской историографии, кстати, также традиционно ориентированной на «государственнический» подход к комплектованию архивных коллекций. Показательно, в частности, что при изучении повседневности германского общества межвоенного времени оказались востребованными в первую очередь считавшиеся «малоценными», «случайными» и редко использовавшиеся материалы «низового уровня» — региональных, заводских, семейных, частных архивов, разного рода обществ и организаций, документы «устной истории» и интервью. Это свидетельствует, в частности, о том, что наиболее продуктивными методами исследования истории повседневности оказались микроисторические подходы, устная история, краеведение и региональная история, биографическая и семейная вы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. С. 77.
40 Людтке А. Указ. соч. С. 100.
41 См., например, рецензию Белинды Дэвис на указанную книгу под ред. АЛюдтке: ILWCH. № 51. 1997. Spring. история. Подтвердилась и зависимость применения того или иного метода от характера и состояния источниковой базы42.
В последние несколько лет тематика истории повседневности, имевшая в недавней отечественной историографии XX в. третьестепенный характер, становится все более популярной и в России. С призывом повернуться, наконец, лицом к изучению советской повседневной жизни выступил академик Ю. А. Поляков, пришедший к выводу, что «история по существу — это повседневная жизнь человека в ее историческом развитии.» «Нельзя сказать, что эта проблематика совсем беспризорная, бесхозная, позабытая. Но развитие мировой науки и внутренняя логика поступательного движения российской науки требуют, чтобы она разрабатывалась не от случая к случаю, не фрагментарно, а систематически, фронтально"43, — отметил он. Обозначив программу изучения истории повседневности, ученый совершенно справедливо обратил внимание на необходимость создания адекватной источниковой базы, в частности, за счет использования статистики, данных социологических обследований, мемуаров и переписки, периодической печати, художественной литературы (заметим, что этот список далеко не счерпывающий). По мнению Ю. А. Полякова, проблематика истории повседневности носит комплексный междисциплинарный характер. Она ближе всего к историографическому направлению, именуемому социальной историей, однако тесно связана также с микроисторией, с исторической антропологией, с этнологией и др. Характерно, что логика обращения к тематике повседневной жизни привела маститого ученого к призыву.
42 См., например: Ash, Timothy G. The File. A Personal History (Flamingo, 1997) — Confronting the Nazi past. New Debates on Modern German History / Ed. by Micheal Burleigh (London, 1996) — Goldhagen Daniel J. Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust (London, 1999) — The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation / Ed. by Y. Kershaw (London-New York, 1993) — Verhey, Jeffrey. The Spirit of 1914. Militarism, Myth and Mobilization in Germany (Cambridge Univ. Press, 2000).
43 Поляков iO-АЧеловек в повседневности (исторические аспекты) // Отечественная история. 2000. № 3. С. 127. отказаться от традиционной приоритетности исследования макропроблем, перенести центр тяжести на умение «увидеть большое в малом», на нахождение взаимосвязей микрои макроявлений: «Кто-то называет историю повседневности миниисторией. Нет, это одно из русел, которые, сливаясь, образуют мощный поток исторического процесса. Это и есть настоящая история"44. Тем самым Ю. А. Поляков, кроме всего прочего, пришел к важному для данного исследования выводу о неразрывной связи истории повседневности с микроисторией.
Особенностью современного этапа изучения истории советской повседневности является разброс в самой трактовке понятия повседневности и особенно — в выделении наиболее важных ее тем и сюжетов45. Так, Ю. А. Поляков призывает делать акцент на исследовании «человека в повседневности». Петербургский историк Н. Б. Лебина свое оригинальное исследование девиантного поведения озаглавила «Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920 — 1930 годы» (СПб., 1999). Автор показала, как в повседневной жизни советских людей происходило замещение поведенческих норм аномалиями (пьянство, преступность, проституция), патологиями, а также осуществлялось прямое и косвенное вмешательство государства в их повседневную бытовую жизнь. Е. Ю. Зубкова вторгается в советскую повседневность послевоенных лет через углубленное изучение общественного мнения. Считая, что история повседневности несет на себе в основном традиции «устной истории», она разделяет историю на два уровня — «большую», профессиональную, и «малую», обыденную, определяя историю повседневности как важный способ изучения ме.
44 Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 127−132.
45 Эту тенденцию отразила первая и пока единственная международная конференция по истории советской повседневности, прошедшая в Петербурге в 1994 г. Опубликованный на ее основе сборник был справедливо оценен как новаторский. См.: Российская повседневность 1921;1941 гг.: Новые подходы. СПб., 1995. О сборнике: Горинов М. М. Советская история 1920;30-х годов: от мифов к реальности // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. С. 270. ханизма взаимодействия «большой» и «малой» истории46. В статье С. В. Журавлева и А. К. Соколова на основе привлечения архивных документов особое внимание уделено новым «советским» сторонам и формам повседневности, характерным для деревни и города в 1920;е гг.47 Заметным явлением в области изучения повседневной жизни сталинского времени стала книга Ш. Фитцпатрик «Повседневный сталинизм», в которой на основе широкого круга источников исследуется жизнь горожан в 1930;е гг.48 Очевидно, что сама сфера повседневности настолько широка и многоаспектна, что в конкретной исследовательской практике выбор темы зависит от научных интересов автора, от степени обеспеченности источниками или от той проблематики, которая с историографической точки зрения представляет первостепенную важность. Что касается советской истории 1920 -1930;х гг., то в центре внимания западных исследователей и большинства их российских коллег, по справедливому замечанию М. М. Горинова, оказалось изучение положения дискриминируемых социальных групп (спецпереселенцев, лишенцев, жертв ГУЛАГа) и проявлений девиантного поведения49, а также проблема повседневного сопротивления сталинскому режиму, успешное изучение которой в последние годы во многом тоже связано с введением в научный оборот новых комплексов архивных документов50. Такая важная часть советской истории, как производственная.
46 Зубкова Е. Ю. О «детской» литературе и других проблемах нашей исторической памяти // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. С.155−157.
47 Журавлев C.B., Соколов А. К. Повседневная жизнь советских людей в 1920;е годы // Социальная история. Ежегодник, 1997. С.287−332.
48 Fitzpartick, Sheila. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930;s (New York-Oxford, 1999).
49 Горинов M.M. Советская история 1920;30-х годов: от мифов к реальности // Исторические исследования в России. С. 271.
50 Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934;1941 (Cambridge Univ. Press, 1997). Особенно много работ последних лет посвящено повседневному сопротивлению советского крестьянства в годы коллективизации. В их числу относится серия международных проектов под руководством В. П. Данилова, а также новаторский в своем роде сборник докуповседневность, а также связь производственной и бытовой повседневности, неотделимых в реальной жизни, остаются практически не изученными.
Наряду с историей повседневности, 1970 — 1980;е гг. охарактеризовались всплеском интереса к локальной (краеведение) и региональной истории, и особенно — к микроистории, что явилось объективным показателем кризиса и истощения потенциала традиционных макроисторических подходов к изучению прошлого51. По мнению Л. П. Репиной, «микроподходы получили широкое распространение и становились все более привлекательными по мере того, как обнаруживалась неполнота и неадекватность макроисторических выводов, ненадежность среднестатистических показателей, направленность доминирующей парадигмы на свертывание широкой панорамы исторического прошлого в узкий диапазон «ведущих тенденцийна сведение множества вариантов исторической динамики к псевдонормативным образцам и типам"52. К аналогичному выводу пришел и Георг Иггерс, увидевший в разнообразии современных исторических подходов и направлений протест против старых, в том числе марксистских макроконцепций, ведших к унификации истории. Отсюда и логичная тяга к микроанализу, в соответствии ментов «низового уровня»: Рязанская деревня в 1929;1930 гг: Хроника головокружения / Отв. ред.-сост. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М., 1998.
51 Одними из наиболее ярких работ последних лет, написанными в рамках ла-кальной истории с использованием микроподходов и новым прочтением источников под ракурсом социальной истории, являются: Sabean, Gavid W. Pover in the Blood. Popular Culture and Village Discourse in Early Modern Germany (Cambridge Univ. Press, 1984) — Kalb, Don. Expanding Class. Power and Everyday Politics in Industrial Communities, The Netherlands, 1850−1950 (Durham and London, Duke University Press, 1997). Обе работы представляют собой серию case studies, .анализирующих представления людей разных эпох через конкретные ситуации. Из серии таких миниатюр, в основе которых, как правило, лежит отдельный источник, складывается общая картина.
52 Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. С. 20. с которой появилась даже своеобразная новая программа: «Не история, а истории, или, лучше, рассказы — вот что имеет значение» 53.
Тем не менее, микроистория видится большинству специалистов, включая и автора настоящего диссертационного исследования, не как альтернатива макроанализу, а как его крайне необходимое дополнение. Более того, интеграция микрои макроподходов рассматривается в последнее время как одна из наиболее сложных и важных научных проблем.
Нетрудно заметить, что микроистория берет свое начало во многом в истории повседневности. Сходны и сферы их интересов: в самом общем виде это «микромир», в центре которого стоит человек или коллектив, социальная группа, существующая в конкретно-исторических обстоятельствах, как органическая часть более общего социального организма. Наиболее авторитетные микроисторики Карло Гинцбург, Карло Пони, Джованни Леви, Ханс Медик и др. полагают, что она способна дать плодотворный импульс как для развития социальной истории и истории повседневности, так и для лучшего понимания макропроцессов. Благодаря сужению и концентрации поля наблюдения на уровне деревни, предприятия, коллектива, семьи или даже конкретного индивида, микроисследования позволяют увидеть общество под «микроскопом», придя через малое и частное к лучшему пониманию общих социальных связей, отношений и процессов. При этом ракурсное различие по сравнению с традиционными монографическими подходами заключается в том, что микроисторики не проводят исследования деревень или заводов, а исследуют то, что происходит в деревнях и на заводах54. Важной сферой микроистории является изучение инди.
53 Iggers, Georg G. Historiography in the 20th Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge (Hannover and London, Wesleyan Univ. Press, 1997). P.103.
54 О разных подходах к микроистории, а также о ее достижениях и перспективах в России и за рубежом см.: Историк в поиске. Микрои макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5−6 октября 1998 г. (М., 1999). Характерно, что историки повседневности и социальные историки считают микроисторию, стремящуюся к выделению в самотоятельное направлевидуального опыта конкретных участников исторических процессов, что сближает ее с биографической или персональной историей. Одним из ключевых в многочисленных дискуссиях последних лет о значении микроистории, как и других примыкающих к социальной истории направлений, является вопрос, открывает ли микроистория какие-либо новые возможности познания прошлого? В какой степени взгляд микроисторика объективно ограничен (микро)объекгом исследования? Характерно при этом, что подавляющее большинство дебатов в данной области ведется на абстрактно-теоретическом уровне, тогда как, по нашему убеждению, критерием обоснованности тех или иных взглядов и положений должна быть прежде всего исследовательская практика55. Кроме того, как и история повседневности, микроистория бросает вызов источниковедению, настоятельно требуя от него введения в оборот новых документов, создания адекватной задачам микроанализа источниковой базы и разработки специфических методик. Применительно к советской истории заметно, что источниковедение отстает от вызова времени.
Абсолютное большинство конкретно-исторических работ по микроистории в России и за рубежом посвящено ХУ-ХУШ вв. По более раннему периоду их мало из-за чрезмерной фрагментации источников, но единичны они и по более позднему периоду, в частности, по советской истории, ние, неотъемлемой частью и важным инструментом для реализации собственных программ. Много споров вызвало замечание Д. Леви о том, что микроистория означает «не разглядывание мелочей, а рассмотрение в подробностях» (Медик Ханс. Микроистория // Thesis: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Альманах. М., 1994. Т.П. № 4. С. 193−202).
55 Ярким подтверждением этому можно считать, например, ставшую заметным событием книгу Кристофера Браунинга. На основании материалов устной истории — составленных в 1960;е гг. протоколов допросов 210 бывших военнослужа- 4 щих одного из гитлеровских полицейских батальонов (в большинстве своемобычные люди, многие из рабочей среды) автор не только реконструировал детальную картину операции по массовому уничтожению евреев в Польше, но и вновь поставил вопрос об ответственности «рядового человека» в истории {Browning, Christopher. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final" Solution in Poland (New York, 1992)). казалось бы, объективно намного лучше обеспеченной источниковой базой56. Остается сожалеть, что сюжеты, входящие в круг проблематики микроистории, долгое время скептически именовались в отечественной историографии «мелкотемьем» и исключались из научных планов. Показательно и то, что из российских ученых наиболее активно занимаются микропроблемами специалисты по всеобщей истории57. Между тем пример изучения истории фашизма в Германии на уровне микроистории и региональной истории демонстрирует крайнюю актуальность такого рода подходов для выявления скрытых от макропроцессов тенденций советской истории 1920 — 1930;х гг. Так, именно через микроисторию и историю повседневности германские ученые пришли к разработке одной из ключевых для национал-социализма, как и для сталинского периода, проблем — социальной поддержки режима. Выяснилось, что будучи притесняемыми, многие рядовые немцы, как и советские граждане в 1920 — 1930;е гг., сами участвовали в доносительстве, разжигании классовой и национальной ненависти, в поддержке и одобрении, если не непосредственно в репрессиях, военных, карательных и других дискриминационных акциях. Вокруг данного парадокса насилия, прослеживаемого в основном на микроуровне и демонстрирующего сложность и многослойность общественных отношений, будут, судя по всему, строиться дальнейшие научные дискуссии о характерных чертах истории уходящего XX века58.
56 См., например: Журавлев C.B. Иностранная колония московского Электрозавода в начале 1930;х гг.: опыт микроисследования // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. С.366−410.
57 Наиболее известны научные школы А. Я. Гуревича, Ю. Л. Бессмертного и др.
58 Подробнее о проблеме «жертвы» или «соучастники» см. в труде: Nazism and German Society. 1933;45 / Ed. by David F. Crew (London and New York, Routledge, 1994). На важность использования наработок германских историков в плане сравнительных исследований советского и немецкого общества 1920;х- 1930;х гг. совершенно справедливо обращает внимание А. К. Соколов (Соколов А. К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. С.39−76).
По нашему мнению, микроисторические подходы, ориентирующиеся на изучение реальной социальной практики прошлого, раскрывающейся, в частности, через индивидуальное и уникальное, через жизнь и поступки конкретного человека и функционирование малых социумов, имеют первостепенную важность для исследования советского общества. Дело в том, что в условиях ключевой, как было показано выше, дискуссии о тоталитаризме, только через микроисторию, через детальное изучение биографий конкретных людей можно прийти к выводу о «зазоре свободы» действий рядового гражданина, то есть о том, в какой степени поведение человека сталинского времени зависело от него самого или от государственной машины, и в какой мере оно подчинялось единообразной утилитарной схеме «винтика истории» — «стимул-реакция», или же все было значительно сложнее. Естественно, решение указанных научных проблем нуждается в серьезной предварительной источниковедческой проработке.
Не меньшую актуальность для исследования советской специфики 1920 — 1930;х гг., особенно учитывая известные традиции отечественной историографии, имеет и такая серьезная проблема, оказавшаяся в центре внимания сторонников микроанализа, как изучение отдельных событий, казусов, а также «нормальных исключений». Речь идет о весьма распространенной, как видно из недавно рассекреченных источников, ситуации, когда в условиях чрезвычайщины социальные нормы и аномалии менялись местами, и то, что было принято относить к «исключениям», в реальной обстановке хаоса массовой коллективизации, индустриального рывка или репрессий, особенно на местах, в российской глубинке, сплошь и рядом приобретало перманентное состояние и превращалось в правило59. И если сравнительное исследование регионов Франции нового времени привело.
59 См.: Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918;1932 гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. Авторы текста и комментариев А. К. Соколов, С. В. Журавлев, В. В. Кабанов. М., 1997; Общество и власть. 1930;е гг. / Отв. ред. АК.Соколов. Авторы текста и комментариев С. В. Журавлев, А. К. Соколов. М., 1998. историков к выводу о «заговоре исключений, стремящихся опровергнуть правила"60, то вполне вероятно, что изучение регионального среза советской истории периода «великого перелома» и сталинизма вообще — может дать не менее поразительные результаты61.
В последнее время в США вышло несколько серьезных исследований по советской истории 1920 — 1930;х гг., написанных с позиций микроистории, региональной истории и вызвавших заметный резонанс среди специалистов. К их числу можно отнести работы Анне Рассвейлер о Днепрострое, Дэвида Хоффманна о крестьянской миграции в Москву, Стивена Коткина о Магнитогорске и Кеннета Страуса о Пролетарском районе столицы62. Показательно, что все четыре исследования отразили стремление к синтезу и интеграции знаний: несмотря на существенные различия в источниковой базе, они опирались на наработки не только социальной истории, но и немецкой школы alltagsgeschichte (истории повседневности), на инструментарий микроисториков. При этом все авторы сделали акцент на введение в научный оборот новых документов, а К. Страус прямо отметил, что такого рода исследования стали возможны только благодаря значительному расширению круга доступных источников по советской истории63. Бесспор;
60 Медик Ханс. Указ. соч. С. 199. Показателен и особо важный для советской истории 1930;х гг. вывод микроисториков, что «нормальные исключения» особенно часто проявлялись в периоды ускоренной модернизации общества.
61 По всей видимости, именно так можно оценить ситуацию в Рязани в период массовой коллективизации, изученную нами на основе региональных документов «низового уровня». См.: Рязанская деревня в 1929;1930 гг.: Хроника головокружения. Документы и материалы / Отв. ред. и сост. JI. Виола, С. Журавлев и др. М., 1998.
62 Rassweiler, Anne. The Generation of Power: The History of Dneprostroi (New York, 1988) — Hoffmann, David. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 19 291 941 (Ithaca, 1994) — Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain: Socialism as a Civilization (Berkeley and Los Angeles, 1995) — Straus, Kenneth M. Factory and Community in Stalin’s Russia: The Making of an Industrial Working Class (Pittsburgh, 1997).
63 Straus, Kenneth M. Factory and Community in Stalin’s Russia. P.24. С. Коткин особенно широко использовал богатые материалы Магнитогорской региональной прессы, документы заводского и госархивов. Вместе с тем, в 1991 г. ему оказались не доступными коллекции местного партархива, архива бывшего КГБ и секретная опись материалов Магнитогорского комбината (документы 1-го отденый успех этих работ, в особенности книги С. Коткина, лишний раз подтверждает плодотворность региональных исследований и микроподходов для изучения истории советского общества. Что касается последней работы, то она знаменательна еще по одной причине. Изучая магнитогорский социум, американский исследователь обратил внимание на бросающуюся в глаза дихотомию между словами и делами людей, что стало поводом для дискурсивного анализа категории «говорящих большевиков» (speaking bolsheviks).
По нашему мнению, «ахиллесовой пятой» историографии изучения советского общества, учитывая его идеологизированную специфику, является слабое отражение поведенческой истории, за которой легко прогнозируется большое будущее. Это тем более актуально, что даже после открытия архивных коллекций историки продолжают спорить: как приблизиться к пониманию существа социальных процессов, как воспроизвести истинные мысли, ценности, чаяния рядовых людей в условиях распространения двоемыслия и самоцензуры в обществе, считавшемся «хранящим молчание или говорящим лишь языком Сталина и официальной прессы"64. Результа том стала серия исследований, и особенно — публикаций новых источников, направленных на изучение «голоса народа» и общественного мнения в 1920 — 1930;е гг.65 Издания продемонстрировали, во-первых, что народ вовсе не молчал, во-вторых, что историки имеют реальную возможность изучать советское общество под перекрестьем, с одной стороны, потока писем, жалоб, заявлений, предложений «снизу», а, с другой, информационных сводок ОГПУ-НКВД о настроениях людей. Тем не менее, по мере введения в научный оборот указанных комплексов нарастает известная нела, включая данные об иноработниках). См.: Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain. P.595.
64 Davis, Sarah. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda, and Dissent, 1934;1941 (Cambridge, Mass., 1997). P.l. удовлетворенность тем, что «голоса», слова рядовых граждан теперь слышатся много лучше, чем изучаются их реальные поступки, дела, поведение. Сравнение слов и дел рядовых людей кажется особенно заманчивым. Проблема здесь видится прежде всего в неразработанности методической и особенно — источниковедческой составляющей поведенческой истории, которая оказывается тесно увязанной с состоянием архивной источниковой базы и возможностями микроисторического, биографического анализа.
Если суммировать то, что говорилось выше об инструментарии и методах социальной истории, то они отличаются разнообразием, гибкостью и зависят напрямую от поставленных конкретных исследовательских задач. Однако в целом можно выделить как нечто общее стремление осуществлять своеобразный исторический синтез на микроуровне обществавозвратить историю к человеку и повествованию, к рассказам о прошлом, но уже как бы на другом качественном витке, опираясь, во-первых, на иной ракурс, новый взгляд на события прошлого — «снизу», глазами и словами простого, рядового человека, во-вторых, на основе существенного расширения информационной базы: новых источников (что особенно актуально в отношении советской истории) или новое прочтение известных источников, а, в-третьих, — на основе достижений смежных наук о человеке и обществе (историческая антропология, лингвистика, психология, этнология, демография и др.).
В последние годы, особенно в связи с рассекречиванием и введением в научный оборот новых комплексов советских архивных источников, все отчетливее выявляется «концептуальное» значение источниковедения. Из самых ярких примеров можно привести эффект, который вызвало введение в научный оборот сводок ОГПУ-НКВД 1920 — 1930;х гг. о настроениях в обществе, безусловно обогативших наши представления о том сложном.
65 В качестве примеров можно привести указанные выше сборники «Голос народа» и «Общество и власть» под ред. А. К. Соколова, а также уже отмеченную работу Сары Дэвис об общественном мнении 1930;х гг. и др. времени66. Так, в предисловии к своей книге об общественном мнении в сталинской России американская исследовательница Сара Дэвис отмечала, что если бы эти секретные сводки были в свое время доступны «тоталитаристам» и «ревизионистам», то их концептуальные установки под влиянием этих источников претерпели бы существенные изменения67. Следует добавить, что некоторые принципиально новые методологические установки сформировались и под влиянием развития социальной истории. Это в первую очередь относится к поставленной во главу угла проблеме соотношения макрои микроистории, к тендерной истории, к истории эмоций, к вопросам исследования поведенческой истории и т. д.
В последние годы в историографии изучения социальной истории и родственных с нею направлений наметились весьма противоречивые процессы. С одной стороны, все более заметны тенденции интернационализации и интеграции социально-исторического знания. Активнее используются компаративные методы исследования. Наработки германской истории повседневности (aПtagsgesch/с/г?е), итальянской микроистории, тендерный подход, еще недавно с большим трудом пробивавшие себе дорогу, стали.
66 Признавая огромную важность нового знания о советском прошлом, которое дают вводимые в оборот материалы спецслужб разного уровня, мы далеки от мысли абсолютизировать эти специфические источники, нуждающиеся в тщательной источниковедческой критике, и рассматриваем их в общем контексте ис-точниковой базы по советской истории. См. об этом: Журавлев C.B. Документальная история «четвертой российской революции» // Рязанская деревня в 19 291 930 гг.: Хроника головокружения. Документы и материалы / Отв. ред. Л. Виола, С. В. Журавлев и др. М., 1998. C. VI-XVIII.
67 Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934;1941 (Cambridge Univ. Press, 1997). Introduction. По ее мнению, в частности, если бы автору одной из лучших работ о сталинизме последних лет Стивену Коткину были доступны не только открытые архивные документы и газета «Магнитогорский рабочий», но и спецсводки НКВД, то его выводы о социальной поддержке сталинизма могли быть иными (Kotkin, Stephen. Ibid). По мнению С. Дэвис, сводки опровергают и выводы единственной значительной работы о советской пропаганде Петера Кенеца, который утверждал, что советскому режиму успешно удавалось предотвращать образование и распространение альтернативных официальному мнений рядовых людей {Kenez, Peter. The Birth of the общим достоянием мировой историографии и воспринимаются в числе наиболее перспективных. Они выделились из социальной истории в самостоятельные научные направления, что на определенном этапе придало их развитию заметный дополнительный импульс. Однако в последние годы становится все более заметным существование по меньшей мере 2-х ключевых проблем:
1) Обращает на себя внимание увеличивающийся разрыв между теоретико-методическим бумом68 и более чем скромным количеством работ, реализующих новейшие социально-исторические наработки в конкретной исследовательской практике. В особенности это относится к истории новейшего времени, включая советский период. В связи с этим вновь становится актуальной двуединая проблема а) синтеза и б) реализации и апробации, во-первых, уже на принципиально ином уровне, во-вторых, в конкретной исследовательской практике многочисленных и действительно неординарных теоретико-методических разработок социальной истории, тесно связанных с нею биографической истории, истории повседневности, микроистории, развивающихся в последние годы в «автономном плавании». Как никогда назрела необходимость экспериментальных комплексных исследований синтетического плана, использующих на историческом материале передовые методические наработки социальной истории, микроистории, истории повседневности, биографической истории. Тем более, что многие из них явно перекликаются между собой.
Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilisation. 1917;1929 (Cambridge, 1985)).
68 Представление о том, насколько все более сложной и разветвленной становится теоретико-методическая база, инструментарий и терминология социальной истории и родственных с нею направлений, можно составить из работ Л. П. Репиной. См., например: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории // Социальная история. Ежегодник, 1997. С. 11−52- 1998/99. С.7−38. Порою даже кажется, что теоретико-методическая составляющая в последние годы приобретает в определенной степени самодостаточный характер.
2) Одной из самых «болевых точек» указанных направлений остается их слабая сопряженность с источниковедческой (о чем речь подробнее пойдет ниже) проблематикой и источниковедческой спецификой изучения советского периода. Так, неясно, в какой степени те или иные методики, апробированные на источниковой базе средневековой Европы и феодальной России (данный период наиболее хорошо изучен) применимы для изучения новейшего времени, а в его рамках — могут ли они быть использованы для исследования советской истории с ее весьма специфическим кругом и характером источников, многие из которых до сих пор не стали предметом специального источниковедческого анализа. В частности, для исследования феодального общества успешно применяются методы намеренной фрагментации объекта исследования с последующим его детальным изучением, приемы реструктурирования исторических знаний, в том числе — с помощью дискурсивного подхода. Также как в условиях объективной ограниченности источниковой базы широко используются методики реконструкции прошлого по историческим фрагментам и миниатюрам. В обеих указанных случаях микроанализ становится необходимой базой для последующего наведения мостов с макроуровневой проблематикой.
Вопрос о применимости и о выяснении полезности аналогичных методик для исследования советского периода кажется особенно актуальным в связи с крайне неравномерным отражением вопросов советской истории в сохранившейся и изученной источниковой базе. Так, несмотря на громадное количество дошедших до нас документов по истории России XX в., значительная часть важных событий, особенно — социально-исторического и психологического плана, не оставила после себя очевидных документальных следов. Это обстоятельство выдвигает в качестве приоритетных задач необходимость разработки методик «устной» истории и извлечения из источников косвенной информации. Кроме того, в условиях все большего распространения сравнительно-сопоставительных методов возрастает значение изучения сопрягаемости информации, а также — реализации в ис.
41 1 * 1 и4 1 Ь ! ?4 следовательской практике принципа комплексного использования источников разного вида в конкретно-исторических исследованиях, в том числе для решения вопросов исторической реконструкции.
Социальная история, стремящаяся к изучению прошлого не «сверху», через госструктуры, а «снизу», через общество и человека, со всей очевидностью бросает вызов традиционному источниковедению и архивоведению, развивавшимся в нашей стране, как уже отмечалось, в русле государственно-институциональных подходов. Проблематика и задачи социальной истории заставляют обращаться к новым методам анализа, к иному прочтению известных и особенно — к неизученным пластам источников, отличных от тех, которые долгие годы служили основой традиционной советской исторической науки. Приходится признать правоту А. К. Соколова, полагающего, что отечественное источниковедение оказалось в целом не готовым к вызову социальной истории69. Правда, на словах в постсоветский период произошла смена акцентов в формулировке задач источниковедения, причем именно в сторону социально-исторической проблематики. Источниковедение в учебной литературе стало именоваться «антропологически ориентированной парадигмой новой исторической науки», а исторический источник теперь рассматривается как «произведение, созданное человеком», как «объективизированный результат человеческой деятельности» с особым вниманием на «понимание психологической и социальной природы исторического источника». Констатируется и необходимость повышенного внимания к источникам личного происхождения70. На деле же, как видно из учебной и специальной литературы, пока что не произошло решительных изменений ни в области классификации, ни в.
69 Соколов А. К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник, 1998/1999. С. 73.
70 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. М., 1998. С. 9, 12, 505. представлениях об исторической значимости категорий советских источников. В соответствующих учебниках последних лет в принципе сохранилась знаковая модель приоритетов: вначале предлагается изучать законодательные источники, партийные документы, делопроизводственные материалы госучреждений и общественных организаций, статистические источники и материалы планирования, затем уже более «второстепенные» — периодику и источники личного происхождения.
Другой существенный изъян источниковедения — оторванность анализируемых источников от изучения социальной среды их бытования, без чего, в частности, невозможно определить степень репрезентативности и информационной ценности. Наиболее рельефно это прослеживается на примере методики источниковедческого анализа «источника № 1» — советского законодательства. Она по-прежнему ограничивается обнародованием закона и не включает изучение процесса его реализации: «Итак, закон принят. Дальнейшая его судьба, его действие, его влияние на общество уже выходят за рамки задач источниковедения». Так ли? Почему же тогда в отношении актов (например, договоров о соцсоревновании или приговоров сельских общин) тем же автором предлагается прямо противоположный подход: «Актовая документация. сама по себе не раскрывает сути того или иного дела. Главное — в других документах, показывающих, как данный акт реализовывался»?71 Но это уже, как выясняется, область сугубо совместной.
71 Там же. С. 540, 568. Нам уже приходилось обращать внимание на то, что ущербность сохраняющегося традиционного источниковедческого подхода к законодательным источникам советского периода, отразившим, безусловно, заметную тенденцию. Основной упор делается на изучении обстоятельств подготовки, внешней критике и на текстологическом анализе (абстрактной потенции) юридических норм, вне рассмотрения особенностей их реального применения и действия в конкретно-исторических условиях «наложения» сложного правового и неправового (телефонное право, блат, национальные и религиозные традиции и проч.) поля, в котором данный правовой акт был только малым звеном в цепочке других писаных и неписаных норм, традиций, корректировавших, искажавших и даже фактически отменявших друг друга, на комплекс факторов, объединяемых понятием «социальная среда». Аналогичные тенденции, связанные с игнорированием или недоучетом социальных факторов и социальной среды наблюдались и ответственности" источниковедения и социальной истории (поскольку источник — не только само по себе социальное явление, но и среда его бытования — тоже исключительно социальная). Очевидно, что в условиях заявленной необходимости пересмотра отношения к критике источников советского времени социально-историческим подходам должно принадлежать особое место. В данном конкретном случае представляется невозможным решение важной источниковедческой проблемы «источник в среде бытования» без применения социально-исторических наработок. Приведенный пример с разницей в подходах к законам и актовой документации советского времени свидетельствует о тенденции «эклектичности» и неравномерности развития даже родственных отраслей источниковедения72, как и о замешательстве источниковедов в вопросе о том, где заканчиваются источниковедческие задачи и начинаются собственно социально-исторические. Представляется, что значительно продуктивнее не разделять, а, наоборот, активизировать взаимодействие социальной истории и источниковедения, у которых объективно немало общего. Их сближает и междисциплинарный характер, и понимание исторического процесса как прежде всего социального взаимодействия, и принципиальный подход к исследованию прошлого как к его реконструкции.
Реконструктивный подход, включающий выработку методики сбора прямой и косвенной информации о прошлом и в целом источниковедческое обеспечение социально-исторического исследования, представляется особенно важным применительно к советской специфике 1920;1930;х гг. в других отраслях отечественного источниковедения. См.: Журавлев C.B. Законы и нормативные акты // Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы источниковедения советской истории. М., 1994. С.11−58.
72 Так, дипломатика как особое направление изучения актовых источников советского времени сформировалась лишь в последние десятилетия. Основанная на богатейших отечественных и западных традициях анализа феодальных актов и не связанная «грузом советского прошлого», она оказалась более «продвинутой» по сравнению с другими отраслями источниковедения (в том числе — с родственным ей источниковедением законодательства).
Немалая часть социально значимых событий этого периода (как и имен людей, вычеркнутых из истории либо забытых) в доступных источниках либо прямо не отражена, либо адекватные источники не сохранились (в связи с приоритетностью оставления определенной номенклатуры документов на постоянное архивное хранение, в результате уничтожения материалов в ходе войны, как следствие массовых репрессий, макулатурных кампаний и др.) Социальных историков перестали устраивать и «обезличенные» документы, годные, например, для изготовления коллективных биографий без имени и лица. Это также предъявляет новые требования к источниковой базе работ. Проблема изучения степени повторяемости информации в разных видах источников советского времени, вопросы методики замещения информационных лакун и извлечения косвенной информации актуальны в том числе в связи с сохраняющейся недоступностью целого ряда архивных коллекций.
Среди новых задач источниковедения, выдвигаемых перед ним проблематикой советской социальной истории, — определение максимально широкого круга источников по истории советского общества вообще, и особенно, — с учетом основных социально-исторических подходов и проблем. Задачи социально-исторического исследования советской эпохи существенно меняют направление и приоритеты эвристического источниковедческого этапа, что, в свою очередь, изменяет вектор и качественные характеристики самой работы. В последнее время, как уже отмечалось, все активнее берутся на вооружение методики и вводятся в научный оборот материалы «устной» истории. Реализуются программы визуального обследования местности, обстановки жилища, а также интервьюирования современников событий, направленные на целенаправленное создание новых источников и заполнение информационных лакун. Все шире в качестве основных источников привлекаются материалы личных и семейных архивов граждан, включая дневники, переписку, фотографии, материалы профессиональной и творческой деятельности. Тем самым расширяется крут источников, а собственно госархивная эвристика перестает быть вне конкуренции, становясь одним из многих этапов общей эвристической работы. Более того, наметился отказ от безусловной преимущественности использования материалов центральных архивов и фондов центральных органов власти и управления как наиболее важных и представительных для изучения проблем советской истории. Социально-исторический подход способствует решительной переоценке отношения к документам «низового», местного и регионального уровня, многие из которых до сих пор отнесены к третьесортным (по классификации — архивные фонды третьей категории). Это относится в первую очередь к материалам таких микросоциумов, как сельсоветы, райсоветы и колхозы, первичные партийные и комсомольские ячейки, школы и больницы, курсы, исправительно-трудовые учреждения, пионерские лагеря и дома пионеров, заводские коллективы, учреждения соцкультбыта, жэки, спортивные общества, клубы и проч.
Сравнительный анализ активно публикуемых в последние годы сводок партийных органов и ОГПУ-НКВД 1920;1930;х гг. регионального и, с другой стороны, центрального уровня ставит в повестку дня важный вопрос, относящийся и к другим категориям советских документов. В идеологизированном обществе в условиях многоуровневой бюрократической властной пирамиды складывалась ситуация, когда на каждом последующем этапе поступающие «снизу» информационно-отчетные и иные материалы объективно и субъективно обобщались и искажались, их содержание многократно редактировалось, унифицировалось и фильтровалось. Тем самым до центра (читай: фонды центральных архивов) информация зачастую доходила с «эффектом испорченного телефона». В противоположность им, документы низового и регионального уровня обладают важным преимуществом «первичности». Будучи ближе к жизни, они (правда, в границах своей ограниченной компетенции) намного более информативны, представительны, в меньшей степени подверглись искажениям и зачастую достовернее отражают сложность и противоречивость реальной советской действительности. Однако использование этих источников, как правило, ограничено рамками микроанализа. Это вновь ставит в повестку дня вопросы об особой роли микроисследований для реконструкции советского прошлого, а также о соотношении микрои макроподходов. В частности, о допустимости и реальном применении методов генерализации и экстраполяции результатов микроисследований на более широкий исторический контекст.
Очевидно и то, что современная социальная история отдает предпочтение не анонимным, формализованным и унифицированным источникам, вышедшим из властных структур и потому «говорящим их языком» (законодательные и нормативные акты, статистика, планово-отчетная, организационно-распорядительная и иная делопроизводственная документация партгосструкгур), которые были в центре внимания традиционного советского источниковедения, а прежде всего источникам, исходящим от человека либо прямо или косвенно свидетельствующим о его жизнедеятельности, мыслях и чаяниях. Социально-исторические задачи требуют переоценки или по крайней мере смещения акцентов в отношении уже известных, а также введения в научный оборот новых источниковых пластов. В частности, в свете проблематики социальной истории совершенно иное значение приобретают источники личного происхождения, активно публикуемые в последнее время письма, жалобы, заявления рядовых граждан в разные инстранции, предложения людей в связи с обсуждением социально значимых проектов (конституции, законы, партийные, комсомольские программы). Специального источниковедческого изучения заслуживают такие распространенные специфические источники 1920;1930;х гг., как корреспонденции рабселькоровдоносы и донесения секретных информаторов (в том числе — в извлечениях имеющиеся в следственных делах ОГ-ПУ-НКВД и в составе сводок силовых структур о происшествиях и настроениях людей).
Крайне важно введение в научный оборот практически не востребованных исторической наукой и не разработанных источниковедением таких богатейших источников 1920;1930;х гг., как материалы по личному составу. Это разного рода личные дела граждан (из образовательно-воспитательных учреждений, производственные, военные, в том числе запасанаградные, партийные, комсомольские и профсоюзныевыездные за границу, по прописке, принятию и смене гражданства, финансовые, о членстве в обществах и творческих союзах и др.) — персональные дела и документы контрольно-ревизионных (партийных, советских, хозяйственных, финансовых и др.) органов, материалы чисток, проверок, журналистских и иных расследований.
Особняком стоят требующие крайне осторожного отношения многотысячные комплексы следственных материалов милиции, прокуратуры, ОГПУ-НКВДархивы тюремных и лагерных дел заключенных МВД, ОГ-ПУ-НКВД и др. Бесценны для биографической и социально-исторической реконструкции до сих пор секретные документы оперативной разработки спецслужбами конкретных лиц, членов обществ, объединений, национальных и религиозных группдокументы надзорного делопроизводства прокуратуры и судов. Указанные выше массивы источников количественно весьма обширны и в архивах, как правило, выделены в отдельные описи, коллекции или хранилища, что облегчает их использование. По составу документов они носят, как правило, комплексный характер, включая в том числе источники личного происхождения, делопроизводственные документы разного рода, анкеты, заявления, автобиографии, характеристики и т. д., которые в совокупности дают широкие возможности для реконструкции биографий и судеб рядовых людей советской эпохи.
Безусловно, заявленная выше обширная программа взаимодействия источниковедения и социально-исторических подходов, направленная на глубокое изучение малоисследованных пластов советской социальной истории, рассчитана на длительную перспективу и не может быть решена в рамках одного исследования. Тем не менее, характеристика ее принципиальных сторон, включая историографическую и архивоведческую составляющую ситуации, представляется крайне важной для последующего обоснования проблематики данного диссертационного исследования и «вписывания» его в более общий контекст.
Иностранная иммиграция и иноколония в СССР в 1920;1930;е гг.: итоги изучения в отечественной и зарубежной историографии.
Одной из важных проблем, рассматриваемых нами одновременно в качестве своеобразного «полигона» для реализации указанной выше методической и источниковедческой программ социально-исторической реконструкции советской истории, представляется исследование жизнедеятельности иностранной колонии в СССР в 1920 — 1930;е гг. Данная тема не была предметом специального социально-исторического или источниковедческого исследования.
После революции 1917 г. современники стали свидетелями небывалого по численности и характеру историко-социального феномена, который до сих пор остается в значительной степени малоизученным, — массовой иммиграции иностранцев в Советскую Россию. Страна, только начавшая вставать из руин войн и революций, которая сама традиционно считалась источником эмиграции в другие части света, вдруг стала местом массового паломничества иностранцев из разных стран73. В СССР образовалась многочисленная иностранная колония — совокупность относительно самостоятельных социумов и одновременно — во многих отношениях еди.
73 По подсчетам американской миграционной службы, за 1820−1931 гг. 3 млн. 342 тыс. россиян эмигрировали в США (United States National Archives /в дальнейшем — NA/. Records of the Department of State Relating to the Internal Affairs of the Soviet Union. 1930;1939. 861.55 Immigration. Memorandum «Trend of Migratory Movements in Russia»). ный, хотя и весьма специфический, очень динамичный общественный организм внутри советского общества.
Кратко характеризуя основные миграционные потоки 1920;х — 1930;х гг., нужно отметить, что СССР стал привлекательным не только для тысяч коммунистов, желающих лично участвовать в создании «новой цивилизации» или для профессиональных революционеров, преследуемых за убеждения. В Советский Союз стремились миллионы безработных, выброшенных на улицы, те, кто подвергался расовой и национальной дискриминации на Западе, кто мечтал получить в СССР образование, недоступное из-за дороговизны на родине, или гарантированные условия для научной деятельности. Немало оказалось и таких иностранцев, которые ехали в Россию с целью воссоединения с родными, в поисках смысла жизни и приключений. Многие категории иностранцев, как и их судьбы, причины приезда и жизнь в СССР до сих пор остаются малоизученными. Более того, сплошь и рядом реальные обстоятельства их биографий оказываются настолько сложны и взаимосвязаны, что немалую часть иммигрантов трудно однозначно причислить к определенной формальной категории74.
1920;е гг., особенно первая половина десятилетия, отличались и значительными цифрами реэмиграции. В Советскую Россию возвращались бывшие граждане Российской империи, по разным причинам оказавшиеся за рубежом: революционеры, скрывавшиеся от репрессий, экономические эмигранты, уехавшие в начале века в США, Канаду в поисках лучшей доли, военнопленные Первой мировой, оказавшиеся в Германии и Австро-Венгрии, а также некоторая часть белой эмиграции.
Заметным явлением 1920;х гг. стала национальная эмиграция и реэмиграция в СССР, особенно возросшая после создания карельской и еврейской автономии. В частности, в 1920;е гг. из США и Канады в Совет.
74 См. об этом: Журавлев C.B., Тяжелъникова B.C. Иностранная колония в Советской России в 1920;1930;е годы (Постановка проблемы и методы исследования) // Отечественная история. 1994. № 1. С. 179−189. скую Карелию на постоянное жительство приехало несколько тысяч финнов, о судьбах которых имеется обширная специальная литература и значительный массив мемуаров75. По данным Г. Я. Тарле, в течение 1920;1925 гг. только из США и Канады, откуда реэмиграция была в то время наиболее интенсивной, в Советскую Россию прибыло в общей сложности порядка 20 тыс. иммигрантов разных национальностей76. Среди ехавших в СССР финнов и евреев был особенно большой процент коммунистов и людей, явно симпатизирующих идее строительства социализма. Как правило, они распродавали имущество и приезжали сразу вместе с семьями и детьми. Для настроений таких людей часто был присущ идеалистический порыв. И хотя их предупреждали о трудностях повседневной жизни в СССР, характер грядущих проблем мало кто представлял. «Мы строим прекрасное здание, но строим его в крови, в поту, в грязи. И для Вас это не подходит», — отговаривали ехать в СССР одну привыкшую к комфортной жизни американку. Та обиделась: «Я готова на любые лишения. Вы думаете, мне обязательно нужны ковры? Я могу жить как мои предки — пионеры». Как вспоминают очевидцы, такие люди, даже морально подготовившись к серьезным неурядицам в далекой непредсказуемой России, особенно болезненно воспринимали мелкие неудобства, вроде отсутствия туалетной бумаги77.
В начале 1920;х существенной была и волна политэмиграции в СССР, всплески которой совпадали по времени с неудачными попытками.
75 Ahola, David John. Finnish-Americans and International Communism: A Study of Finnish-American Communism from Bolshevization to the Demise of the Third International (Lanham, 1982) — Hokkanen, Lawrence and Sylvia. Karelia: A Finnish-American Couple in Stalin’s Russia, 1934;1941 (St. Cloud, MN, 1991) — Kero, Reino. Emigration of Firms from North America to Soviet Karelia in the Early 1930s // The Finnish Experience in the Western Great Lakes Region: New Perspectives / Ed. by Michael Karnu, Matti Kaups and Douglas Ollila (Turku, 1975) — Kivisto, Peter. Immigrant Socialists in the United States: A Case of Finns and the Left (Rutherford, 1984) — Warwaruk, Larry. Red Finns on the Coteau (Saskatoon, Canada, 1984).
76 Тарле Г. Я. Друзья страны Советов. М., 1968. С. 348. революционных выступлений в Германии, Венгрии и других странах, за что сотни активных участников этих событий подвергались преследованиям на родине и вынуждены были искать политического убежища в СССР. Многие из представителей первой волны политэмигрантов рассматривались советским руководством как наиболее преданный, проверенный отряд мирового коммунистического движения и были привлечены к активной работе в Коминтерне.
В отношении экономической иммиграции советское правительство проводило в это время крайне прагматичную линию. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы РГАЭ по переселенческой и иммиграционной политике 1920;х гг.78 Любопытно, что Госдепартамент США, проанализировав советское законодательство и реальную политику в области привлечения иностранной рабочей силы в данный период, пришел к выводу, что советское государство следовало принципу «выборочной» иммиграции. В результате ограничений в СССР приехало значительно меньшее число иностранцев, чем было желающих. Характерный пример такого подхода отражен в ответе Ф. Э. Дзержинского Е.Д.Стасовой от 4 апреля 1924 г. Накануне Стасова сообщала ему о желании шести немецких квалифицированных рабочих из Йены, с оптических заводов известной фирмы «Цейс», приехать на работу в СССР. Поскольку в Советской России практически не было собственной оптической промышленности, их опыт, по мнению Стасовой, мог оказаться весьма ценным. «Дорогой товарищ, у нас имеется только один оптический завод, да и тот малюсенький в Ленинграде, — отвечал ей руководитель ВСНХ Дзержинский. — Опыт доказывает полностью, что приезд к нам эмигрантов кончается очень печально и для них, и для нас — если это не персональный приезд по персональному вызову на определенную долж.
11 Улановская Надежда, Улановская Майя. История одной семьи. Нью-Йорк, 1982. С.114−115.
78 РГАЭ. Ф.478. Оп.7. Д. 712, 713, 1511, 2956 и др. ность"79. Судя по документам, приоритет отдавался прежде всего тем квалифицированным промышленным и сельскохозяйственным рабочим, которые готовы были закупить и привести в СССР свое оборудование, инструменты и другие средства производства. Наибольшую известность в 1920;е гг. приобрели иностранные коллективы AMO, Московского инструментального завода, индустриальной колонии «Кузбасс», сельхозкооператива «Сеятель» и др. В 1927 г. ВСНХ еще больше ужесточил требования, приняв инструкцию, в которой определялись конкретные категории и квалификационные требования для иноспециалистов, необходимых для советского народного хозяйства80.
Ситуация заметно изменилась в конце 1920;х гг., в связи с началом реализации грандиозных планов индустриализации СССР, потребовавших многих тысяч квалифицированных рабочих, умевших обращаться с закупленным за рубежом новейшим оборудованием. Речь шла о массовом привлечении иностранных рабочих к соцстроительству, чему в немалой степени способствовало обострение экономического кризиса и массовая безработица в ведущих западных странах. С 1929 г. ВСНХ, наркоматы и даже отдельные предприятия приступили к проведению активной кампании по привлечению иностранной рабочей силы. Формально решающий шаг в этом направлении был сделан летом 1930 г. на XVI съезде ВЬСП (б), который принял решение как о расширении практики посылки советских специалистов для обучения за рубежом, так и о приглашении в массовом порядке иностранных рабочих и специалистов в СССР при условии «полного использования их опыта и знаний на предприятиях Советского Союза"81. XVI съезд одобрил приглашение в СССР 40 тыс. иностранных рабочих и.
79 РГАСПИ. Ф.76. Оп.2. Д. 172. Л. 18.
80 NA. Decimal File. Records of the Department of State. 861.55 Immigration. Memorandum «Trend of Migratory Movements in Russia».
81 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.З. М., 1954. С. 46. специалистов82. О том, насколько важным представлялся в 1930 — 1931 гг. руководству страны вопрос о привлечении иностранной рабочей силы, свидетельствует интенсивность его обсуждения на заседаниях Политбюро ЦК, на которых он специально поднимался 15 и 25 марта и 5 апреля 1930 г. 83 15 октября 1931 г. рассматривался вопрос «О порядке вербовки ино-специалистов и рабочих», который накануне, 9 сентября, обсуждался также на заседании Оргбюро ЦК партии84. Однако еще ранее с одобрения высшего партийного руководства была инициирована пропагандистская кампания по привлечению иностранцев к соцстроительству. В качестве главного лозунга для решения практических задач соцстроительства в СССР была использована идея международной пролетарской солидарности.
С точки зрения тенденций того времени показательна опубликованная в «Правде» 7 февраля 1930 г. статья «Иностранные рабочие и пятилетка». Ее автор — американский коммунист, политэмигрант Джон Кларк обращал внимание на особую остроту проблемы кадров для выполнения пятилетки и приветствовал идею массового привлечения инорабочих к соцстроительству в СССР. «Было бы грубейшей ошибкой недооценивать энтузиазм и преданность этих рабочих Советскому Союзу», — писал он в общей обстановке эйфории. Среди несомненных плюсов приезда в СССР инорабочих он отмечал следующие: во-первых, они отдадут соцстроительству свои знания и опыт индустриального производстваво-вторых, многие приедут за свой счет, со своими инструментами и даже купленным в складчину станками и оборудованием. Наконец, посылка тысяч инорабочих в СССР важна потому, что укрепит и спаяет международный пролетариат. Д. Кларк, казалось, нисколько не сомневался в том, что приезд тысяч инорабочих в.
82 Graziosi, Andrea. Foreign Workers in Soviet Russia, 1920;1940: Their Experience and Their Legacy // ILWCH. 1988. № 33 (Spring). P.38−39.
83 Прот. 120, п.34- прот. 121, п. 11- прот. 122, п. 16 — «О привлечении квалифицированных инорабочих и мастеров» (РГАСПИ. Ф.17 Оп.З. Д. 777, 780, 781).
84 Прот. 69 заседания Политбюро, прот. 3, п. 6 заседания Оргбюро ЦК (РГАСПИ. Ф.17. Оп.З. Д.854).
СССР будет иметь и огромный пропагандистский эффект: они воочию убедятся на собственном опыте в преимуществах жизни в СССР85.
На рубеже 1920 — 1930;х гт. была зафиксирована наиболее мощная волна экономической иммиграции иностранных рабочих, техников и специалистов из ведущих западных стран в СССР. Иностранные специалисты в качестве экспертов, консультантов и т. д. участвовали в проектировании и реализации практически всех крупнейших строек первой пятилетки. Наибольший процент приехавших по контрактам составляли немцы и американцы, также как и основная часть импортной техники, инсталлированной на гигантах советской индустрии, закупалась в этих странах. Тем не менее, уже в начале 1930;х гг. выявилось, что несмотря на декларируемое советским руководством желание следовать именно американским методам производства, на практике наметился процесс замещения американских специалистов немецкими. Тревожными сообщениями такого рода (США и Германия конкурировали на советском рынке), основанными в том числе на свидетельствах трудившихся в СССР иностранцев, полны депеши, направлявшиеся в Госдеп из-за рубежа по дипломатическим каналам. Источники такого рода (особенно — стенограммы бесед с иноработниками), изученные нами в Национальных архивах США, представляют безусловную ценность, поскольку информация поступала из первых рук, по горячим следам событий, автономно опрашивались многие десятки иноработников, включая трудившихся на одних и тех же предприятиях СССР, что дает возможность сравнительного анализа, верификации фактов и предварительной оценки степени достоверности данных. Особого внимания заслуживают свидетельства компетентных источников. В их числе был, например, возвращавшийся в феврале 1932 г. из СССР г. Вильям Шиппель, работавший в Москве от General Electric. Являясь гражданином Германии, Шиппель прожил в Штатах 25 лет, в силу чего в СССР активно общался.
85 Правда. 1930. 7 февраля. как в кругах немецкой, так и американской иммиграции. По мнению возвращавшихся из СССР специалистов, причины вытеснения американцев немцами в ходе советской индустриализации следующие. Во-первых, сказывалась исходная разница в уровне жизни специалистов в США и Германии и, соответственно, в и запросах. При сходном профессионализме немцы соглашались работать в СССР за более низкую плату, а некоторые и вообще на безвалютной основе (за рубли) — они оказались более неприхотливыми в быту, чем американцы. Кроме того, по мнению проработавшего два года на ГАЗе американца с немецкими корнями Виктора Райтера, на ряде производств немецкие рабочие имели в целом более высокий уровень подготовки, чем американцы86. Во-вторых, быстро выявились скрытые до поры до времени преимущества того, что немецкий язык традиционно более распространен в среде русской технической интеллигенции, что заметно упрощало общение на работе, установление личных контактов, а также сокращало затраты администрации на переводчиков и проч87. Американская техника и технологии частично также замещались немецкими по той причине, что последние нередко более дешевы, лучше адаптированы к непростым природным условиям СССРиз Германии дешевле обходится перевозка техники, наконец, именно к германскому оборудованию привыкли немецкие рабочие, составлявшие большинство трудившихся в СССР эко.
86 Интервью с Виктором Райтером 5 января 1995 г., Вашингтон. В. Райтер обратил внимание на то, что американским рабочим в большей степени был присущ универсализм, тогда как немцам — глубокая специализация в своей профессии, в которой они достигали за счет этого больших успехов. По его наблюдениям, советским рабочим немецкая специфика, основанная на специализации, оказалась ближе и понятней.
87 Вопрос языка оказался действительно чрезвычайно важным. Как видно, к примеру, из книги работавшего в СССР в это время американца Вальтера Рукей-сера, почти каждый встретившийся ему в СССР инженер владел или по крайней мере неплохо объяснялся на немецком языке, тогда как разговорный английский знали лишь единицы и даже предоставление ему переводчика оказалось для треста немалой проблемой (Rukeyser, Walter A. Working for the Soviets. An American Engineer in Russia. New York, 1932). номических иммигрантов, к мнению которых директора заводов вынуждены были прислушиваться88.
Вопрос об общей численности иностранцев в СССР в 1920 — 1930;е гг. до сих пор остается предметом дискуссий. Причин здесь несколько. Первая и наиболее очевидная из них — спорность критериев, кого именно относить к иностранным иммигрантам, включать ли в это число реэмигрантов, членов семей, лиц без гражданства, со спорным и двойным гражданством, которых было немало, следует ли вообще увязывать эту проблему с формальным гражданством и проч. и проч. Во-вторых, для эмиграционных процессов была характерна интенсивная динамика, вряд ли подконтрольная строгой статистике: одни иностранцы жили в СССР годами, другие покидали СССР через короткий срок, на смену им приезжали новые. В-третьих, общего учета иностранцев, приехавших в СССР разными путями, в разные годы и проживших здесь разное количество лет, судя по всему, не существовало, по крайней мере, до завершения паспортизации в крупных городах. В-четвертых, в литературе чаще всего речь идет об иммиграции с Запада, тогда как иммиграция в СССР с Востока была, по видимому, значительно более интенсивной89. Это подтверждают, в частности, следующие данные. По сведениям ОВИР, на начало 1937 г. в СССР проживало 98.840 иностранных граждан, большинство из которых, правда, составляли иранцы, греки, китайцы, корейцы. Заранее оговоримся, что в данном исследовании речь идет исключительно об эмиграции в Советскую Россию с Запада — из Европы и Северной Америки. Понятно, что «восточная» эмиграция в СССР имела свою яркую специфику и должна быть предметом самостоятельного изучения.
88 NA. Decimal File. Records of the Department of State. 861.5562/1- 861.5017 Living Conditions / 428.
89 В 1930;е гг. в СССР эмигрировало, по американским данным, не менее 25 тыс. китайцев и 170 тыс. корейцев (NA. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of the Soviet Union. 1930;1939. 861.55. Immigration. Memorandum «Trend of Migratory Movements in Russia»).
Из представителей индустриальных стран больше всего в СССР в 1920 — 1930;е гг. находилось немцев. Даже к началу 1937 г., когда основная часть инорабочих покинула СССР или приняла советское подданство, германских граждан, включая дипломатов, иноспециалистов, политэмигрантов и проч., здесь насчитывалось в общей сложности 4.015 человек90. Если учесть, что к 1 июля 1936 г. в СССР проживало почти 6 тыс. граждан Германии, то это означает, что только за вторую половину 1936 г. Советский Союз покинуло около 2-х тыс. германцев, то есть треть от их общего числа^.
Возвращаясь к вопросу об общей численности иммиграции в СССР, отметим, что большинство отечественных специалистов сходится во мнении: максимальное количество иностранцев, представлявших развитые западные страны, проживало в СССР в 1932 — 1933 гг. — около 20 тыс. чел. работающих и порядка 35 тыс. вместе с членами семей92. По некоторым данным, только в Москве и области (отдельные цифры по столице отсутствуют) в 1932 г. трудилось более 2 тыс. инорабочих, большинство из которых представляли крупнейшие предприятия времени первых пятилетокМосковские часовой и подшипниковый заводы, Электрозавод, Динамо, Станкозавод и др.93 Заметим, что указанные данные отличаются от имеющейся в нашем распоряжении официальной статистики работающих в советском народном хозяйстве иностранцев, ведшейся наркоматами (без учета членов семей). Так, по официальным, но, видимо, неполным данным,.
90 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937;1938 гг. // Наказанный народ: Репрессии против российских немцев. По материалам конференции «Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в контексте советской национальной политики» 18−20 ноября 1998. М., 1999. С. 49.
91 Хаустов В. Репрессии против советских немцев до начала массовой операции 1937 г. // Наказанный народ: Репрессии против российских немцев. С. 83.
92 История КПСС в 6-ти томах. Т.4. Кн.2. М., 1971. С.235- Касъяненко В. И. Завоевание экономической независимости СССР. М., 1972. С. 186- Озеров Л С. Индустриализация СССР и международный пролетариат (1926;1932). М., 1983. С.89- РГАСПИ. Ф.79. Оп.1. Д. 558. Л.6. предоставленным 15-тью наркоматами в профсоюзные органы, на 1929 г. в СССР трудилось всего около 4 тыс. иностранных рабочих и специалистов, а в июле 1933 г. их число достигло 10.369 чел.94 По данным НК РКИ, приводимым также В. И. Касьяненко, на 4 сентября 1932 г. в СССР трудилось 9.190 иноспециалистов, 10.655 инорабочих и проживало 17.655 членов их семей, что в общей сложности составляло около 40 тыс. чел.95.
Основная масса иностранцев работала в 1930;е гг. на предприятиях ключевого наркомата страны — НКТП. В системе НКТП, по данным этого наркомата, в 1930 г. работало 600 иноспециалистов (инженеров, техников, мастеров) и только 512 инорабочих, в 1931 г. — 1.631 иноспециалист и 1267 иностранцев на рабочих должностях. В 1932 г. впервые и сразу почти вдвое количество инорабочих превысило в НКТП число иноспециалистов — соответственно 2.050 и 4.008. Далее динамика по этому наркомату заметна буквально по месяцам: на 1 января 1933 г. — 4.121 специалиста и 6.550 рабочих (максимальное количество за все годы) — на 1 апреля 1933 г. 2.186 специалистов и 3.867 рабочих, в конце 1933 г. наблюдается заметное сокращение численности иностранцев в НКТП — до 2.286 специалистов и 3.864 рабочих96. К сожалению, в архивах отсутствует информация о методике подсчета наркоматами количества трудившихся у них иностранцев. В частности, неясно, включались ли в это число иностранцы по паспорту или по национальности (многие американцы — русские, украинцы, белорусы, латыши — нередко не учитывались как иностранцы), учитывались ли только работавшие по индивидуальным контрактам или все, включая трудившихся по колдоговору, наравне с русскими рабочими. Сравнительно лучше известны цифры проживавших в СССР политэмигрантов, причем.
93 Исаева Г. М., Кулешова Г. С., Цыганков В. П. Москва интернациональная. М., 1977. С. 44.
94 ГАРФ. Ф.5451. Оп.39. Д. 59. Л.1, 2, 39−41. Сравнение с приводимыми ниже сведениями одного только НКТП показывает, что эти данные не полны.
95 РГАСПИ. Ф.79. Оп.1. Д. 558. Л.5−8.
96 ГАРФ. Ф.5451. Оп.39. Д. 59. Л.1, 2, 39−41. количество тех, кто имел официальный статус, было сравнительно невелико и составляло к 1933 г., по некоторым сведениям, около 700 чел. плюс члены семей97. В середине 1930;х гг. количество прибывших в СССР политэмигрантов заметно выросло, в основном за счет бежавших из фашистской Германии, из Австрии, Италии, Испании и других стран. По данным О. Деля, в 1933;1935 гг. статус политэмигрантов, при «искусственном сдерживании» и введении ограничений на въезд, получили тем не менее около 2.700 иностранцев. По его мнению, к 1937 г. общее количество политэмигрантов превышало 4.000 чел.98 Известно, что к этому времени на учете Коминтерна находилось около 3 тыс. немецких коммунистов, проживавших в СССР99. Что касается национальной характеристики иностранной эмиграции в СССР, то не подлежит сомнению, что в течение 1920;х -1930;х гг. на первом месте и с большим количественным отрывом лидировала эмиграция из Германии, а на втором месте были американцы. Другое дело, что Северная Америка безусловно лидировала как источник реэмиграции в СССР выходцев из Российской империи. В качестве характерного примера общей тенденции можно привести данные по НКТП. Из 6.153 иностранцев, трудившихся здесь в апреле 1933 г., немцев было около половины — 2.806, американцев — вторых по численности — в десять раз меньше — 274, остальные приехали из других стран100.
Одним из очевидных «белых пятен» в изучении иностранной эмиграции являются американцы российского происхождения, включая лиц, родившихся в США. Существовали инструкции о предпочтительной вербовке на работу в СССР выходцев из России, владевших русским языком. По приезде же в Советский Союз, в соответствии с советским законодательст.
97 ГАРФ. Ф.8265. Оп.1. Д.ЗЗ. Л.611−612.
98 Делъ О. От иллюзий к трагедии. Немецкие эмигранты в СССР в 30-е годы. М., 1997. С.11−12.
99 Данные основаны на показаниях Вальтера Диттбендера — секретаря германской секции Коминтерна 1930;х гг., арестованного по т.н. «Коминтерновскому делу» (Архив УФСБ МиМО. Следственное дело П-22 720. Т.7). вом 1930;х гг., большинство таких иностранцев (русских, белорусов, украинцев, евреев, латышей и проч.) признавались советскими гражданами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Необычный для этой страны массовый отъезд американцев в СССР не остался незамеченным рядовыми гражданами США, вызвав удивление обывателей. В Национальных Архивах в коллекции Государственного департамента США сохранилось письмо некоей мисс Лоры Веллс от 14 декабря 1931 г., в котором она с удивлением спрашивала: «Мне хотелось бы знать, почему американцы в таких больших количествах уезжают в Россию». В ответе Госдеп по возможности успокаивал бдительную гражданку, сообщая, что к тому времени (конец 1931 — начало 1932 гг.) всего лишь около 6 тыс. человек уехали в СССР, причем большинство из них являлись реэмигрантами, выходцами из России, и не имели американского гражданства101. Однако эта цифра, по видимому, относится только к тем лицам, которые в качестве причины отъезда из США официально заявили о желании переселиться в СССР. Значительно чаще в качестве формальной причины отъезда указывалось устройство на работу или учебу, туризм, посещение родных и проч.
Споры историков о численности эмигрантов в СССР разных категорий, разной национальности и в разные годы не могут заслонить главного. Количественный порядок приехавших (десятки тысяч человек) таков, что мы имеем все основания утверждать: столь интенсивной иммиграции в юо ГАРФ ф.5451. Оп.39. Д. 59. Л.1, 2, 39−41.
101 NA. Decimal File. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of the Soviet Union. 1930;1939. 861.55. Immigration. Correspondence. Данными о большом количестве желающих уехать из США в СССР в начале 1930;х гг. была полна американская пресса. Так, по информации Амторга, в 1931 г. было нанято на работу в СССР до 10 тыс. американцев, а количество обращавшихся иногда составляло до тысячи в день (Kenneil R. and Bennett М. American Emigrants in Russia // American Mercury. 1932, April. P.463). нашу страну из развитых стран Запада, как в 1920 — 1930;е гг., история XX в. не знала102.
Анализ советских и зарубежных работ по истории эмиграции в СССР в 1920 — 1930;е гг. мог бы быть предметом отдельного монографического исследования в силу значительного их количества и разнообразия. Для определения места и значения проблематики данного диссертационного исследования в общем историографическом контексте представляется целесообразным кратко остановиться на основных итогах и тенденциях изучения иностранной эмиграции в СССР в 1920 — 1930;е гг. Специальное внимание, с учетом специфики диссертации, уделено степени разработанности социально-исторических и источниковедческих вопросов.
Что касается советской историографии, то имеющиеся работы по этой проблеме написаны в основном в историко-партийном ключе и в подавляющем большинстве рассматривают иностранную иммиграцию не как важную самостоятельную научную проблему советской истории, а как один из эпизодов в общем процессе укрепления интернациональных связей СССР и пролетарского интернационализма (наряду с деятельностью МОПРа, Коминтерна, Межрабпома, с посещением СССР иностранными рабочими делегациями и проч.)103 На данный стержень подбирались и.
102 Подробнее об этом см.: Журавлев C.B., Тяжелъникова B.C. Иностранная колония в Советской России в 1920;1930;е годы (Постановка проблемы и методы исследования) // Отечественная история. 1994. № 1. С.179−189.
103 См.: Василевский А. И. Деятельность Московской парторганизации по развитию интернациональных связей трудящихся столицы и зарубежных стран. 19 281 932. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1981; Иоффе А. Е. Интернациональные научные и культурные связи Советского Союза. 1928;1932. М., 1969; Исаева Г. М., Кулешова Г. С., Цыганков В. П. Москва интернациональная. М., 1977; Лукьянов К. Т. Интернациональные связи между трудящимися СССР и Германии в годы социалистического строительства. 1926;1932. JL, 1968 (одноименный автореф. канд. дисс. JL, 1969) — Лъвунин Ю. А. Деятельность Коммунистической партии по укреплению и развитию интернациональных связей рабочего класса СССР с пролетариатом капиталистических стран (1921;1937 гг.) Автореф. дис. докт. ист. наук. М., 1978; Озеров Л. С., Сулейманова Г. А. Строительство социализма в СССР и международная пролетарская солидарность. 1921;1937 гг. (Историография проблемы). М., 1982; Озеров Л. С. Строительство социализма в СССР и междунананизывались" факты, призванные обосновать и подтвердить общую концепцию. В итоге эта тема оказалась одной из самых подверженных политизированности и тенденциозности. Закрытость значительных комплексов архивных источников неминуемо вела к фрагментарности и неравномерности освещения сюжетов по истории иностранной иммиграции в СССР как в хронологическом, так и в региональном и проблемно-тематическом плане. В то же время, судя по количеству авторефератов, данная проблематика считалась одной из самых «диссертабельных». Сравнительно большее внимание исследователи уделили вкладу иностранцев в соцстроительство, изучению основных иммиграционных волн и зависимости миграционных процессов от внутренних и международных факторов. К сожалению, несмотря на некоторые исключения (например, названные исследования Ю. А. Львунина и Г. Я.Тарле), в силу известных объективных, а также субъективных причин источниковая база многих работ не отличалась богатством и разнообразием. Именно в проблематике иноколонии 1930;х годов по сравнению с периодом 1920;х гг. заметно немало «табуированных» сюжетов. Об этом обстоятельстве как одной из главных причин отказа от продолжения изучения данной темы (наряду с обвинениями в «мелкотемье») говорила нам Г. Я. Тарле — автор одной из лучших советских книг об иностранцах в СССР в 1920;е гг., насыщенной богатым биографическим и бытовым материалом104. Среди «запретных» тем можно выделить круг вопросов, связанных с социально-историческим «негативом»: с результатами обследований и жалобами иностранцев на жизненные условия и производстродная пролетарская солидарность (1921;1937). М., 1972; Он же. Строительство социализма в СССР и международный пролетариат (1926;1932). М., 1983; Столяров А. А. Деятельность ВКП (б) по укреплению интернациональных связей рабочего класса СССР с пролетариатом США в 1929;1933 гг. Автореф. дис. канд. ист. наукТарле Г. Я. Международная пролетарская солидарность с Советской Россией в 1917;1937 гг. (Историографический обзор) // Исторические записки. 1977. Т.98- Троицкий В. Б. Участие зарубежных трудящихся в борьбе советского народа за создание экономического фундамента социализма (1925;1932 гг.) Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1973; и др.
104 Тарле Г. Я. Друзья страны Советов. М., 1968. венные проблемы в СССР, с раскулачиванием и принуждением к принятию советского гражданства, с реэмиграцией и насильственной высылкой из СССР, с массовыми репрессиями конца 1930;х гг. и др. Долгое время запрещалось упоминать о репрессировании в СССР известных деятелей Коминтерна, судьбы которых, как и тысяч рядовых людей, становятся предметом исследования лишь в последние годы. Кроме того, в указанных выше работах советского времени отсутствует целый пласт сюжетов, связанных с бытом, досугом, с повседневной жизнью иностранцев в СССР. Из-за всего этого история иностранной эмиграции в СССР оказалась в значительной степени обезличенной.
Хотя большинство исследований в этой области носило обобщенный характер, предпринимались и попытки перенести изучение иностранной эмиграции на уровень отдельных регионов, где они трудились (работы Н. П. Шарапова, П. Г. Матушкина об иностранцах на Урале и в Кузбассе, Г. М. Исаевой и др. «Москва интернациональная», ряд исследований по Ленинграду, Горькому и Украине), а также на уровень отдельных индустриальных и сельскохозяйственных иноколоний и коммун в начале-середине 1920;х гг. (работы Г. Я. Тарле, Е.А.Кривошеевой). Именно эти труды, написанные на архивном материале, который нередко впервые вводился в научный оборот, можно считать сравнительно удачными и оригинальными. Что касается иностранных колоний на крупнейших предприятиях первых пятилеток, насчитывавших сотни человек, то специальные работы о них в историографии отсутствуют. Характерно, что в книгах по истории фабрик и заводов, вышедших в 1960 -1970;е гг., заметна двойственная позиция, соответствовавшая общей установке. С одной стороны, массовый приезд в СССР на рубеже 1920 — 1930;х гг. и участие иностранцев в соц-строительстве пропагандировалось как яркий пример международной пролетарской солидарности. С другой стороны, на фактах, свидетельствовавших о значительности вклада иностранцев в соцстроительство, внимание сознательно не акцентировалось, дабы не затушевать решающее значение успехов советских рабочих в реализацию планов первых пятилеток. Показательный пример такого рода — книга «Завод и люди» (М., 1967) по истории Московского электролампового завода. В ней замалчивается не только конкретный вклад иностранцев в производство, но даже сам факт работы в 1920 — 1930;е гг. в ламповом и вольфрамовом цехах Электрозавода (именно на их основе был позднее создан МЭЛЗ) многочисленных коллективов инорабочих. В книге не говорится о существовании на Электрозаводе крупнейшей в Москве иностранной колонии в несколько сот человек, отсутствует даже упоминание о массовых репрессиях среди иноработников конца 1930;х гг., приведших к ликвидации иностранной колонии на заводе. Аналогичных примеров, характеризующих отмеченную тенденцию, можно привести немало.
Другим выводом из анализа советской историографии по данному вопросу может служить констатация того, что вне поля зрения советской историографии оказались источниковедческие проблемы изучения иноко-лонии, а также социально-бытовые, культурные и психологические сюжеты жизнедеятельности иностранцев, вопросы их адаптации и восприятия советской действительности. Нет работ, посвященных изучению иностранной колонии как специфической социальной общности, не исследован количественный и особенно качественный состав эмиграции, включая национальный, профессиональный, возрастной, партийный, а также катего-рийный (по статусу и положению — политические, экономические эмигранты, перебежчики, члены семей и пр.) С хронологической точки зрения неизученным оказался период 1930;х гг. Даже с учетом вышедшей в последнее время литературы по истории репрессий в отношении иностранцев, явно недостаточным представляется анализ социальных сторон и последствий этой трагедии, особенно — на микроуровне. Кроме того, большинство исследований в данной области основано на рассекреченных материалах партийных и государственных архивов, а документы спецслужб, как, например, следственные дела НКВД, остаются по большей части не введенными в научный оборот.
В последние годы наблюдается некоторое расширение проблематики и источниковой базы отечественных исследований по истории иностранной колонии в СССР, причем некоторые авторы все активнее затрагивают сюжеты, выходящие на проблемы социальной истории, истории повседневности и микроистории. Данное наблюдение свидетельствует об изменении представления о значимости данной тематики в научном сообществе. Это относится в первую очередь к работам Полы Гарб о социокультурной и бытовой адаптации иммигрантов из США и Канады в СССР105, основанных прежде всего на материалах авторских интервью, а также к новаторской по форме и содержанию рукописи Н. С. Мусиенко по истории немецкой школы им. К. Либкнехта в Москве, представляющей собой социальную историю интернационального сообщества учеников и учителей данной школы в 1920 — 1930;е гг.106 Последняя работа, наряду с материалами госархивов, вводит в научный оборот и демонстрирует богатые информационные возможности таких редко используемых источников, как личные и семейные архивы, переписка выпускников немецкой школы, фотографии и др. Событием стал и выход в свет в 1997 г. переработанной из кандидатской диссертации монографии О. Деля «От иллюзий к трагедии: немецкая эмиграция в СССР в 1930;е гг.», привлекающей вводимыми в научный оборот материалами архивов. Для современной российской исто.
105 Гарб Пола. Иммигранты из США и Канады в СССР: Опыт исследования социально-культурной и бытовой адаптации. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1990; Североамериканцы в СССР. Сб. / Сост. Гарб Паула. М., 1987. На англ. яз.: Garb, Paula. They Came to Stay. North Americans in the USSR (Progress Publishers, Moscow, 1987).
106 В школе учились в основном дети немецких и австрийских иммигрантов. Книга подготовлена к изданию в Германии и выйдет на немецком языке предположительно в 2000 г. под названием «Schule der Traume» («Школа мечты»). Мы имели возможность ознакомиться с рукописью этого новаторского микроисследования. риографии иностранной эмиграции в СССР характерна интернационализация, привлечение и использование достижений западной науки.
Изучение истории иностранной колонии в СССР велось и за рубежом, причем особенно интенсивно в США и Германии. Западная историография, особенно периода «холодной войны», также не была свободна от идеологических пристрастий. В центре внимания американских исследователей оказалось несколько сюжетов. Ученых интересовал вопрос, что именно и почему в советском обществе и советской действительности 1920 — 1930;х гг. оказалось особенно привлекательным для ехавших туда иностранцев107. Немалую роль в постановке и стимулировании изучения этой темы сыграла широкая публикация мемуарной литературы, и особенновоспоминаний рядовых американцев, побывавших в СССР в 1920 — 1930;е гг. в разном качестве108. Другой важной проблемой, поднимаемой американской историографией, явились приемы и методы идеологической обработки приехавших в СССР иностранцев, ставящие целью интегрировать их в советскую жизнь, а также социально-психологические и культурные проблемы адаптации иностранцев к советской действительности109. Немало опыта накоплено американской историографией в отношении изучения национальных и даже расовых аспектов эмиграции в СССР. При этом в центре внимания находится еврейская, финно-американская, а также негритянская эмиграция в Советский Союз в 1920 — 1930;е гг. Последнему сюжету посвящен ряд специальных работ и инициировано немало мемуа.
107 Например: Filene, Peter. Americans and the Soviet Experiment, 1917;1933 (Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1967).
108 См. мемуары: John Scott, Walter Rukeyser, Tomas Sgovio, George Burrell, William Chamberlin, Louis Fischer и др. авторов — очевидцев «советского эксперимента». Некоторые из них издавались в СССР и России: Скотт Джон. За Уралом. М, 1991; Хоней Ф. Б. Я уехал из Америки. Волгоград, 1962.
109 Margulies, Sylvia R. The Pilgrimage to Russia. The Soviet Union and the Treatment of Foreigners, 1924;1937 (Univ. of Wisconsin Press, 1968).
110 Blakely, Allison. Russia and the Negro: Blacks in Russian History and Thought (Hovard Univ. Press, 1986) — Hughes, Langston. I Wonder as I Wonder (New York,.
Что касается историков бывшей ГДР, то они при изучении немецкой эмиграции в СССР находились под влиянием советской историографии, а некоторые здесь успешно публиковались и защищали диссертации111. Одной из самых заметных обобщающих работ стала книга Клауса Йарматца, Симоне Барг и Петера Дизеля о немецкой эмиграции в СССР, которая, правда, было основана на доступных в ту пору источниках112. Одной из наиболее разработанных проблем в историографии как западной, так и восточной Германий стали судьбы и творчество прогрессивных германских деятелей культуры, эмигрировавших после 1933 г. в СССР113. Публиковались в ГДР и воспоминания бывших германских иммигрантов, живших в СССР в 1930;е гг. и вернувшихся после войны строить социалистическую Германию, в основном, из числа функционеров КПГ и Коминтерна (Альфред Курелла, Ханс Клеринг, Маркус Вольф и др.).
Внимание западногерманских коллег, особенно после объединения и получения более широкого доступа к советским архивам, привлекали прежде всего 2 проблемы: во-первых, история немецкой политической эмиграции в СССР, долгие годы рассматривавшаяся с позиций «холодной войны», но вызвавшая в ФРГ, как и в ГДР, заметный всплеск мемуарной литературы и, во-вторых, история сталинских репрессий в отношении немецких иммигрантов. Последняя тема уже много лет вызывает широкий общественный резонанс в германском обществе, к ее освещению подключились журналисты. После открытия советских архивов на страницах герман.
1956) — Robinson, Robert. Black on Red. My 44 Years Inside the Soviet Union (Wash. DC, 1988) — и др.
111 См.: Корбин Отто. Деятельность КПГ по развитию солидарности и помощи немецкого рабочего класса в строительстве социализма в Советском Союзе в период первой пятилетки. 1929;1933 гг. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1974. Кретчмар Урсула. Помощь немецких рабочих и ученых в строительстве социализма в СССР (1921;1933) // ВОСР и Германия. Т.2. Берлин, 1967.
112 Jarmatz К., Barg S., Diezel Р. Exil in der UdSSR (Leipzig, 1989).
113 Grimberg, Karl. Wie ich zu «Tausend Zungen» kam / Deutsche Schriftsteller aus ihrem Leben und Schaffen (Berlin, 1955) — Halfmann, Horst. Bibliographien und Verlage ской печати появлялось немало сенсационных и скандальных материалов, постоянно подогревающих интерес к этой теме: о трагических судьбах немецких политэмигрантов, в том числе депутатов Рейхстага, в СССР, о сотрудничестве НКВД и гестапо в конце 1930;х гг. Поставлена задача установить и увековечить имена всех германских граждан, пострадавших в период сталинизма. В Германии продолжают выходить книги — мартирологи с биографическими данными на репрессированных114. В настоящее время, наряду с устойчивым интересом к «знаменитым жертвам» сталинизма (известным функционерам КПГ, политэмигрантам, сотрудникам Коминтерна, деятелям культуры, депутатам Рейхстага и т. д.) в фокусе внимания историков все больше оказываются судьбы и биографии обычных, рядовых иностранных иммигрантов. Из работ последних лет, отличающихся основательностью и разнообразием архивной источниковой базы, следует отметить книгу Каролы Тышлер115 о немецкой иммиграции в СССР, а также исследования австрийских авторов Барри МакЛоглина, Ханса Шафранека и Вальтера Сзеверы об австрийских и немецких эмигрантах в СССР в 1920 — 1940;е гг. Формально посвященные национальным социумам, эти исследования имеют важное значение для изучения функционирования иноко-лонии в СССР в целом116.
Характеризуя иностранную историографию, нельзя не обратить внимание на то, что явно невостребованными германскими учеными остаются такие существенные вопросы, как повседневная (бытовая и производственная) жизнь иммигрантов в СССР, особенности адаптации к советской дейder deutschsprachigen Exil-Litetratur, 1933;1945 (Leipzig, 1969) — Diezel, Peter. Exiltheater in der Sovjetunion, 1932;1937 (Berlin, 1978).
114 In den Fangen des NKWD. Deutsche Opfer des Stlinistischen Terrors in der UdSSR (Berlin, 1991) — Weber H. «Weisse Flecken» in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinschen Sauberungen und ihre Rehabilitierung. 2 Anlage (Frankfut a/M, 1990).
115 Tischler, Carola. Flucht in die Verfolgung: Deutsche Emigranten im sovjetischen Exil 1933 bis 1945 (Lit Verlag Muenster, 1996).
116 McLoughlin Barry, Schafranek Hans, Szevera Walter. Aufbruch — HoffnungEndstation. Osterreicherinnen und Osterreicher in der Sovjetunion 1925;1945 (Verlag fur Gesellschaftskritik, Wien 1996). ствительности, характер социальных связей и контактов, взаимоотношения с русскими и иммигрантами других национальностей, исследование немецкой иммиграции на уровне семьи, микросоциумов и др. Слабой стороной германской, как, впрочем, и американской историографии является то обстоятельство, что, изучая судьбы эмигрантов-соотечественников, иностранные исследователи, как правило, глубоко не вникают в специфику советского общества 1930;х гг. Тем самым иноколония зачастую искусственно «выдергивается» из общего контекста советской действительности, претерпевшего существенные изменения в течение 1920 — 1930;х гг. Это неминуемо сказывается на выводах и качестве исследований. Кроме того, на общем фоне педалирования проблематики насилия и репрессий вольно или невольно создается искаженная картина советской действительности, затушевываются привлекательные стороны социализма, как и трагизм выбора между фашистской Германией и сталинской Россией, перед которым оказались после 1933 г. немецкие иммигранты.
Подводя итоги рассмотрению ситуации в отечественной и зарубежной историографии, следует подчеркнуть, что ключевые аспекты истории иностранной эмиграции и жизнедеятельности иммигрантов в СССР в межвоенный период остаются малоизученными. Объективность исследований страдает от идеологической конъюнктуры. Отсутствуют специальные исследования об иноколониях, существовавших в 1930;е гг. на крупнейших предприятиях СССР. Слабыми сторонами является социальная и бытовая жизнь иноколонии. Она не исследована как интернациональное сообщество разных категорий иммигрантов. Изучение иностранной иммиграции недостаточно проанализировано в контексте процессов, происходивших в Советской России в течение 1920 — 1930;х гг., а сам иносоциум не исследован как специфическая часть советского общества. Не выяснен реальный вклад иноработников в индустриализацию и модернизацию советской промышленности. Изучение указанных сюжетов во многом сдерживается накопившимся клубком источниковедческих и методических проблем. Вопервых, до сих пор ни в России и за рубежом не издано ни одного специального источниковедческого исследования об иноколонии в СССР в 1920 — 1930;е гг. Во-вторых, неудовлетворительной остается источниковая база проблемы, многие ценные источники не введены в научный оборот. В-третьих, изучение указанных сюжетов сдерживается недостаточным вниманием историков к богатым возможностям, которые открывают перед ними социально-исторические методы и подходы, в том числе с позиций биографической истории, микроистории, истории повседневности.
С учетом вышесказанного определены цели и задачи данной диссертации. Ее главной целью является изучение возможностей источниковой и методической базы социальной истории для реконструкции жизнедеятельности иностранной колонии в СССР в 1920;е — 1930;е годы.
В соответствии с основной целью исследования, поставлены следующие исследовательские задачи.
В области источниковедения:
1. Решение эвристических проблем, связанных с комплексным подходом к документальной реконструкции иноколонии и с необходимостью создания адекватной источниковой базы для реализации задач данного социально-исторического исследования;
2.
Введение
в научный оборот комплексов новых архивных документов по истории иноколонии из хранилищ России, США и трофейных германских материалов с акцентом на раскрытие информационного потенциала разнообразных материалов по личному составу, документов НКВД, Коминтерна и заводских архивов;
3. Сбор и введение в оборот серии интервью с очевидцами и участниками событий, раскрывающих разные стороны жизнедеятельности иноколонии в СССР;
4. Изучение в конкретной исследовательской практике комплекса вопросов источниковедческой критики и сопряженности информации разных видов и категорий источников по теме исследования.
В области методики социально-исторического исследования:
1. Апробация на конкретном материале по истории иноколонии и определение значения использования приемов и методов:
— семейно-биографической истории;
— микроистории;
— истории повседневности и иных социально-исторических подходов для реконструкции жизнедеятельности иноколонии;
2. Изучение на примере иноколонии вопросов контекстной проработки микроисторической, историко-биографической и иной социально-исторической проблематики, а также нахождение и выстраивание необходимых логических связей на уровне микрои макроанализа;
3. Изучение в конкретной исследовательской практике реальных возможностей, степени сопряженности и результативности, во-первых, комплексного анализа и использования указанных выше социально-исторических методик, во-вторых, комплексного применения источниковедческих и социально-исторических подходов для реконструкции жизнедеятельности иноколонии.
Диссертация основана на впервые вводимых в научный оборот источниках. Активный поиск и изучение, во-первых, новых документов, во-вторых, невостребованных тематических (социально-исторических, микроисторических, биографических, историко-бытовых и др.) пластов и, в-третьих, новых методик и подходов к изучению советской истории — одна из очевидных тенденций исторических исследований 1980 — 1990;х гг., нашедшая отражение при постановке задач диссертационного исследования и в известном смысле определившая его структуру. Однако, три указанные задачи до сего времени не рассматривались в единстве. Тем существеннее представляется попытка решения указанной триединой задачи в рамках данного исследования.
Новизна и научная значимость диссертации определяется следующими обстоятельствами:
1. Это первое специальное социально-историческое и источниковедческое исследование, посвященное реконструкции жизнедеятельности иностранной колонии в СССР в 1920;1930;е гг.
2. Диссертационное исследование основано на массивах и категориях источников, в основном архивных, впервые вводимых в научный оборот.
3. Поставленные в исследовании источниковедческие и методические задачи решаются, во-первых, в комплексе, во-вторых, на конкретном историческом материале — в связи с реконструкцией жизнедеятельности иностранной колонии в СССР.
Иноколония рассматривается в диссертации как динамичный, сложно структурированный социальный организм, состоящий из индивидуумов, а также из суммы семейно-родственных отношений, производственных, общественных и иных связей, характеризующих в конечном счете ключевую проблему социально-исторического исследования: человек в многоуровневой социальной системе координат. Выявление и изучение круга общения людей, формирования их окружения, характера социальных связей на микроуровне общества, в условиях бытовой и производственной повседневности, — все это те сопутствующие задачи, без которых не может быть раскрыта указанная тема.
В чем заключаются причины выбора данного объекта исследования и в чем видится его особая научная значимость? Прибывшие из разных стран и являвшиеся носителями разных культур, ментальностей, политических традиций, производственных навыков, бытовых привычек, иностранцы, в отличие от большинства советских граждан, имели возможность сравнивать и сопоставлять советскую действительность с Западом. В силу этого их взгляд на СССР был зачастую более острым и точным, а поведениеболее адекватным реалиям. В ходе процесса адаптации иностранцев в новой для них социокультурной среде специфика советского общества 1920;х.
— 1930;х гг., как и сам феномен «советскости», проявлялись особенно рельефно. Кроме того, имея иностранное гражданство в качестве своеобразного щита, многие иностранцы получали не только возможность относительно свободного выражения мнений по поводу увиденного, но и реальную альтернативу действий: уехать назад или остаться в СССР. Подробное изучение суммы поведенческих мотиваций и обстоятельств решения иностранцами этой ключевой «проблемы выбора», перманентно стоявшей перед ними, в особенности, в течение 1930;х гг., представляется чрезвычайно важным для всестороннего исследования специфики советского общества этого времени, его как привлекательных, так и отталкивающих, с точки зрения иностранцев, сторон.
Конечно, взгляд иностранцев на советскую жизнь ни в коем случае нельзя абсолютизировать. С одной стороны, он был объективно «облегчен» отсутствием груза пережитого опыта, пройденного советскими людьми (войны и революции, голод, военный коммунизм, НЭП, коллективизация и др.) С другой стороны, на «чистоту» видения иностранцами советской действительности накладывались и то, чего были объективно лишены советские граждане: неизбежное сравнение СССР с условиями жизни на родине. Более того, и среди иностранцев разных категорий, посещавших в 1920;е — 1930;е гг. СССР, не было, да и не могло быть общих представлений об увиденном ими реальном социализме. Одно впечатление складывалось, например, у путешественников, смотревших на Советскую Россию из окна поезда. Другое — у членов многочисленных иностранных рабочих и профсоюзных делегаций, приглашенных на праздники, третье — у старательно опекаемых знаменитостей из числа творческой интеллигенции Запада. Четвертое — у высокопоставленных иностранных инженеров, работавших в наркоматах, объединениях и общавшихся, как правило, через переводчиков, с советской инженерно-технической и управленческой элитой. Все они видели чаще всего лишь то, что им хотели показать, были ограничены в общении и находились на советской земле слишком короткий срок, чтобы глубоко разобраться в действительности117. Тем не менее, подавляющее большинство трудов, условно обозначаемых как «СССР глазами иностранцев», основано на свидетельствах именно этих категорий наблюдателей. Понятно, что свое специфическое представление об СССР складывалось у работавших в СССР дипломатов, журналистов, также каку политэмигрантов или у иностранных учащихся закрытых коммунистических учебных заведений типа Международной Ленинской школы, КУНМЗ, КУТВ и др., которым в целях конспирации самостоятельное общение с советскими гражданами было вообще запрещено.
В этом ряду свидетелей особое место занимает такая наиболее многочисленная категория, длительное время проживавшая в СССР, как иностранные рабочие, специалисты советских предприятий и члены их семей, среди которых были как экономические, так и политические эмигранты, коммунисты и беспартийные, депутаты Советов разных уровней, учащиеся школ, студенты коммунистических учебных заведений и т. д. В отличие от сторонних наблюдателей, они имели возможность изучить советское общество «изнутри». Повседневная жизнь и работа неизбежно вынуждали их вплотную соприкасаться с разными сторонами окружающей действительности. Трудившиеся на предприятиях бок о бок с русскими коллегами, они питались в столовых, жили в коммуналках, втягивались в атмосферу энтузиазма, участвовали в соцсоревновании и ударничестве, в движении рационализаторов и изобретателей, должны были проявлять коллективизм и.
117 Наиболее рельефно ограниченность круга общения американских специалистов, работавших на рубеже 1920;х — 1930;х гг. на стройках социализма в качестве экспертов, видна из коллекции Фишера, находящейся в Гуверовском центре (Стэнфорд, США). Детальны и обстоятельны ответы американских инженеров на пункты вопросника, касающиеся технической стороны советских индустриальных проектов, уровня подготовки и оплаты труда советских инженеров и т. д. Заметно менее уверенно и, в отличие от предыдущей части, без конкретных доказательных примеров из собственного опыта отвечали они на вопросы, касающиеся жизни и условий труда рядовых советских граждан, в том числе — быта, производительности труда, ударничества и соцсоревнования (Hoover Institution Archives. American Engineers in Russia, 1927;1933. Compiled by H.H.Fisher. Questionnaires). заниматься общественно-полезным трудом. Поэтому опыт их «хождения в социализм», вне всякого сомнения, заслуживает самого пристального исследования и как самостоятельный феномен, и с точки зрения углубленного анализа советской истории 1920;1930;х гг. в целом. Учитывая вышесказанное, именно эта категория иностранцев, которая с научной точки зрения остается неисследованной, оказалась в фокусе данного диссертационного исследования.
Наряду с представителями целого ряда советских предприятий, наиболее широко в работе представлена самая крупная в столице в 1930;е гг. (насчитывала до 350 чел. с членами семей) и остававшаяся совершенно не изученной иностранная колония московского Электрозавода, выбранная нами в качестве своеобразного полигона для апробации социально-исторических (прежде всего, микроисторических и биографических) методик и источниковедческого анализа. Важно и то, что иноколония Электрозавода является, с одной стороны, уникальным, с другой, — во многом характерным для того времени социальным организмом, детальное изучение которого позволяет исследовать общие тенденции и процессы внутри иностранной колонии в СССР. Выбор иноколонии Электрозавода в качестве одного из центральных объектов изучения связан, кроме того, с характером самого предприятия, насыщенного иностранной техникой и ставшего символом советской индустриализации, а также с хорошей сохранностью ис-точниковой базы по его истории118. В связи с рассмотрением ряда проблем диссертации нами привлечены также материалы об иностранцах, работавших на столичных Кабельном заводе, ГПЗ им. Кагановича, ЗИСе, Метро-строе, а также на ГАЗе и СТЗ. Кроме того, введены в научный оборот до.
118 Специальные научные работы по истории московского Электрозавода и его трудового коллектива отсутствуют. Это обстоятельство во многом объясняется тем, что Электрозавод (с 1932 г. — Электрокомбинат) просуществовал как единое целое всего 10 лет, с конца 1927 до 1938 г. Не оставив формальных наследников, которые позаботились бы о написании его истории, он был разделен на ряд крупных самостоятельных производств. кументы о деятельности иностранных клубов, включая клуб инорабочих, и многие другие источники.
В результате диссертация оказалась насыщенной биографиями, судьбами, характерами обычных людей той эпохи, принадлежащих к разным национальностям, поколениям, профессиям — немцев, американцев, венгров и австрийцев, русских и еврееврабочих и инженеров, разведчиков, сексотов и домохозяек. В то же время мы не пытались как-то искусственно «вычленить» или выпятить судьбы рядовых людей из исторического контекста и системы социальных связей. Именно поэтому в исследовании можно найти немало неизвестных эпизодов о деятельности таких личностей, как Ф. Э. Дзержинский, А. З. Гольцман, К. В. Уханов, Н. А. Булганин и др. Использование метода биографической реконструкции позволило, не ограничиваясь изучением биографий отдельных людей, выйти на уровень таких устойчивых микросоциальных общностей, формирующих важные связи, как семья, круг друзей и знакомых иностранцев. Особый акцент в исследовании сделан на повседневной, а также эмоциональной стороне жизни иностранцев. Речь идет и о производственной повседневности, включая недоразумения и конфликты, ярко высвечивающие эмоциональную составляющую и специфику прозводственных отношений, а также об особенностях семейного быта и досуга иностранцев в СССР. При этом обе стороны жизни рабочих — на производстве и вне стен завода — реконструируются и рассматриваются в исследовании, как это было и в реальной жизни, как единая и взаимосвязанная система координат.
Формально сфокусированная на решении источниковедческих и методических социально-исторических проблем, связанных с реконструкцией жизнедеятельности иностранной колонии, диссертация так или иначе затрагивает основной спектр проблематики социальной истории, остающейся в центре современных научных дискуссий. Ее страницы посвящены разным вопросам рабочей истории, биографической истории и истории семьи, анализу социальных связей на микроуровне, миграционным и националъным проблемам, изучению ментальности, истории повседневности к истории эмоций. Кроме того, в связи с углубленным рассмотрением биографических и микросюжетов работы, и особенно — для выяснения их значимости, на первом плане оказывается контекстная проработка проблем. В конечном же счете исследование выходит на такие макропроблемы советской истории, как история интернациональных связей, индустриализации, завоевания экономической независимости СССР, история массовых репрессий и др.
Поскольку микроисторический подход и проблема контекста выступают одними из центральных в диссертационном исследовании, оно напрямую, причем в практической плоскости, выходит на одну из центральных дискуссионных теоретических проблем последних лет — о роли микроистории, о том, в какой степени она способна изменить наши представления о прошлом, а также о соотношении и возможности сопряжения микрои макроанализа.
Источниковая база исследования.
Одним из основных принципов, которым мы руководствовались при написании диссертации, является адекватность используемых в ней источников, во-первых, выбранному объекту и предмету исследования, во-вторых, предлагаемым социально-историческим методам и подходам. Исходя из этого строился начальный, эвристический этап работы.
Характеризуя выше специфику источниковой базы изучения советской социальной истории 1920;1930;х гг. и указывая на конкретные невостребованные традиционной исторической наукой пласты источников, мы отметили слабую в целом проработанность социально-исторической тематики. Действительно, специальные обобщающие источниковедческие работы по советской социальной истории отсутствуют. По-видимому, им должна предшествовать практическая проработка социально-исторического материала, подобная предлагаемой в настоящем исследовании.
В свою очередь, заявленная тема об иностранцах в Советской России имеет свою собственную источниковую и источниковедческую специфику, обусловленную, в первую очередь, статусом и положением иностранцев в СССР как особой социальной группы. Показательно, что сам характер изученных нами источников свидетельствует об очевидном: благоприятные возможности для изучения иноколонии на биографическом уровне, с позиций микроанализа и истории повседневности имеют как объективные, так и субъективные основания. Так, в отличие от обычных советских людей, проживавшие в СССР иностранцы сравнительно часто пересекали границу (к примеру, оправляясь в отпуск на родину), меняли свое гражданство и партийную принадлежность (переводились из братских компартий в ВКП (б)), вступали в иностранные клубы и землячества в СССР и др. Все эти действия были связаны с обязательной документальной фиксацией — с заполнением важных для социально-исторического исследования документов, в том числе анкетно-биографического характера.
Наряду с этим, сопоставление источников, особенно материалов 1930;х гг., свидетельствует о том, что к иностранцам государственные и партийно-политические структуры проявляли заметно более пристальное внимание, чем к советским гражданам. Какое конкретно отражение это нашло в источниковой базе и системе хранения документов? Во-первых, материалы об иностранцах на всех уровнях (от ЦК партии, НКИД и Коминтерна до заводских архивов) в советский период были засекречены и находились на особом учете, что сказалось на сравнительно хорошей их сохранности. Во-вторых, для работы с проживавшими в СССР иностранцами в государственных, партийных, профсоюзных органах, как и в системе Коминтерна, МОПРа, Профинтерна и др. международных коммунистических организаций, были созданы специальные структуры, материалы которых отложились в архивах и в настоящее время частично доступны для исследователей. В-третьих, как видно из изученных нами материалов архивов ФСБ, в том числе следственных дел иностранцев и советских граждан, настроения и поведение первых находилось в 1930;е гг. под явно более пристальным контролем спецслужб, которые рассматривали иностранцев как «группу риска» — потенциальную «пятую колонну». С этой целью в их среде было завербовано либо внедрено, по нашим наблюдениям, больше информаторов и сексотов, чем их функционировало среди рядовых советских людей. Сохранившиеся в соответствующих архивах спецслужб донесения информаторов, встречающиеся в копиях в изученных нами следственных делах репрессированных лиц, являются уникальными, практически не известными специалистам источниками, требующими, правда, особо тщательной источниковедческой критики в силу очевидной специфики их создания. В четвертых, особое отношение к иностранцам хорошо заметно на уровне документации низовых, в частности, заводских архивов и архивных фондов. Первые отделы предприятий и учреждений, работавшие в тесном контакте с парторганизациями, отделами кадров и сотрудниками заводских Инобюро, осуществляли в 1930;е гг. специальный учет и собирали сведения, особенно — компрометирующего и подозрительного характера — на всех трудившихся у них иностранцев. В результате при том, что значительная часть текущей спецдокументации, не предназначавшейся для архивного хранения, была уничтожена, в отношении иноработников большинства крупных предприятий страны 1930;х гг. до нас дошло немало комплексов материалов по личному составу, включая личные заводские дела, списки иностранцев с подробными биографическими и иными сведениями и т. д. Между тем, как следует из изученных нами документов, в отношении рядовых советских работников ситуация выглядит несколько иначе: как правило, хранящиеся в государственных и ведомственных (заводских) архивах списки, персональные карточки и иные документы по личному составу намного менее подробны и содержат в основном формальные биографические данные, сведения о поступлении на работу, прохождении служебной лестницы, поощрениях, взысканиях и проч. Тем не менее, и эти источники, имеющие важнейшее значение для социально-исторических исследований, остаются не введенными в научный оборот. Все охарактеризованные выше объективные и субъективные свойства ис-точниковой базы предопределили специфику и особенно благоприятные возможности для реконструкции иностранного социума на биографическом и микроуровнях, а на этой основе — для приближения к лучшему пониманию процессов в советском обществе межвоенного времени в целом.
В начале 1990;х гг. указанные комплексы документов были по большей части сняты с секретного хранения и оказались доступными для исследователей, включая автора данной диссертации. В настоящее же время, в том числе в связи с принятием закона об охране тайны личной жизни, по-разному трактуемого на практике руководителями архивных учреждений, ситуация с доступом к указанным источникам существенно осложнилась.
Приступая к более детальной характеристике источниковой базы диссертационного исследования, необходимо повторить, что в его основе лежат не только отдельные архивные документы, но и целые комплексы и категории источников, впервые вводимые в научный оборот. Источнико-вая база исследования состоит из нескольких основных частей. Ее классификация, реальное наполнение которой в детальном виде представлено в помещенном в конце работы списке использованных источников, в принципиальном плане может быть охарактеризована следующим образом: I. Материалы государственных, ведомственных архивов и архивов общественных организаций:
1.1. Материалы российских архивов;
1.2. Материалы архивов США;
1.3. Трофейные документальные коллекции гитлеровской Германии в бывшем Центральном государственном Особом архиве (далее.
ЦХИДК, ныне в составе РГВА).
II. Материалы личных и семейных архивов (вне госархивного хранения);
III. Материалы записанных автором интервью с очевидцами, родственниками и знакомыми действующих лиц исследования;
IV. Периодические издания 1920;1930;х гг.:
IV. 1. Центральная советская пресса;
IV. 2. Региональные и многотиражные заводские издания;
IV. 3. Советские газеты на английском и немецком языках;
V. Мемуары иностранных граждан о жизни в СССР;
VI. Справочно-биографические издания;
VII. Синхронные публикации 1920 — 1930;х гг.
Одним из наиболее ответственных был эвристический этап работы. Потребовалось выявить, а также, учитывая необходимость перепроверки архивных данных и заполнения информационных лакун, целенаправленно создать (в форме интервью) источники, позволяющие в максимальной степени решить задачи реконструкции иностранной колонии 1920;х — 1930;х гг. в историко-биографическом ракурсе, на уровне микроистории и истории повседневности. В итоге в диссертации оказались востребованными материалы из следующих 14-ти отечественных архивов и документальных хранилищ: ГАРФ, РГАЭ, РГАСПИ, РГАКФД, ЦА ФСБ РФ, Архив УФСБ РФ по Москве и Московской области, ЦА МВД РФ, ЦМАМ, ЦАОДМ, ЦГАМО, АВП РФ, Архив РАН, ЦХИДК (ныне в составе РГВА), Архив общества «Мемориал». Кроме того, во время командировки в США были изучены документы 3-х хранилищ: Национальных Архивов США (Вашингтон), Архивов Гуверовского Центра (Стэнфорд) и документального отдела библиотеки Колумбийского Университета (Нью-Йорк)119.
Одной из главных отличительных особенностей круга архивных материалов, привлеченных к решению задач диссертационного исследования,.
119 Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. The Rare Book and Manuscript Library, Columbia University. Divisions: SU — Emigration and ImmigrationSU — Foreign RelationsSU — History, 1917 — 1936. является видовое разнообразие источников, существенный разброс их первичных делопроизводственных функций (это — партийные директивы, протоколы допросов и дипломатическая корреспонденция, материалы контрольных органов, планово-отчетная и хозяйственная документация предприятийизначально не предназначавшаяся для посторонних глаз частная переписка, автобиографии, анкеты и, наоборот, рассчитанные на общественный резонанс жалобы и заявления иностранцев в разные инстанции и др.), а также «разноуровневость» и «многослойность» содержащейся в них информации.
Многие поставленные проблемы удается значительно лучше «высветить» благодаря наличию в исследовании как бы нескольких «источниковых плоскостей», в частности, — ведомственной и регионально-структурной. Речь идет о сознательном расширении источниковой базы за счет привлечения документов как партийных, профсоюзных, хозяйственных органов, так и Коминтерна, дипломатических учреждений, военной разведки и ГПУ-НКВД, а также гестапо. Поскольку каждый из указанных институтов в силу ведомственной специфики, компетенции и сферы деятельности имел свой особый взгляд на происходящее, так или иначе отражавшийся в соответствующей документации, нам представлялось важным по возможности оценивать разные позиции. Кроме того, для решения задач диссертационного исследования потребовалось, как правило, изучать массивы документов, начиная от центрального, городского, районного, заводского, клубного уровней, и вплоть до материалов о конкретном человеке, его семье и окружении, на что обращено первостепенное внимание. Понятно, что такой комплексный подход требует серьезной, но не всегда видимой и эффектной, предварительной работы, особо тщательной контекстной проработки материала, нахождения путей сопряжения информации разных источников, вычленения из документов и анализа как прямой, так и косвенной информации по теме исследования.
Следует отметить, что ряд ключевых источников нашей работы не были предметом специального источниковедческого анализа как категории документов. Они остаются неизвестными ученым либо крайне редко используются ими в исследовательской практике. На них следует остановиться особо. Это относится в первую очередь к личным делам иностранцев из заводских архивов, из архивов Коминтерна и ЦК партии, а также к материалам, отложившимся в результате деятельности спецслужб: следственные дела арестованных, дела на заключенных, наблюдательные дела, донесения секретных информаторов и др. Данное обстоятельство предопределило то сугубое внимание, которое мы уделили практической работе с новыми источниками, особенно в плане критической оценки сведений и раскрытия информационного потенциала для решения задач социально-исторической реконструкции. Работа с этими документами потребовала строгого подхода с использованием приемов источниковедческой критики, включая анализ вопросов достоверности, определение авторства, информативной ценности сведений, а также места данных источников в общем комплексе выявленных нами документов по теме диссертационного исследования.
Структура и содержание диссертации отражает отмеченную выше специфику источниковой базы. В ней имеются специальные главы и разделы, раскрывающие информационный потенциал и особенности работы с впервые вводимыми в научный оборот источниками, в частности, с личными делами инорабочих из заводского архива и со следственными делами НКВД. Обе названные категории источников относятся к сложным аналитически и комплексным, неоднородным по составу документов. В силу указанных причин они нуждаются в более подробном предварительном рассмотрении с точки зрения их источниковой специфики.
Следственные материалы НКВД 1930;х гг.
В ходе работы над диссертацией нами изучено в общей сложности более 50 следственных дел на репрессированных иностранцев и лиц из их советского окружения в ЦА ФСБ РФ, Архиве УФСБ МиМО и в ГАРФ.
Однако с учетом того, что в каждом следственном деле, как правило, содержится в разной степени подробности информация о других лицах, проходящих по данному делу либо из других дел (подавляющее большинство сфабрикованных органами НКВД следственных дел в отношении иностранцев — групповые) или упомянутых подследственным, в нашем распоряжении оказались следственные материалы о нескольких сотнях репрессированных в 1930;е гг. иностранцах.
Следственные дела НКВД различны по объему (в зависимости от сроков следствия, количества обвиняемых и проч. они могут содержать от 50 листов до нескольких тысяч страниц в многотомных делах, например, в так называемом Коминтерновском деле) и, как правило, имеют в своем составе типичный набор документов.
Первая группа источников, находящихся в составе типового следственного дела, связана с подготовкой и проведением ареста подозреваемого. Это справка на арест с соответствующим обоснованием, ордер на арест, протокол ареста и обыска, справки об изъятых вещах. Содержащие, на первый взгляд, сведения лишь о формальных следственных действиях, эти документы имеют весьма ценную информацию о подоплеке ареста, во многом объясняющую его причины и обстоятельства, а также задачи и последующий ход следствия. Детальный анализ первой группы документов дела нередко дает ключ к разгадке дальнейшего хода следствия. При этом, как показывает изучение дел, следственные действия в отношении иностранцев оформлялись нередко задним числом, документы исправлялись либо вообще не датировались. В ходе источниковедческого анализа следует обращать внимание на сравнительное изучение сведений из разных документов дела, на делопроизводственные детали их составления и функционирования (наличие подписей и резолюций, совпадение даты ареста и даты обыска обвиняемого и др). Внимательное исследование справки на арест подсказывает его истинные мотивы, иногда обнаруживает не фигурирующую в дальнейших материалах следствия причины и истинного инициатора задержания (автора доноса, сексота, извещение секретаря парторганизации в местный отдел НКВД о наложенном взыскании или подозрительном поведении коммуниста и проч.), а также позволяет судить о том, какой именно предварительной компрометирующей информацией располагали следователи на момент ареста. Судя по изученным нами справкам на арест иностранцев, во многих случаях они содержали непроверенные, иногда ложные данные, которые не подтверждались в ходе следствия. С точки зрения изучения методики следственных дел, целесообразно возвращаться к анализу первой группы источников после изучения материалов всего дела в целом. Важно подчеркнуть, что документы данной группы содержат не только прямую, но и существенную с точки зрения социальной истории косвенную информацию120.
120 Так, в ордере на обыск и арест имеются графы, заполняемые сотрудником НКВД, производившим задержание, содержащие сведения о жилищных условиях арестованного (общежитие, комната или отдельная квартира, метраж, наличие удобств) и о составе его семьи. Изучение, например, формуляров нескольких сотен ордеров позволяет относиться к ним как к массовым источникам, применяя соответствующие методы анализа. Они дают достаточно репрезентативную выборку как результат своего рода ненамеренного «социологического обследования», осуществленного сотрудником НКВД в присутствии понятых и самого арестуемого (с их подписями). В сочетании с анкетно-биографическими данными, имеющимися в следственном деле, это позволяет строить корреляционные зависимости жилищных условий (с учетом состава семьи) от пола, возраста, происхождения, партийности, социального статуса, занимаемой должности и др. Не-безинтересно с точки зрения социальной истории и то, кто именно приглашался в качестве понятых при аресте и обыске в 1930;е гг., а также содержащаяся в следственных делах информация о том, что именно изымалось у представителей разных слоев советского общества, у людей разного происхождения и образовательного уровня при аресте (наличие дневниковых записей, фотографий, переписки, запрещенных изданий, разного рода личных документов, государственных заемных обязательств, денег и ценностей, часов, валюты, пишущих машинок, в том числе с иностранным шрифтом, биноклей, фотоаппаратов, географических карт, оружия и др.) Эти и иные косвенные сведения о рядовых советских людях, полученные из следственных дел, нередко имеет уникальный характер, поскольку не отражены в иных источниках. Любопытно, что степень достоверности содержащейся в следственных делах косвенной информации, по нашим наблюдениям, выше, чем прямой информации о ходе следствия, которая нуждается в самой тщательной проверке.
Вторая группа документов следственного дела состоит из материалов следствия, отражающих дуэль арестованного со следователем: анкета арестованного, протоколы допросов и очных ставок, иногда — автобиографическое объяснение арестованного с комментарием выдвинутых следствием обвинений, чистосердечное признание подследственного, обвинительное заключение, справка об ознакомлении с ним подследственного, приговор, справки об исполнении приговора (в случае расстрела) либо об отбытии в места заключения. Как видно из изученных нами источников, несмотря на то, что многие арестованные в 1930;е гг. иностранцы не владели в совершенстве русским языком, ведение протоколов допросов на родном языке в присутствии переводчика было в следственной практике НКВД 1930;х гг. исключительным явлением и имело место лишь в ходе допросов некоторых крупных деятелей Коминтерна, но практически отсутствовало в отношении рядовых инорабочих. При изучении второй группы документов следственного дела особое внимание следует уделить вопросу об авторстве источников (как правило, из материалов по реабилитации и иных источников, включая другие следственные дела, удается получить дополнительные сведения не только о самом подследственном, но и о следователе НКВД, ведущем дело). Нередко в следственном деле либо в результате изучения группы родственных по составу обвинения нескольких следственных дел (например, иностранцы с одного и того же предприятия, обвиненные в шпионаже и арестованные в близкое время) прямо или косвенно содержится информация об условиях (одиночная камера или нет, с кем вместе содержался) и месте заключения (в разное время в разных тюрьмах страны были различные условия содержания, в одних регулярно применялись физические меры воздействия для получения признательных показаний, в других это было редким явлением). Далее, на основании прямой и косвенной информации стоит попытаться хронологически реконструировать ход следствия с акцентом на изучение динамики поведения подозреваемого (существование и причины перерывов в ходе следствия, резкая смена показаний, сопоставление по времени признательных показаний или отказа от дачи показаний с применением физических и психологических мер воздействия на заключенного и др., с использованием очных ставок и зачитыванием свидетельских показаний других арестованных, отказ во время суда от признательных показаний, добытых в ходе предварительного следствия и др.).
Как правило, в отношении иностранцев выдвигались обвинения по статьям УК, предусматривающим наказание за шпионаж и контрреволюционную деятельность. Практически во всех случаях следователи стремились выяснить у иностранцев то, что априорно вызывало наибольшие подозрения: во-первых, время, причины и обстоятельства их приезда в СССРво-вторых, их связи и круг общения в рамках иноколонии в СССРв-третьих, наличие и характер продолжающихся контактов с заграницей. В силу этих причин, наряду с прямой информацией о ходе конкретного следствия, изучение нескольких десятков следственных дел дает достаточно качественную тематическую выборку с важными для социально-исторической реконструкции и, что немаловажно, доступными проверке на основании других источников (например, заводские архивы, личные дела из партийных архивов и архивов Коминтерна) обобщенными данными об обстоятельствах и причинах приезда в СССР тех или иных категорий иностранцев, а также о характере их социальных связей в Советском Союзе.
Существенную пользу в решении указанных выше источниковедческих проблем могут также оказать материалы третьей выделенной нами группы источников из следственного дела — документы, приобщенные к нему следствием. Эта категория объединяет разнохарактерные документы. Прежде всего, это источники личного происхождения: жалобы, заявления, обращения, ходатайства в разные инстанции, а также изъятые в тюрьме записки самого подследственного. В них нередко содержится важная информация о ходе следствия, об условиях содержания, о поведении следователя, не включенная в протоколы допросов. К ним по смыслу примыкают пересланные и сконцентрированные в следственных делах письма и заявления оставшихся на свободе родных и близких с просьбой сообщить о судьбе арестованного, пересмотреть приговор и др., направленные в прокуратуру, в партийные и советские органы, в адрес руководителей страны. Их цель предельно ясна: сделать все, чтобы доказать невиновность арестованного и любой ценой добиться освобождения родного человека. Как правило, авторы вольно или невольно стремятся подкупить адресата своей максимальной искренностью и правдивостью. Оттого их письма очень эмоциональны и зачастую не следуют сухому бюрократическому стилю, а носят откровенный личностный характер. Написанные в экстремальных условиях, когда решается вопрос о жизни и смерти человека, они нередко содержат такие детали и подробности судеб рядовых людей сталинской эпохи, которые невозможно встретить в иных источниках. Во многих заявлениях, кроме того, встречаются предположения и размышления биографического характера о том, что политически крамольного и преступного мог совершить в своей жизни близкий человек. Вся эта информация после соответствующей проверки, кроме прямого контекста, может быть с успехом использована в социально-исторических исследованиях, в частности, в биографической истории, семейной истории, для изучения микросюжетов и ДР.
Во-вторых, в третью группу материалов следственных дел входят полученные следователем в ответ на запросы справки, партийные и производственные характеристики арестованного, выписки из решений органов об исключении из партии, а также свидетельские показания о поведении подследственных на работе и в быту (как следует из следственных дел, свидетелями в отношении иностранцев выступали, как правило, русские — их соседи, бывшие коллега по работе и др.) Наконец, к материалам дела нередко приобщались выписки из уличающих арестованного показаний других подследственных НКВД, выдержки из сообщений сексотов и т. д.
Данные источники позволяют выйти за рамки конкретного поединка следователя и арестованного, выйти за стены одной тюремной камеры и показать социальную историю репрессий с разных сторон. Во-первых, в контексте других следственных дел НКВД в отношении иностранцев, как часть запущенного механизма репрессий. Во-вторых, в тесной связи с ситуацией на воле.
Наконец, четвертая категория материалов из типичного следственного дела иностранца — документы по реабилитации. Эти источники относятся чаще всего к концу 1950;х — началу 1960;х гг. Сюда входят разнообразные подготовительные материалы к прокурорскому протесту. Это заявления родственников с просьбой о реабилитации, справки о судьбе репрессированного в 1930;е гг., свидетельские показания, ответы на официальные запросы прокуратуры о наличии фактов преступной деятельности репрессированного иностранца из государственных, партийных, коминтер-новских архивов и архивов спецслужбданные спецпроверок на других лиц, проходивших по тому же следственному делу, информация о привлечении ведшего дело следователя к уголовной ответственности за фальсификацию дел и применение незаконных методов ведения следствия. Понятно, насколько важны материалы по реабилитации для источниковедческого анализа материалов следствия в целом. Кроме того, в ходе выяснения обоснованности обвинения и обстоятельств дел прокурорские работники допускались к информации секретных и до сих пор закрытых для посторонних глаза хранилищ.
Следственные дела — крайне важный массовый источник по советской истории. В архивах насчитываются сотни тысяч следственных дел б. НКВД на лиц, репрессированных в 1920;1930;е гг. по политическим статьям. Многие сотни из них относятся к судьбам иностранцев и имеют непосредственное отношение к теме данной диссертации. В частности, особенно существенную роль при ее написании сыграло привлечение следственных материалов на немецких рабочих В. Коха, Г. Ольриха и советского инженера М. И. Железняка, а также следственного дела немца Ф.Гайслера.
Следственые дела носят комплексный характер по видовому разнообразию источников. Они насыщены интереснейшей информацией по истории советского общества вообще, и истории иноколонии 1920;1930;х гг. в частности. Наше ознакомление с ними относится в основном к началусередине 1990;х гг., когда ученые имели сравнительно благоприятные возможности для изучения документов б.НКВД. Ныне частично переданные в ГАРФ (следственные дела на реабилитированных лиц из б. Московского управления НКВД), а большей частью продолжающие храниться в архивах системы ФСБ РФ, они, как правило, в последние годы вновь недоступны для научных целей в полном объеме121. Однако, как представляется, сложности в доступе — не единственная проблема современных исследователей. Куда существеннее заметная методическая беспомощность историков перед столь сложным и субъективным источником. Частично этим объясняется отсутствие источниковедческих и конкретно-исторических работ, предлагающих оригинальные подходы для использования следственных дел НКВД в исследовательской практике.
Следственные материалы НКВД 1930;х гг. вне всякого сомнения относятся к числу одних из самых субъективных и сложных для анализа источников, при привлечении которых особую остроту приобретает проблема достоверности содержащейся в них информации. В данном диссертационном исследовании нами был применен метод двойной перепроверки данных.
121 Для ознакомления со следственным делом в архивах ФСБ и ГАРФ необходимо представить заверенное нотариальным порядком разрешение от самого репрессированного или его ближайших родственников, либо предоставить сведения об отсутствии таковых. Поиск родных репрессированного в 1930;е гг. иностранца вдвойне труден, поскольку его родственники могут потенциально проживать как на пространствах бывшего СССР, так и за рубежом. Архив ФСБ на основании запроса может выдать исследователю краткую справку на репрессированного общебиографического характера, составленную на основании его следственного дела.
На первом этапе сведения об одном и том же факте или событии проверялись путем сопоставления показаний разных арестованных, содержащихся в различных делах, зачастую ведшихся разными следователями в разный хронологический промежуток времени. На втором этапе данные, полученные на следствии перепроверялись при помощи других источников, прежде всего, материалов госхранилищ — ГАРФ, РГАЭ, РГАСПИ, АВП РФ и Др.
Наряду с самими следственными делами НКВД, при работе над диссертацией в Архиве УФСБ МиМО нами был выявлен и впервые вводится в научный оборот другой важный комплекс источников — коллекция «альбомов» УНКВД МиМО. С августа 1937 по конец 1938 г. на местах, включая столичный регион, практиковался упрощенный, «альбомный» принцип осуждения иностранцев (как, впрочем, и советских граждан). Работники НКВД по окончании следствия сами составляли справки на каждого арестованного с предложением о приговоре (краткие биографические данные и тенденциозные «выжимки» из следственных дел в среднем по полстраницы текста). Такие справки, скомплектованные в специальный альбом, подписывались начальником УНКВД и местным прокурором, после чего «альбомы» направлялись на утверждение наркому внутренних дел и прокурору СССР. По утверждении альбомы возвращались на места, где исполнялся назначенный приговор. В архиве УФСБ МиМО нам удалось обнаружить 8 сохранившихся «альбомов» со сведениями на несколько сот репрессированных в конце 1937 — начале 1938 гг. иностранцев, в основном немцев, живших и трудившихся в Москве и области. На полях страниц «альбомов» напротив каждой фамилии указана мера наказания: «Р» (расстрельный приговор) либо срок заключения. Указанные источники, являясь своеобразной тенденциозной «выжимкой» из следственных дел, тем не менее, содержат немало ценнейшей объективной биографической информации об иностранце. Об этом свидетельствует, в частности, ознакомление со следственными делами по тем же репрессированным лицам с последующим сравнением информации из «альбома». Они играют существенную роль для решения задач биографической реконструкции и значительно расширяют наши представления о механизме массовых репрессий в отношении иностранцев в 1930;е гг.
Коллекция личных дел иноработников в заводском Фонде.
Одно из центральных мест в источниковой базе диссертации занимают фонды московского Электрозавода и его парторганизации, хранящиеся в ЦМАМ и ЦАОДМ. Они представляют собой обширный и типичный комплекс материалов о производственной и общественно-политической деятельности предприятия в конце 1920;х- 1930;е гг. В фонде Электрозавода в ЦМАМ, кроме того, сохранилась уникальная, хотя и не полная, коллекция из 144 личных дел трудившихся здесь иностранцев (материалы на русском, немецком и английском языках), объединенных в единую опись.
Вне всякого сомнения, личные дела на иноработников заводились в 1930;е гг. по единой директиве, существовали на всех предприятиях страны, где трудились иностранцы, и велись кадровиками первых отделов при активном участии заводских инобюро. Однако такого рода документы по понятным причинам не входили в номенклатуру дел, подлежащих передаче в госархивы на постоянное хранение. В военное время они уничтожались в первую очередь, но в ряде случаев сохранялись в заводских архивах, будучи не доступными исследователям. Поэтому в заводских коллекциях госархивов, судя по изученным нами фондам ЦМАМ, находятся в лучшем случае списки иностранных работников за отдельные годы с краткими биографическими и профессиональными сведениями на них122. В связи с этим обнаруженный нами и изученный комплекс личных дел иноработников столичного Электрозавода имеет уникальное значение для исследования ино-колонии в целом.
Личные дела иностранцев состоят из разнообразных материалов, позволяющих подойти к задаче реконструкции производственной и бытовой повседневности иностранной колонии, а также изучить биографии конкретных людей. Каждое дело начинается текстом трудового соглашения, на основании которого иностранец прибыл в СССР и приступил к работе. Здесь сконцентрированы также характеристики и объективки, данные о зарплате, о количестве рацпредложенийразного рода письма (в том числе и частные), а также жалобы, заявления, докладные записки, предложения иностранцев как производственного, политического, так и бытового характерадокументы о спорных вопросах и ЧП, связанных с конкретным эмигрантом и материалы расследований, разбирательств, судебные решениявизовые материалы об условиях пребывании в СССР работника и членов его семьи, а также по оформлению поездок за границу, перевозки багажа и проч. Вне всякого сомнения, личные дела иноработников Электрозавода по составу и содержанию документов можно рассматривать как типичные для иноколонии СССР в целом.
К сожалению, личные дела иноработников Электрозавода сохранились не полностью. Часть документов (и даже целых дел) была утеряна, а другая часть, возможно, изъята В результате имеет место фрагментарность. По неясным, возможно, случайным причинам одни дела, содержащие до сотни страниц документов, значительно богаче других, состоящих из нескольких листов. Кроме того, что источники ограничиваются в основном периодом первой половины 1930;х гг., некоторые дела явно не законченыпо ним невозможно выяснить дальнейшую судьбу человека (увольнение, отъезд из СССР, репрессирование). Кроме того, в коллекции отсутствуют личные дела на около 20 австрийских шуцбундовцев, прибывших на предприятие в 1934;1935 гг.
122 См. фф. 415 (ЗИС), 176 (Серп и Молот), 365 (Московский часовой завод № 1) и др.
Как правило, материалы личных дел из заводского архива не дают возможности для полноценной биографической реконструкции. Насыщенные уникальными деталями и подробностями, которые нередко сами по себе мало что дают, они начинают «играть красками» в полную силу только в сочетании с данными из других источников, в особенности — с иного рода материалами из фонда Электрозавода, с документами заводской партийной и профсоюзной организации, с документами НКВД, а в ряде случаев — в сочетании со сведениями из архивов Коминтерна и коллекцией по истории Электрозавода в ГАРФ. При этом, учитывая упомянутую фрагментарность коллекции, по некоторым персоналиям личное дело иностранца в ней может рассматриваться лишь в качестве дополнительного источника. Более подробно вопросы методики извлечения и использования сведений из личных дел иностранцев, как и проблема их информативной ценности, раскрываются ниже в связи с решением практических задач диссертационного исследования.
Существенное значение при работе над диссертацией, особенно с точки зрения решения задач биографической реконструкции, сыграло привлечение крайне слабо изученных либо недавно рассекреченных документальных комплексов, хранящихся в РГАСПИ. Это, в первую очередь, коллекции личных дел иностранцев и материалов по личному составу: 1) материалы б. Отдела кадров Коминтерна- 2) материалы по переводу проживающих в СССР членов иностранных компартий в ВКП (б) в фонде ЦК партии- 3) материалы Легитимационной комиссии МОПР по предоставлению статуса политэмигранта прибывшим в СССР иностранцам. Указанные коллекции РГАСПИ содержат однотипные документы по персоналиям, среди которых: разного рода анкеты, автобиографии, заявления, характеристики, информации, запросы, объективки, переписка по личному составу и т. п. Личные дела из данных коллекций дополняют друг друга в хронологическом и тематическом плане. Поэтому наиболее плодотворным представляется комплексный подход к этим коллекциям, позволяющий решать проблемы биографической реконструкции.
Немалое значение для решения целого ряда практических задач диссертации, особенно относящихся к первой части работы, имело привлечение и других материалов РГАСПИ, в том числе — коллекции ЦК ВКП (б), включая документы партийной переписи 1926;1927 гг., и нескольких личных фондов (особенно важен фонд Ф.Э.Дзержинского). При выяснении либо уточнении многих событий и фактов, а также в ходе решения задач биографической реконструкции нами были использованы документы из целого ряда фондов РГАЭ (в частности, Главэлектро, ВСНХ, НКТП).
Из целого ряда привлекаемых фондов ГАРФ следует выделить коллекцию материалов по «Истории фабрик и заводов» 1930;х гг. В рамках известной горьковской инициативы в начале 1930;х гг. заводским редколлегиям удалось собрать уникальные комплексы источников по социальной истории своих предприятий, включая автобиографии, дневники, стенограммы интервью и воспоминаний с работниками (в том числе с иностранцами и русскими, рассказывавшими о вкладе иноработников в соц-строительство и налаживание производства), копии утерянных ныне госар-хивных документов, оригинальные материалы из заводских архивов и др123.
Другая важная для написания диссертационного исследования коллекция документов — Инобюро ВЦСПС в ГАРФ124 — содержит разнообразные документы о жизнедеятельности иноколонии в СССР в 1930;е гг. Здесь отложились уставные, планово-отчетные документы и материалы текущего делопроизводства самого Инобюро, созданного в 1931 г. в целью координации работы с иностранными работниками советских предприятий. Значительный интерес для раскрытия темы представляют 3 крупных.
123 ГАРФ. Ф.7952. См.: Журавлев C.B. Источники по созданию «Истории фабрик и заводов» Москвы в 1931;1938 гг. Автореф. дисс. канд. историч. наук. М., 1989; Он же. Феномен «Истории фабрик и заводов»: горьковское начинание в контексте эпохи 1930;х гг. М., 1997.
124 y АРФ. Ф.5451. Оп.39. комплекса материалов, отложившихся в данном фонде. 1) Письма, жалобы, заявления иностранцев (всего несколько сот, как правило, в сопровождении русского перевода или краткой аннотации о содержании) о конкретных, в основном, негативных фактах бытовой и производственной повседневности в СССР и их предложения по улучшению ситуации. Направленные иноработниками в высокие партийные, советские, хозяйственные инстанции, в контрольные органы или редакции газет и журналов и прекрасно передающие отношение к СССР и настроения иностранцев, эти документы были спущены в Инобюро ВЦСПС для проверки сигналов и принятия надлежащих мер по исправлению недостатков. В результате в фонде, как правило, отложились как сами заявления, так и нередко документация по результатам проверки изложенных в них фактов- 2) Газетные вырезки из советских русскоязычных, а также немецкои янглоязычных газет 1930;х гг. о жизнедеятельности иностранной колонии в СССР- 3) Материалы, связанные с подготовкой и проведением ВЦСПС в 1932;1934 гг. экскурсий по Волге для иностранцев — ударников производства, включая анкеты и характеристики премированных иноударников125.
Специального разговора заслуживают источники ЦАОДМ (б.МПА), где, в частности, в фонде МК партии удалось обнаружить и ввести в научный оборот материалы немецкого коммунистического клуба и клуба ино-рабочих за 1920;е гг., включая протоколы заседаний (на немецком и русском языках). По тематике к ним примыкают обнаруженные в ЦГАМО документы иностранного отдела МОСПС, включая стенограммы и протоколы совещаний актива иноработников.
В связи с изучением миграционных процессов в 1920;1930;е гг., при выяснении роли советского внешнеполитического ведомства и его институтов в осуществлении иммиграционной политики, для выяснения судеб.
125 Подробный анализ данной группы источников см.: Журавлев C.B., Тяжелъ-никова B.C. Иностранная колония в Советской России в 1920;1930;е годы конкретных иностранных граждан, а также для прояснения реакции германских и американских властей на политическую и экономическую эмиграцию их граждан в СССР были введены в научный оборот и привлечены документы соответствующих внешнеполитических ведомств из нескольких фондов АВП РФ (фонды Консульского отдела и II-го Западного отдела НКИД), Национальных архивов США (материалы Госдепартамента126, документы и переписка американских дипломатических учреждений в Москве, Риге и Берлине127 с Госдепартаментом США) и немецкие трофейные материалы, хранящиеся в ЦХИДК (бывший Особый архив). Кроме того, среди трофейных материалов МИД Германии, посольства Германии в Москве и берлинского гестапо (фф.500, 501, 1357) оказались ценнейшие документы, характеризующие процесс реэмиграции германских граждан из СССР в 1930;е гг., а также данные о поведении возвращенцев в фашистской Германии. При этом удалось обнаружить не только обобщенные сведения, но и биографические данные на конкретных иностранцев, позволяющие более успешно решать реконструктивные задачи диссертационного исследования. Такой комплексный подход, когда миграционные процессы рассматриваются разносторонне, с использованием материалов всех вовлеченных в ситуацию внешнеполитических структур (в данном случае СССР, Германии и США), представляется принципиально важным.
Что касается Гуверовского Центра (Стэнфорд, США), то в его хранилищах были востребованы документальные коллекции американских инженеров и специалистов, работавших в СССР в 1920 — 1930;е гг. (анкетно.
Постановка проблемы и методы исследования) // Отечественная история. 1994. № 1. С. 179−189.
126 NA. Decimal Files. Т. 1249. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of the Soviet Union. 1930;1939.
127 NA. Record Group-84. Материалы Посольства США в Москве 1930;х гг. погибли во время войны, в коллекции Госдепа сохранилась только переписка и отчетная документация. До установления дипотношений и организации в 1934 г. посольства консульские функции, связанные с эмиграцией, выполняли в основном американские представительства в Берлине и Риге. биографические материалы, частная переписка, наброски воспоминаний и текстов выступлений о работе в СССР, фотографии, копийная проектно-техническая и делопроизводственная документация, газетные вырезки и проч.) Существенное значение имело также изучение некоторых документов по теме в Бахметьевском архиве Библиотеки Колумбийского Университета (Нью-Йорк). По смыслу к указанным комплексам архивных документов примыкают использованные при написании диссертации воспоминания иностранцев о жизни и работе в СССР в конце 1920;х — 1930;е гг., представляющие самостоятельную группу источников. Опубликованные в основном на Западе и остающиеся малоизвестными отечественным специалистам, мемуарные источники содержат немало интересных подробностей о советской действительности. Являясь также важными источниками автобиографического плана, они требуют тщательного критического анализа с использованием других категорий источников, поскольку не только отражают субъективное восприятие автора и естественные дефекты памяти, но и зачастую страдают политической тенденциозностью. Особенно ярко это проявилось в отношении мемуаров американского рабочего СТЗ, а затем столичного ГПЗ-1 Роберта Робинсона, некоторые эпизоды из которых нам удалось перепроверить по советским и американским архивам128. Это же относится к воспоминаниям Томаса Сговио129, со следственным и тюремным делами которого нам удалось ознакомиться соответственно в ЦА ФСБ РФ и ЦА МВД РФ.
Наряду с госархивными документами, крайне важными источниками диссертационного исследования стали материалы «устной истории» — собранные нами интервью с очевидцами событий и родственниками проживавших в СССР иностранцев (с их помощью нам стали доступны и такие.
128 Robinson, Robert. Black on Red. My 44 Years Inside the Soviet Union (Wash. DC, 1988).
129 Sgovio, Thomas. Dear America! The Odyssey of an American Communist Youth, Who Miraculously Survived the Harsh Labor Camps of Kolyma (New York, 1979). уникальные источники, как ранее не использовавшиеся в научных целях документы частных семейных архивов). В первую очередь речь идет о семейном архиве Григорьевых-Цинт, о любезно предоставленной Н. С. Мусиенко возможности использовать некоторые материалы переписки с иностранцами из ее личного архива, а также о серии записанных автором в 1994;1998 гг. в Москве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Стэнфорде интервью: с дочерью работавшего на столичном Электрозаводе инженера М. И. Железняка — Индебор Моисеевной Железняк, с дочерью Джона Пеп-пера (Йожефа Погани) Вероникой Джоновной Пеппер-Погани, с К. П. Иванцовой, с жильцами «немецкого» дома по ул. Матросская тишина в Москвес приехавшими в СССР и работавшими в 1930;е гг. на ЗИСе Луисом Богартом, на ГАЗе — Виктором Райтером, а также с американцами Морисом Гершманом и Томасом Сговио, подростками прибывшими в СССР в начале 1930;х гг. с родителями-коммунистами и поделившимися своими воспоминаниями о советской бытовой и производственной повседневности.
Среди других источников диссертации следует обратить внимание на широко использовуемые в ней материалы периодической печати разного уровня (многотиражные издания предприятий, ведомственные издания, региональные и центральные газеты на русском и иностранном языках), на справочно-биографические издания, а также на синхронные издания и брошюры 1920;1930;х гг. Справочно-биографические издания, вышедшие в Германии, помогают выполнять важную функцию по идентификации персоналий в ходе биографической реконструкции, а также в ряде случаев существенно дополняют известные из советских источников биографические данные. Речь идет, во-первых, о подготовленном фашистскими спецслужбами в конце 1930;х гг., в связи с подготовкой вторжения в СССР, и давно ставшим раритетом справочнике на находящихся в СССР лиц, представляющих опасность для фашистского режима130. Систематизированный в алфавитном порядке, справочник включал краткие сведения на тысячи проживавших в СССР коммунистических активистов, симпатизирующих СССР немецких рабочих и членов их семей (фамилия и имя, место и год рождения, партийность, профессия, последнее место работы в СССР). Судя по стравочнику, на каждого из упомянутых в нем лиц имелись персональные досье в архиве РСХА. С немецкой пунктуальностью все фигуранты были разбиты на несколько категорий: лица, подлежащие уничтожениюподлежащие заключению в лагерьподлежащие дополнительной проверке с возможностью перевербовки. Наряду с этим справочником, с целью уточнения и дополнения сведений в ходе биографической реконструкции нами были использованы и некоторые другие справочные издания, изданные в России и Германии в более позднее время в связи с созданием мартирологов репрессированных131.
Что касается используемой в диссертации периодики, то некоторая часть газетных вырезок, относящихся к проблеме трудовой деятельности иностранцев на предприятиях СССР в 1930;е гг., была обнаружена в фонде Наркомата труда СССР (Ф.5515) в ГАРФ. Как и просмотренные нами подшивки многотиражки столичного Электрозавода, англоязычной MDN и немецкоязычной DZZ, они содержат массу корреспонденции с мест, рисующих яркую, насыщенную фактами картину ситуации в разных уголках СССР и отношения иностранцев к советской действительности. Благодаря.
130 Roeder, Weiner (Hg.) Sonderfahnungsliste UdSSR. Faksimile der «Sonderfahmingsliste UdSSR» des Chefs der Sicherheitsplizei und des SD, das Fahndungsbuch der deutschen Einsatz’gruppen im Russlandfeldrug 1941 (Erlangen 1977).
131 Бутовский полигон 1937;1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. Вып.2. М., 1998; Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД «Объект Бутово», 8.08.1937 — 19.19.1938. М., 1997; In den Fangen des NKWD. Deutsche Opfer des Stalimstischen Terrors in der UdSSR (Berlin, 1991) — Weber H. «Weisse Flecken» in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinistischen Sauberungen und ihre Rehabilitierung. 2 Anlage (Frankfut a/M., 1990). в том числе материалам периодики, мы можем судить, в какой степени процессы и явления, зафиксированные на микроуровне, на примере ино-колоний конкретных предприятий, были уникальными или характерными для других заводов и регионов СССР. Тем самым периодика представляется важнейшим источником для контекстной проработки диссертационных задач, а также в связи с необходимостью наведения связей на микрои макроуровнях.
Существенную помощь в работе над диссертацией оказали синхронные издания 1920;1930;х гг., в особенности относящиеся к жизнедеятельности иноколонии в СССР. Написанные в пропагандистском ключе ино-рабочими или от их лица, они, тем не менее, прекрасно отражают атмосферу соцстроительства и насыщены биографическими данными, подробностями трудовой активности в СССР. Нуждающиеся в тщательной проверке, в комплексе с архивными источниками, материалами периодики и интервью они представляют исключительный интерес. В качестве широко используемого ниже примера такого рода синхронного издания стоит упомянуть о брошюре «Берлинские пролетарии рассказывают» (М., 1933), посвященной жизнедеятельности немецкой колонии Электрозавода в период конца 1930 — начала 1933 г. Она была написана трудившимися в это время на заводе немецкими рабкорами Э. Виттенбергом, Э. Матте и Ф. Позе и представляла собой яркий образчик пропагандистского издания, ведшего заочную полемику с критиками СССР и рассчитанного на то, чтобы, используя форму яркого рассказа от первого лица, убедить германских рабочих в преимуществах жизни в Советском Союзе. Не случайно эта брошюра была параллельно с переводом издана в оригинале, на немецком языке в Германии, вызвав ожесточенную полемику и сделав в одночасье знаменитым не только сам Электрозавод, но и действующих лиц брошюры — иностранных рабочих, приехавших в СССР. Несмотря на очевидно заказной характер, она содержит немало интересных бытовых и производственных деталей и подробностей, в основе которых безусловно лежат воспоминания.
103 Часть I.
ИММИГРАЦИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ. ВОПРОСЫ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ.
Результаты исследования выходят за рамки темы «Иностранцы в Советской России в 1920;1930;е гг.» Сквозь призму опыта социальной категории иностранцев, живших и трудившихся в СССР, предпринята попытка показать разные стороны советской действительности межвоенного времени в динамике. Наряду с этим, как представляется, проведенная работа способна внести посильный вклад в разработку методических и источниковедческих вопросов по широкому спектру проблематики советского периода. Исследование подтверждает, что чем более разнообразным будет методико-источниковедческий инструментарий специалиста, тем обширнее открывающиеся возможности для приближения к пониманию объективного содержания исторических явлений и процессов.
Значение и выводы диссертационного исследования по целому ряду параметров выходят за рамки поставленных в нем источнико-методических задач, имея более общее принципиальное значение для изучения советской истории. В частности, диссертация со всей остротой ставит в повестку дня необходимость и доказывает на конкретном примере изучения иноколонии продуктивность интеграции социальной истории и источниковедения, а также важность приближения источниковедения к решению насущных задач современной исторической науки. Проблематика и сам ракурс социальной истории ставит перед источниковедением советского общества це.
582 лый ряд новых вызовов. Прежде всего, необходимость определить источниковедческую базу по советской социальной истории с учетом специфики ее задач и сферы применения, в том числе: выявить и изучить типичные источники, пригодные для микроисследований, для семейной и биографической истории, для анализа многогранной советской повседневности, для изучения ситуационной и поведенческой истории, а также крайне важной для понимания советской эпохи проблематики истории эмоций и т. д. Очевидно, что потребуется переоценка и существенное расширение источни-ковой базы по истории советского общества, в том числе за счет малоизученных источников, включая ставшие основой настоящей диссертации. Речь идет о переносе исследовательского фокуса с документов центральных госучреждений к региональным материалам и документам «низового» уровня, к материалам «устной истории», к документам из частных и семейных архивов, к источникам личного происхождения и личным делам, судебно-следственным и иным материалам. Соответственно, потребуются исследования, посвященные их месту в кругу других источников и специфике источниковедческого анализа этих групп документов.
АВП РФ.
Архив РАН АТЭ завод, отдел).
БРИЗ.
БЮРЭЛ.
ВСНХ (В)ЦИК.
ВЦСПС вэо.
ГАЗ.
ГАРФ.
ГОЭЛРО.
ГПЗ-1.
ГУЛАГ ГЭТ ВСНХ.
ДИП, бригады ЗИС (AMO) ЗРК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Постоянное совершенствование арсенала познавательных средств историка с учетом новых тенденций в отечественной и зарубежной историографии — настоятельная потребность современной науки, отличающейся все более высокой степенью интернационализации и интеграции знания. Результаты проведенного диссертационного исследования убеждают в значимости и перспективности использования социально-исторического подхода для изучения широкого спектра проблем советской истории, а в связи с этим — в особой актуальности на данном этапе углубленного изучения комплекса специальных методических и источниковедческих вопросов. По нашему мнению, социальная история, обогащенная новейшими источниковедческими и методическими разработками, благодаря ракурсному своеобразию и включению в исследовательский спектр новой тематики, способна привести к настоящим прорывам в представлении о прошлом.
Определяя «большие» и важные историографические проблемы, историки зачастую исходили из господствовавших методологических и идеологических установок о первостепенности исследования тех или иных сюжетов. С течением времени в рамках традиционалистского взгляда на прошлое сложилась даже своеобразная «шкала исторических приоритетов». К сожалению, в ней почти не находилось места для социально-исторических работ, в центре внимания которых — изучение рядового человека, его семьи и окружения, бытовой и производственной повседневности, малых социумов — то есть тех элементарных ячеек, которые образуют сложный общественный организм вкупе с многообразием социальных связей. Изученные в работе материалы подтверждают, что одним из слабых мест историографии, определивших ее современное кризисное состояние1, является многолетнее увлечение глобальными процессами, в значительной степени формализованными и унифицированными, в ущерб изучению глубинных явлений по всей широте «исторической лестницы». Между тем, как становится все более очевидным, своеобразие истории состоит в стремлении осмыслить реальную социальную практику прошлого в присущем ей многообразии, причем ее опыт не может быть понят только через глобальное, массовое и повторяющееся. Полученные нами результаты свидетельствуют, что подчас социальная практика ярче всего раскрывается именно через дискурсы уникально-индивидуального либо обыденно-повседневного, которые, как правило, слабо отражены в традиционных источниках и требуют тщательной дискурсивной проработки. В диссертационном исследовании на практическом материале подтверждается теоретический постулат о том, что осмысление глобальных явлений и исторических процессов возможно только с учетом того, что реализоваться они могут лишь опосредованно, в индивидуальном, через человеческую деятельность. Но как именно? В связи с этим вопросом особую значимость приобретает исследование объективных и субъективных обстоятельств «вмешательства» человека в ход событий. В этом смысле данная работа впервые применительно к советской историографии сталинского периода выводит указанные теоретические наработки в практическую плоскость, что особенно существенно в условиях распространенности в историографии концепции тоталитаризма, отрицающей за рядовой личностью роль заметного игрока на историческом поле.
Полученные нами результаты свидетельствуют о перспективности изучения советской истории с позиций микроподходов, в значительной степени обеспеченных, как показано в исследовании, необходимыми источниками и методической базой. Очевидно и то, что в силу социально-исторической родственности, микроистория и биографическая история, а также история повседневности и др. направления заинтересованы в одном и том же круге источников.
1 Несмотря на дискуссии отечественных и зарубежных историков о глубине и ха.
Большое всегда вырастает из малого, доставляя, правда, специалисту несравнимо больше «хлопот». Чем «ниже» спускается историк из виртуальной научной лаборатории, с четко очерченным понятийным аппаратом и аксиомами из учебников, в лабиринты реального прошлого, тем чаще ему приходится убеждаться, как плохо здесь действует «компас» из классического набора знаний, создающий в значительной степени искаженную картину. На его пути вместо известных вождей и героев встречаются по большей части незнакомые обычные люди и относящиеся к их жизнедеятельности, на первый взгляд, разрозненные детали и подробностиздесь куда больше места субъективному и случайному, эмоциям, ЧП и казусам. Кроме того, «малое», как правило, не лежит на поверхности, не бросается в глаза (зачастую оно вообще не различимо невооруженным глазом и представляет собой скрытую часть «айсберга истории»), значительно хуже отражено в источниках, быстрее стирается из человеческой памяти и, наконец, часто не вписывается ни в какие общепринятые концепции и схемы, подпадая под категорию «уникального», вокруг которой специалисты уже давно скрестили шпаги. Все сказанное не означает стремление автора к абсолютизации микроистории, биографической истории и социально-исторических подходов в целом. Трудно оспаривать, что без учета «большого» и типического невозможно в полной мере проанализировать «малое» и уникальное, в том числе и потому, что любая попытка осмыслить индивидуальный казус невольно требует «вписать» его в более общий контекст, соизмерить с окружающим миром. Таким образом, в «исторической природе» — что мы и пытались продемонстрировать в диссертационном исследовании — всегда существует своего рода баланс микро-и макрокосмов, в принципе органично дополняющих друг друга. По этой причине господствовавший до последнего времени в отечественной историографии принцип разделения на заведомо приоритетные (как правило, глобальные) проблемы и «мелкотемье» не выдерживает критики. По большому счету, значение данного исследования видится и в том, чтобы способствовать гармонизации историографической ситуации путем привлечения внимания к актуальности социально-исторических исследований, демонстрации на практике плодотворности их методов и приемов для расширения и — в особенности — известного «децентрирования» общего, «исторического поля». Нельзя отрицать, что такая гармонизация ведет к пересмотру или существенному смещению акцентов в представлениях о советском прошлом, в частности, о роли в нем «маленького человека», частной сферы и малых социумов, повседневной жизни, о соотношении общества и государства, закономерного и случайного факторов и т. д. Особый социально-исторический ракурс, представленный в исследовании, заключается в том, что в центре его находятся не безликие традиционные дискурсы «экономика», «политика», «культура», «ментальность» и др., а конкретные рядовые люди, так или иначе рассказывающие о своей жизни, выступающие актерами на исторической сцене, действующие в зависимости от складывающихся конкретных ситуаций, обстоятельств и собственных представлений. С помощью варьирования методами микроанализа, биографического подхода, case-studies и др. нам на практике удалось не только реконструировать судьбы конкретных индивидумов — иностранцев и советских людей из их окружения, но и проследить в динамике за их поведением, условиями и особенностями жизнедеятельности, а также изучить, как эти индивидумы воспринимают различные стороны советской действительности, в том числе — как интерпретируют — словом или действиемобщие экономические, идеологические, культурные установки и условия 1920 — 1930;х гг. применительно к тем обстоятельствам, в которых они лично оказались. Таким образом, микроанализ и биографический анализ играют в нашем исследовании роль реального познавательного средства, принципиальная возможность чего до недавнего времени оспаривалась на теоретическом уровне2. Одновременно опровергается и мнение скептиков о том, что в силу плачевного состояния источниковой базы добиться деталь- ! ной реконструкции биографии конкретного «маленького» человека практически невозможно.
Одним из основных в работе над диссертацией стал метод биографической реконструкции, позволивший сконцентрировать внимание на углубленной источниковедческой проработке сведений биографического характера об иностранцах и советских гражданах из их окружения. Такой подход, на наш взгляд, особенно важен в условиях широкого распространения литературной обработки биографий, когда документированный факт перестает быть отличимым от вымысла. При этом, благодаря применению указанного метода, центральное место в работе отдано рядовой личности, остающейся при традиционном исследовательском подходе, как правило, безымянной и не востребованной. Отсюда — необычный охват сюжетов исследования, вытекающий не из субъективных авторских представлений, а из реальной жизни, предварительно реконструируемой на основе комплексного использования разнотипных источников. В результате анализируемые в диссертации проблемы сами как бы «высвечиваются» из документов. Они — не плод фантазии историка, а то, что действительно волновало тогда людей и что одновременно являлось значимой частью их повседневной жизни. Благодаря такому подходу и социально-историческим методикам, в диссертации показано то, что чаще всего не удается проследить в традиционных исследованиях — как в реальной жизни, в судьбах конкретных людей переплетаются разные начала «большого» и «малого», как «уживались» между собой и преломлялись в жизнедеятельности рядовых.
2 С данной программой «другой социальной истории», подвергнутой критике многими специалистами, выступил французский историк Бернар Лепти, начинавший работать в рамках школы Анналов {Lepetit, Bernard. Histoire des pratique, pratique de Г histoire // Les formes de ?'experience. Une autre histoire sociale sous la direction de Bernard Lepetit (Paris, 1995). P.9−22). людей также составляющие послереволюционной эпохи, как моральные нормы, идеология и «безыдейный» технологический прогресс. При этом в центре внимания оказались особенности социальной организации на «нижних этажах» общества, где наиболее рельефно проявлялась противоречивость процессов и на которых под влиянием многих обстоятельств вызревали тенденции, которые подспудно, прямо или косвенно определяли общие векторы развития страны.
Одним из выводов исследования следует считать плодотворность и перспективность соединения микроподходов с биографической или персональной историей в тесной увязке с введением в оборот новых источников и углубленным вниманием к источниковедческой проблематике в целом, включая методы анализа привлекаемых источников. Как подтверждает опыт проведенной работы, современная микроистория не приемлет апологетику «типизированных» или «коллективных» биографий, получивших широкое распространение в советской историографии. Огромный интерес к микроистории, наметившийся в последнее время, настоятельно требует «второго рождения» биографической истории — одного из древнейших жанров историописания, который должен быть индивидуализирован, предельно документирован и отражать по возможности все стороны жизни личности. Главной задачей новой биографической истории, по нашему мнению, является документальная реконструкция «истории одной жизни», причем судьбы конкретных индивидов выступают одновременно и как основная цель исследования, и в более широком ключе — как адекватное средство познания исторического социума, в котором индивид существует, и др. То есть речь идет об изначально заданной установке на выявление и «вписывание» биографии в более общий исторический контекст, на выход через микроисторию и биографическую историю в макроисторическое пространство. Именно в таком ключе решены биографические сюжеты в. данном исследовании, в результате чего оно оказалось насыщенным «живыми голосами прошлого», многие из которых переходят из периода в период, из главы в главу, становясь «стержнем» и главными героями повествования. Это относится к таким «рядовым» по историческим меркам, но на самом деле неординарным личностям, отразившим характерные черты эпохи, но, к сожалению, незаслуженно забытым, как инженер М. И. Железняк, Г. И. Семенов (благодаря документальной реконструкции его биографии, в связи с нацеленностью на поиск более широкого исторического контекста, удалось одновременно решить дискуссионный вопрос о тайне покушении эсеров на В. И. Ленина в 1918 г.), немецкие рабочие В. Кох, Г. Ольрих, Ф. Гайслер, работница Электрозавода Анастасия Абрамова (Кох) и многие другие. Характерным отражением такого нового подхода к биографической истории являются и разделы диссертации о членах семей Бандш, Шмидт, Гут, Цинт, о Кохе и его окружении.
Введенные нами в научный оборот массивы источников позволили перенести в практическую плоскость многочисленные дискуссии последних лет по такой острой теме, как соотношение микрои макроанализа для изучения прошлого, в том числе в плане интерпретации конкретных ситуаций и возможности их инкорпорирования в более широкий исторический контекст. Из исследования, в частности, видно, насколько относительным является разделение на микрои макрообъекты. Очевидно, что в зависимости от ракурса и конкретных исследовательских задач, тот же самый предмет может рассматриваться как объект и микро-, и макроистории. Более того, известная парадоксальность ситуации заключается в том, что, как фотограф, нацеливая «объектив» своего исследовательского интереса на определенный микрообъект, историк всеми средствами пытается путем фокусировки «увеличить» масштаб и добиться четкого изображения, превращая его тем самым на время в макрообъект по сравнению с иными, «не попавшими в объектив» или оказавшимися на заднем плане предметами. Периодически перенося в ходе исследования «фокус объектива» на разные объекты исследования, историк тем самым субъективно меняет знаки макрои микрообъектов. Этот феномен относительности представлений о микрои макроистории автор в полной мере испытал в ходе работы над диссертацией. В этой связи существенным ее результатом представляется попытка выстраивания и наведения многочисленных связей (смысловых, ситуационных и др.) и «мостков» как между разными этажами самого микро-, так и микрои макро проблематикой работы, почти невидимых из-за своей контекстной органичности внутри описательного повествования. Речь идет о построении и исследовании, в частности, в разделах по истории иноколонии Электрозавода, реальной, основанной на источниках интегральной социально-исторической конструкции, охватывающей одновременно большую группу индивидумов, семью, друзей, соседей по дому, национальный, профессиональный, производственный и партийный коллективы, локальную общность в рамках заводской иноколонии, разбитую на микрогруппы, характера и направленности общественных и производственных связей на городском уровне, зависимости «маленького человека» от политических и экономических макропроцессов или даже их фрагментов в стране и за рубежом (идеи мировой революции, миграционные процессы, индустриализация в СССР и экономический кризис на Западе, приход к власти Гитлера, условия карточной системы, сдвиги в духовно-мировоззренческой сфере, массовые репрессии и т. д.) Таким образом, в нашей работе на материале советской истории предпринята практическая попытка реализации синтетической программы социальной истории по «инкорпорации повседневной жизни в бурные воды исторического процесса», о чем писал известный специалист Ч. Тилли как об одной из актуальных историографических задач3.
В исследовании эмпирически, на материалах иностранной колонии, подтверждается тезис о множественности дихотомии «мы» и «они», рассматриваемой под призмой существовавших в сталинском обществе социальных противоречий. Так, иностранцы, среди которых большинство со.
3 Tilly, Charles. Retrieving European Lives // Reliving the Past. The Worlds of ставляли коммунисты, наиболее болезненно воспринимали существовавшие в советском обществе факты социальной стратификации и несправедливости, привилегий, бюрократизма и волокиты. На основании источников удалось выявить противоречия между советскими гражданами и иностранцами, внутри же иноколонии прослеживается разделение по национальному, партийному, поло-возрастному признаку, по принадлежности к определенной квалификационной (иноспециалисты, инорабочие) и эмигрантской категориям (политические, экономические эмигранты и др.), по наличию привилегий, включая валютную часть заработка. Как показано в работе, без учета суммы общих интересов и указанных противоречий невозможно разобраться в жизнедеятельности иноколонии. Вместе с тем, на микроуровне на примере изученных социумов не подтверждается вывод Сары Дэвис и некоторых других авторов о том, что центральное социальное противоречие в 1930;е гг. проходило по линии обладания властными функциями (дихотомия «мы» — народ, «они» — власть)4.
Нетрудно заметить, насколько значимой частью исследования является ситуационная история. И это не случайно. Полученные нами результаты свидетельствуют, что за ситуационным подходом к изучению истории советского общества большое будущее. Дело в том, что действия и поступки людей в конкретных, часто неожиданных и экстремальных ситуациях нарушали искусственную «гармонию общества и человека в футляре», обнажали вольно или невольно скрытые процессы в социуме, вынужденном приспосабливаться к идеологической цензуре (и к необходимости самоцензуры и самоконтроля), привыкать к двойным стандартам и конформизму. В этих условиях, как показывает опыт данного исследования, через детальный анализ отраженных в источниках конкретных нештатных ситуаций, поступков, ЧП, как правило, связанных с эмоциональным стрессом,.
Social History / Ed. by O. Zinz (Chapel Hill-London, 1985). P. 11−52.
4 Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin’s Russia. Terror, Propaganda, and Dissent, 1934;1941 (Cambridge, Mass., 1997). P.3−4. когда человек невольно «обнажался», есть возможность,, отследить даже то, что в обычных условиях тщательно скрывается либо вообще остается не документируемым и не отраженным в источниках. Вполне оправданным в таком случае кажется и тот акцент, который сделан в работе на выявление познавательных возможностей зафиксированных в источниках уникальных либо нештатных ситуаций (будь то шпионская операция «вольфрам» с участием немецких рабочих, «дело Вурцеля» или описание комиссией обстановки квартиры Путцке).
С учетом историографических дискуссий, немалый интерес может вызвать и намеченный в диссертации и в значительной мере реализуемый именно через ситуационную и биографическую историю подход к изучению советского общества с точки зрения истории эмоций. Актуальность этой проблематики исходит из известного теоретического посыла о том, что значимые социальные сдвиги, которыми было особенно богато межвоенное время (войны, революции, ускоренная модернизация и индустриализация, массовые миграционные процессы, репрессии и др.), сопровождались заметными всплесками эмоциональных состояний, выступавшими значимыми историческими факторами. Введенные в научный оборот документы по истории иностранной колонии свидетельствуют о принципиальной возможности исследования истории эмоций на микроуровне, для чего апробирована соответствующая источниковая и методическая база.
Полученные результаты подтверждают плодотворность дискурсивного подхода к изучению советской истории. При этом обращено внимание на необходимость расширения круга дискурсов. В частности, в данной работе советская повседневность, включая период массовых репрессий, исследуется в том числе через такие понятия морально-эмоционального плана, как «выбор», «идеалы», «любовь и дружба», «верность», «предательство» (в том числе — применительно к семейной и биографической истории).
Источники, изученные в ходе исследования, позволили внести свою лепту в многолетнюю дискуссию о том, от чего в большей степени зависит поведение человека в конкретной ситуации: от личностных или групповых установок?5 В данной работе иностранец показан одновременно с самых разных сторон и в различных системах координат — как член иностранной колонии — специфической части советского общества, принадлежащий к определенной национально-культурной, профессиональной, партийно-политической, поло-возрастной категориям, как член коллектива бригады и цеха, как член семьи, в кругу друзей, наконец, как индивид. Из множества социальных факторов, определявших поведение и поступки иностранцев в СССР, нельзя не выделить интересы семьи, стоявшие, как правило, на первом месте. Неожиданным можно признать и вывод о том, что для рядовых инорабочих-коммунистов существенную роль играл не только фактор партийной дисциплины, но и национально-патриотические чувства. Национальные проблемы и различия оказались вообще намного более существенными, чем ожидала советская пропаганда, уверенная, что передовой пролетариат Запада интернационален по своей сути. Это было в большей степени верно в отношении американцев — страны эмигрантов, и в значительно меньшей степени в отношении европейцев, особенно, немцев.
В работе предложен и на конкретном материале реализован комплексный подход к исследованию. Он заключается в том, чтобы получить качественно новое знание с помощью одновременного применения методической и источниковедческой «атак» для решения задач исторической реконструкции. Речь при этом идет не об искусственном «нагромождении» источников, источниковедческих методик и социально-исторических приемов, а о тщательном поиске и апробации их оптимального сочетания, в зависимости от конкретных исследовательских задач. Полученные результаты.
5 Имеется в виду прежде всего концепция известного французского социолога Э. Дюркгейма об основополагающем воздействии на индивида и его ментальные установки той социальной, особенно — социально-профессиональной группы, к которой он принадлежит, подвергнутая критике многими современными микроисториками, в том числе Л. Тевено, Л. Болтански и др. убеждают, что наибольший прогресс обеспечен там, где историк выходит I на уровень синтетического знания.
Диссертационное исследование основано на архивных документах, впервые вводимых в научный оборот, включая рассекреченные коллекции ФСБ. Данное обстоятельство вкупе со специальными источниковедческими задачами работы определило особую актуальность решения комплекса источниковедческих проблем, наиболее существенными из которых явились вопросы выявления либо создания (в форме интервью) адекватных источников, изучение авторства, датировки, обстоятельств возникновения источников, достоверности сообщаемых ими сведений, степени новизны и информативной ценности, их места в кругу других материалов, а также репрезентативности привлекаемого источникового массива для решения поставленных исследовательских задач. Значительная часть указанных источниковедческих проблем решалась в предварительном порядке и в тексте представлены в основном результаты этой части работы. Выбор целей и задач диссертации, делающей акцент на документальной реконструкции прошлого, потребовал привлечения широкого круга разновидовых и разно-типовых источников из российских и американских архивов, а также германских трофейных документов. В результате в работе оказались широко представлены такие разноплановые материалы, как делопроизводственные документы разного уровня — от исполкома Коминтерна, ЦК ВКП (б), наркоматов, центральных и региональных силовых структур — до архивов заводов и их цехов, общественно-политических клубовличные и персонифицированные следственные дела, а также частная переписка, воспоминания, анкетно-биографические данные, материалы авторских интервью, периодическая печать и синхронные публикации, фотоиллюстративные источники и т. д. Понятно, что одним из наиболее сложных оказалось изучение сопряженности информации разных источников и заполнения информационных лакун. Наличие корпуса документов на 3-х языках осложняло решение этих задач. Одним из выводов исследования является то, что в исследовательской практике нет и не может быть абсолютно универсальных подходов и методических наработок. Набор источников и методов анализа должен быть в каждом конкретном случае адекватен поставленным задачам и гибко меняться в зависимости в том числе от разного ракурса рассмотрения одного и того же предмета. По нашему мнению, одномерный взгляд постепенно уходит в прошлое и именно «объемное видение» объекта, стремление и умение изучить его с разных сторон и позиций, варьируя при этом источники и методики, следует признать настоятельной потребностью сегодняшнего дня. Другим важным выводом можно считать то обстоятельство, что наиболее существенные научные результаты могут быть достигнуты в том случае, когда «объемное видение» социального объекта не ограничивается одномоментной фиксацией, а по возможности отслеживается в условиях континуитета, что добавляет к ««плоскостному» или ракурсному разнообразию — временную динамику, создавая более сложную и динамичную систему координат. В связи с этим в современных условиях к историку должны предъявляться повышенные требования с позиций универсализма — от глубокого знания разных периодов истории, овладения разнообразием методического инструментария и приемов источниковедческого анализа — до основательной языковой и архивоведче-ской подготовки.
В процессе исследования, в связи с апробацией методов и приемов анализа разных типов источников, со всей очевидностью определилась необходимость особого подхода к таким сложно структурированным и комплексным материалам, как периодическая печать, а также личные и следственные дела. Последняя категория, имеющая, по нашему убеждению, важнейшее значение для исследования советской социальной истории, разработана крайне слабо. Раскрытие богатства ее информационного потенциала и «вписывание» в общий источниковый контекст остаются в числе перспективных задач. На основании данной диссертации можно сделать вывод о перспективности параллельного подхода, когда ведется одновременное изучение и следственного дела как такового, и составляющих его разнотииовых источников с варьированием методических аналитических наработок. В качестве примера высокой результативности такого приема можно указать на проведенный источниковедческий анализ следственного дела Коха, Ольриха и Железняка, когда, используя многообразие методических приемов, удалось выявить и перепроверить информацию об их окружении, о степени разветвленности и характере социальных связей, а также биографические данные, обстоятельства иммиграции немцев, сведения о личной жизни, трудовой и общественной деятельности.
Особенность данного исследования заключается в том, что оно построено почти исключительно на документах, впервые вводимых в научный оборот. Это относится как к архивным коллекциям, так и к малотиражной периодике, а также — к материалам оригинальных авторских интервью. Они призваны не только в известной степени заполнить информационные лакуны, но и в полной мере использовать уникальные информативные преимущества интервьюирования непосредственных очевидцев и участников описываемых событий, в частности, для выявления и демонстрации тех деталей повседневности, которые по определению не могли быть отражены в иных типах источников. Тем самым в исследовании в практическом и методическом плане доказывается, насколько важно не ограничиваться архивной или опубликованной источниковой базой, а использовать все возможности для максимального ее расширения.
Одним из ключевых источников исследования явился комплекс личных дел иноработников московского Электрозавода, на базе которых производилась апробация разнообразных социально-исторических методик и была в значительной степени реконструирована жизнедеятельность этого социума. Выступив методическим «полигоном», эта коллекция одновременно продемонстрировала свои богатые и разноплановые информативные возможности, заставляя обратить самое серьезное внимание на нее, а также на до сих пор практически не востребованный социальными историками потенциал аналогичных комплексов личных дел. Личные дела иностранцев, трудившихся на советских предприятиях представляют собой комплексный источник, отличающийся даже большим разнообразием, чем привлеченные в процессе работы над диссертацией личные дела иностранцев из архива Коминтерна и партархивов. Как показывает опыт проведенной работы, за счет наличия в заводских коллекциях хозяйственно-бытовых и производственных материалов, историк получает редкую возможность детальной реконструкции производственной и бытовой повседневности.
Наряду с материалами заводских архивов, впервые в столь широком объеме для решения задач социально-исторической реконструкции в работе использованы материалы спецслужб. В первую очередь это следственные дела иностранцев, репрессированных в 1930;е гг. Раскрывается их синтетический характер, выявляются способы извлечения информации из хранящихся в делах протоколов допросов, справок на арест, анкет и характеристик арестованных, автобиографий, заявлений и писем, донесений секретных сотрудников и т. д. При этом по понятным причинам упор делается не только на изучение информативной насыщенности этих источников в ряду других, но и на методах критического анализа материалов следствия с учетом возможных оговоров и фальсификаций. В работе предложена и реализована методика двойной перекрестной проверки сведений, почерпнутых из следственных дел — с помощью информации других типов источников, а также данных следственных дел других арестованных, допрошенных автономно о том же факте или событии. Стоит заметить, что следственные дела арестованных, как и привлекаемые тюремные дела заключенных, хранящиеся соответственно в архивах системы ФСБ и МВД, относятся к числу коллекций, во введении которых в научный оборот крайне заинтересовано научное сообщество. Нами впервые вводятся в научный оборот и обнаруженные в архиве УФСБ МиМО «альбомы» со сведениями на несколько сот репрессированных в конце 1937 — начале 1938 гг. иностранцев и советских граждан, живших и трудившихся в Москве и области. Их изучение позволило прийти к следующим важным выводам о размерах и характере репрессий среди иностранцев в конце 1930;х гг.:
1. Наряду с массовыми арестами иностранцев, трудившихся на оборонных заводах, что уже известно из литературы, в 1937;1938 гг. были арестованы иноработники и других промышленных предприятий Москвы и области, а также иностранцы, работавшие в подмосковных МТС, колхозах и совхозах и не имевшие к оборонному ведомству никакого отношения.
2. В Москве сотрудниками НКВД были сфабрикованы дела об отдельных шпионских организациях иностранцев по крайней мере на Станкозаводе, Автозаводе им. Сталина, ГПЗ, заводе в Филях, — т. е., как правило, на тех крупнейших заводах, где действительно трудилось много иностранцев. По месту работы иностранцев, указанному в «альбоме», прослеживается и «география» репрессий в отношении иностранцев, и их масштабы на тех или иных предприятиях, а также зависимость между биографией иностранца и характером предъявленных ему обвинений, с одной стороны, и мерой наказания, с другой. Из документов видно, что репрессии далеко не всегда поддаются логике. На практике их масштабы и характер зависели от множества случайных и субъективных обстоятельств, включая личности начальников райотделов НКВД и следователей, от времени ареста, места заключения и т. д.
3. Наличие на предприятии значительной иноколонии, и особенно работающих политэмигрантов, было «фактором риска» и для советских рабочих, поскольку при фабрикации группового дела сотрудники НКВД стремились к выявлению «правдоподобных» связей и контактов арестованных. В этом случае тщательным образом выверялась информация об имеющихся на данном заводе советских гражданах иностранного происхождения, носящих иностранную фамилию, бывших за границей, имеющих там родственников и т. д., которые затем «привязывались» к арестованным иностранным рабочим.
4. Вопреки распространенному мнению, что в процентном отношении самый сильный удар сталинского террора обрушился на политэмигрантов, на самом деле, как видно из источников, больше всего пострадали те иностранные рабочие, кто принял к 1937 г. советское гражданство, поскольку арестованные НКВД подданные других стран был по большей части приговорены к высылке из СССР.
Не ограничиваясь констатацией данных выводов, в работе на примере иностранной колонии столичного Электрозавода предпринято изучение массовых репрессий на микроуровне общества. Необычность исследования заключается не только в его источниковедческой направленности, но и в нетрадиционном подходе к истории репрессий — в качестве объекта исследования взяты иностранцы «по обе стороны колючей проволоки» — мужчины в застенках НКВД, на допросах и следствии, и женщины и дети вне тюрьмы, но в условиях каждодневного наблюдения и морального прессинга и дискриминации.
Источники, в первую очередь материалы заводских архивов, по истории иностранных колоний московских Кабельного завода им. Баскакова, Электрозавода, Сталинградского тракторного завода, Горьковского автозавода позволили детально проанализировать советскую действительность через восприятие иностранцев на микроуровне и на основе биографической реконструкции. Полученные результаты свидетельствуют о продуктивности изучения особенностей функционирования советского общества через детальный анализ таких малых социумов, как иностранная колония.
Свидетельства иностранцев о Советской России приобретают особое значение в силу их необычного, «незамыленного» взгляда и возможности сравнивать советскую действительность с Западом. На этот аспект обращено особое внимание при изучении информационного потенциала источников. Экономическая неустроенность и низкий уровень жизни, продолжающая сохраняться и даже в известном смысле усилившаяся на рубеже 1920;1930;х гг. социальная дифференциация, культурная отсталость, неразвитость общественного и политического сознания, слабость профсоюзов, неупорядоченный быт большинства граждан на фоне вполне сложившейся бюрократической системы, — все эти и многие другие стороны советской действительности с большим трудом воспринимались даже самыми подготовленными к возможным трудностям и просоветски настроенными иностранцами. Из источников следует, что по приезде в СССР почти у всех изменилось первоначальное, как оказалось, в значительной мере идеализированное представление о реальном социализме, сложившееся на родине. Наиболее адекватно воспринимали советский социализм иностранные рабочие, трудившиеся бок о бок с русскими коллегами и жившие в сходных условиях. В связи с этим, как показано в диссертации, изучение именно этой категории иностранцев представляет наибольшую важность для изучения советской истории. В работе проанализированы точки зрения иностранцев на привлекательные и отталкивающие стороны советской действительности, рассмотрены дискуссии по этому поводу в иноколонии, изучены причины повышенного эмоционального напряжения иностранцев, их реакция на ЧП и дезорганизацию на производстве. Оказалось, в частности, что недостатки в бытовой и производственной сферах рассматривались ими как единое целое, что наиболее критически к недостаткам оказались настроены не беспартийные инорабочие и не трудившаяся на предприятиях просоветская часть политэмигрантов, а рядовые коммунистические активисты из пролетарской среды. Прибывшие на стройки социализма кадровые иностранные рабочие, которых еще вчера горячо приветствовали как «друзей страны Советов», называли авангардом мировой революции, лучшими представителями революционного пролетариата Запада, «голосовали ногами» против увиденного в СССР. За это они были обвинены советской пропагандой в «мелкобуржуазности» и все более противопоставлялись советским рабочим — не мнимым, «обуржуазившимся», а настоящим пролетариям, героически преодолевающим трудности и строящим коммунизм. Подавляющее большинство работавших на стройках социализма иностранцев вернулось на родину частично или полностью разочарованными в увиденном и пережитом. Отъезд из СССР в период 1931;1932 гг. можно отнести к первой заметной волне возвращений. Ее особенностью являлось то, что адаптационный период совпал с прекращением выплаты валюты ино-рабочим, с введением сдельщины, к которой большинство иностранцев относилось отрицательно, с сильными инфляционными процессами и падением реальной покупательной способности рубля, с политизацией жизни в стране. В дальнейшем, в связи с прекращением в конце 1931 г. рекрутирования в массовом порядке иностранной рабочей силы, для оставшихся вопросы адаптации не стояли столь остро, как в первое время. С середины 1930;х выявились куда более тревожные политические тенденции, сопровождавшиеся принуждением к принятию советского гражданства, недопущением возвращения иностранцев на родину. Все заметнее проявлялись тенденции к ревизии представлений о советском рабочем классе как «младшем брате» более многочисленного, опытного, сознательного и подготовленного к социалистическим преобразованиям европейского пролетариата. Все это вызвало вторую волну реэмиграции ранее безусловно просоветски настроенных иностранцев, включая немецких коммунистов, из Союза.
Вопрос о том, как именно сказался жизненный опыт в СССР на трансформации их взглядов, настроений и на последующем поведении в Германии, включая отношение к национал-социализму, рассмотрен в диссертации на основании трофейных германских документов гестапо и фашистского МИДа. В последнее время в германской историографии активно поднимается вопрос о том, как могло случиться, что немецкие рабочие, известные традиционной приверженностью коммунистическим идеалам, не только допустили, но и во многом поддержали приход Гитлера к власти в.
1933 г. 6 Ясно, что процесс серьезных изменений в сознании германского пролетариата и рядового немецкого гражданина вообще — от неприятия в массе своей фашизма до фактической поддержки национал-социализма был сложным, многофакторным и длительным. Однако, вероятно, особенно быстрыми темпами на уровне «маленького человека» переоценка ценностей шла именно в период 1930;х гг. Вопрос о том, случайно или нет этот процесс хронологически совпал с единственным в своем роде массовым опытом «хождения» наиболее сознательных и просоветски настроенных немецких рабочих (в общей сложности несколько десятков тысяч человек) в реальный социализм, до сих пор основательно не был изучен. Исследование этой проблемы было невозможным без углубленного изучения процессов, происходивших внутри германской иммигрантской колонии в СССР в этот период, в частности, на уровне колоний конкретных предприятий и мини-социумов. Именно эти вопросы подняты на основе использования нового архивного материала в данном исследовании.
Следует учесть, что для многих рядовых немецких рабочих разочарование в советской модели социализма, воспринимаемой не в теории, а на основе советской повседневности и собственного жизненного опыта, вело не только к крушению иллюзий, но и объективно толкало к поиску альтернативы в рамках их сформировавшегося социалистического мировосприятия, которой и мог стать национал-социализм или по крайней мере позиция непротивления ему. Процесс их «прозрения» в отношении СССР сопровождался превращением немецких рабочих из твердых коммунистов в симпатизеров германского «нового порядка», обещавшего работу для каждого. «Головокружение от небывалых успехов» первых пятилеток привело к разыгрыванию карты «советского шовинизма» и к разрушению в угоду сиюминутным политическим амбициям фундаментальных основ пролетар
6 См., например: Luedtke, Alf. What Happened to the «Fiery Red Glow»? Workers' Experiences and German Fascism // The History of Everyday Life. Reconstrueting Historical Experiences and Ways of life / Ed. by ALuedtke (Princeton, 1995). P. 198−251. ского интернационализма. Вряд ли Сталин мог больше навредить СССР и сделать более ценный подарок Гитлеру и национал-социалистической идее, чем преследование на национальной почве просоветски настроенных иммигрантов и живших в СССР немцев, игнорирование их национальных чувств, аресты и высылка с «родины всех трудящихся». Вернувшиеся из СССР реэмигранты были морально сломлены предательством советского руководства, что и констатировали сводки местных отделов гестапо, в которых отмечалось, что вернувшиеся в Германию бывшие коммунистические активисты в силу пережитого в Советском Союзе «для целей коммунистической пропаганды более не пригодны».
Список литературы
- Burrell, George. An American Engineer Looks at Russia (Boston, 1932). Fisher, Louis. Soviet Journey (Westport, Connecticut, 1934). Hindus, Maurice. The Great Offensive (New York, 1933).
- Reuther, Victor G. The Brothers Reuther and the Story of the UAW (Boston, 1976).
- Robinson, Robert. Black on Red. My 44 Years Inside the Soviet Union (Wash. DC, 1988).
- Rukeyser, Walter A. Working for the Soviets. An American Engineer in Russia (New York, 1932).
- Sgovio, Thomas. Dear America! The Odyssey of an American Communist Youth, Who Miraculously Survived the Harsh Labor Camps of Kolyma (New York, 1979).
- Smith, Andrew. I Was a Soviet Worker (New York, 1936).
- Wettlin, Margaret. Fifty Russian Winters. An American Woman’s Life in the Soviet Union (New York, 1992).
- СПРАВОЧНО-БИОГРАФИЧЕКИЕ ИЗДАНИЯ
- Бутовский полигон 1937- 1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. Вып.2. М., 1998.
- Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. Репринтное изд. М., 1989.1. den Fangen des NKWD. Deutsche Opfer des Stalinistischen Terrors in der UdSSR (Berlin, 1991).
- Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД «Объект Бутово», 8.08.1937 19.19.1938. М., 1997.
- Roeder, Weiner (Hg.) Sonderfahnungsliste UdSSR. Faksimile der «SonderfahnungsHste UdSSR» des Chefs der Sicherheitsplizei und des SD, das Fahndungsbuch der deutschen Einsatzgruppen im Russlandfeldrug 1941 (Erlangen 1977).
- Берия: конец карьеры. Сб. / Сост. В. Ф. Некрасов. М., 1991.
- Бордюгов Г. А. Политика и идеология чрезвычайных мер, 1930−1936 гг. // Cahiers du Monde russe. Vol.39(l-2). 1998. P.69−80.
- Борисов Ю.С., Голубев A.B. Тоталитаризм и отечественная история // Свободная мысль. 1992. № 14-
- Боханов А.Н. Деловая элита России 1914 г. М., 1994.
- Бубер-Нейман М. Мировая революция и сталинский режим. М., 1995.
- Василевский А.И. Деятельность Московской парторганизации по развитию интернациональных связей трудящихся столицы и зарубежных стран. 1928−1932. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1981-
- Ватлин А., Мусиенко Н. «Они искали спасенье, а нашли смерть» // Московская правда. 1997. 12 и 19 августа.
- Ватлин А. Террор районного масштаба // Московская правда. 1998. 27 января и 3 февраля.
- Гарб Пола. Иммигранты из США и Канады в СССР: Опыт исследования социально-культурной и бытовой адаптации. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1990.
- Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. М., 1978.
- Головатенко А.Ю. Тоталитаризм XX века: материалы для изучающих историю и обществоведение. М., 1992-
- Грязное А.И. Большая энергия Очерки истории Московского трансформаторного завода. М., 1983.
- Дель О. От иллюзий к трагедии: немецкие эмигранты в СССР в 19.30-е гг. М., 1997.
- Жимерин Д.Г. История электрификации СССР. М., 1962.
- Журавлев C.B. «Маленькие люди» и «большая история». Иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-х-1930-х годов. М., 2000.
- Журавлев C.B. Законодательные и нормативные акты // Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура: Проблемы источниковедения истории советского общества. М., 1994.
- Журавлев C.B., Тяжелъникова B.C. Иностранная колония в Советской России в 1920—1930-е годы (Постановка проблемы и методы исследования) // Отечественная история. 1994. № 1. С.179−189.
- Журавлев C.B., Соколов А. К. Повседневная жизнь советских людей в 1920-е годы // Социальная история. Ежегодник, 1997. М., 1998. С.287−332.
- Журавлев C.B. Феномен «Истории фабрик и заводов»: горьковское начинание в контексте эпохи 1930-х гг. М., 1997.
- Журавлев C.B. Документальная история «четвертой российской революции» // Рязанская деревня в 1929—1930 гг.: Хроника головокружения. Документы и материалы / Отв. ред. JI. Виола, С. В. Журавлев и др. М., 1998. C. VI-XVIII.
- Журавлев C.B. Иностранная колония московского Электрозавода в начале 1930-х гг.: опыт микроисследования // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С.366−410.
- Журавлев C.B. Человек революционной эпохи: судьба эсера-террориста Г. И. Семенова // Отечественная история. 2000. № 3. С.87−105.
- Завод и люди. Московский Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени завод электровакуумных приборов. М., 1967.
- Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика повседневность. 1945−1953. М., 1999.
- Игрицкий Ю.И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе // История СССР. 1990. № 2.
- Игрицкий Ю.И. Снова о тоталитаризме // Отечественная история. 1993. № 1.
- Изменения в численности и составе советского рабочего класса. М., 1961.
- Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5−6 октября 1998 г. М., 1999.
- Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / Под ред. Г. Бордюгова. М., 1996.
- История КПСС в 6-ти томах. Т.4. Кн.2. М., 1971.
- Касъянежо В.И. Завоевание экономической независимости СССР. 1917−1940 гг. М., 1972.
- Козлов В.А. и Хлевнюк О.В. Начинается с человека: человеческий фактор в социалистическом строительстве. М., 1988.
- Кокурин А., Петров Н. ГПУ-ОГПУ (1922−1928 гг.)// Свободная мысль. 1998, № 7.
- Корбин Отто. Деятельность КПГ по развитию солидарности и помощи немецкого рабочего класса в строительстве социализма в Советском Союзе в период первой пятилетки. 1929−1933 гг. Автореф. дис. к. и. н. М., 1974.
- Коржихина Т.П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // Вопросы истории. 1993. № 7.
- Кочик В. Советская военная разведка: структура и кадры (1924−1936)// Свободная мысль. 1998. № 7.
- Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888−1938. М., 1988.
- Кретчмар Урсула. Помощь немецких рабочих и ученых в строительстве социализма в СССР (1921−1933) // ВОСР и Германия. Т.2. Берлин, 1967.
- Куманев В.А., Куликова КС. Противостояние: Крупская — Сталин. М., 1994.
- Ламан Н.К. и Кречетникова Ю.И. История завода Электропровод. М., 1967.
- Ламан Н.К. Тихон Михайлович Алексенко-Сербин. М., 1969.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 40, 42.
- Лукьянов К. Т. Интернациональные связи между трудящимися СССР и Германии в годы социалистического строительства. 1926−1932. Л., 1968.
- Львунин Ю.А. Деятельность Коммунистической партии по укреплению и развитию интернациональных связей рабочего класса СССР с пролетариатом капиталистических стран (1921−1937 гг.) Автореф. дис. докт. ист. наук. М., 1978.
- Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/1999. М., 1999. С.77−100.
- Маннинг Роберта. Вельский район, 1937 год. / Пер. с англ. Смоленск, 1998.
- Медик, Ханс. Микроистория // Thesis: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Альманах. М., 1994. Т.П. № 4. С. 193−202.
- Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984.
- Озеров Л. С. Строительство социализма в СССР и международная пролетарская солидарность (1921−1937). М., 1972-
- Озеров Л. С. Индустриализация СССР и международный пролетариат (19 261 932). М., 1983.
- Озеров Л.С., Сулейманова Г. А. Строительство социализма в СССР и международная пролетарская солидарность. 1921−1937 гг. (Историография проблемы). М., 1982.
- Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. М., 1998.
- Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории // Социальная история. Ежегодник, 1997. М., 1998. С.11−52- Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С.7−38.
- Российская повседневность 1921−1941 гг.: Новые подходы. Спб., 1995.
- Соколов А.К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С.39−76.
- Социальная история. Ежегодник, 1997. — М., 1998.
- Социальная история. Ежегодник, 1998/1999. — М., 1999.
- Старков Б.А. Дела и люди сталинского времени. Спб., 1995.
- Тарле Г. Я. Друзья страны Советов. М., 1968.
- Тарле Г. Я. Международная пролетарская солидарность с Советской Россией в 1917—1937 гг.. (Историографический обзор). — Исторические записки. 1977. Т.98.
- Торстон Р. Вежливость и власть на советских фабриках и заводах. Достоинство рабочих. 1935−1941 гг. // Российская повседневность. 1921−1941. Новые подходы. Спб, 1995. С.59−67.
- Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989.
- Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе: Конфликты в Политбюро в 1930-е гг. М., 1993.
- Троицкий В. Б. Участие зарубежных трудящихся в борьбе советского народа за создание экономического фундамента социализма (1925−1932 гг.) Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1973.
- Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996.
- Холмс Л. Социальная история России: 1917 — 1941. Ростов-н/Д., 1993.
- Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism (New York, 1951).
- Barker G.R. Some Problems of Incentives and Labour Productivity in Soviet Industry: A Contribution to the Study of the Planning of Labour in the USSR (Basil Blackwell, Oxford, 1954).
- Bialer, Seweryn. Stalin’s Successors: Leadership, Stability, and Change in the USSR (Cambridge, 1980).
- Blakely, Allison. Russia and the Negro: Blacks in Russian History and Thought (Hovard Univ. Press, 1986).
- Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Praxis (Cambridge, Mass., 1977).
- Broszat M., Friedlaender S. A Controversy about the Historicization of the National SociaHsm//Yad Vashem Studies. 1988. Vol.19.
- Brzezinski, Zbignew. The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism (Cambridge, Mass., 1958).
- Carr E.H. The Twenty Years' Crysis, 1919−1939. An Introduction to the Study of International Relations (New York, 1946).
- Carr E.H. The Bolshevik Revolution (New York, 1952).de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life (Berkeley, 1984).
- Chase, William. Workers, Society, and the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918−1929 (Urbana, 1990).
- Cohen, Stephen F. Old and New Approaches: Bolshevism and Stalinism // Essays in Historical Interpretation (New York, 1977).
- Conquest, Robert. The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties (New York, 1968).
- Conquest, Robert. The Great Terror: A Reassessment (New York-Oxford, 1990).
- Dallin, David J. Soviet Espionage (New Haven, Yale Univ. Press, 1956).
- Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934−1941 (Cambridge Univ. Press, 1997).
- Dehl O., Mussienko N. «Den letzten beissen die Hunde. «// Neues Leben. 24.11.1993. S.4−5.
- Dehl O., Mussienko N. «Was blieb, sind funf Blatt Papier» // Neues Deutschland. 2.11.1993. S.14.
- Fainsod, Merle. How Russia Ruled (Cambridge, Mass., 1953).
- Fainsod, Merle. Smolensk Under Soviet Rule (Cambridge, Mass., 1958).
- Filene, Peter. Americans and the Soviet Experiment, 1917−1933 (Cambridge, Mass., 1967).
- Fitzpatrick, Sheila. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921−1934 (Cambridge, 1979).
- Fitzpartick, Sheila. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930-s (New York-Oxford, 1999).
- Garb, Paula. They Came to Stay. North Americans in the USSR (Progress Publishers, Moscow, 1987).
- Getty, Arch J. and Manning, Roberta T. Introduction for: Stalinist Terror: New Perspectives (Cambridge Univ. Press, 1993).
- Getty, Arch J. Party and Purge in Smolensk, 1933−1937 // Slavic Review, Vol.42, № 1 (Spring 1983). P.60−79.
- Getty, Arch J. The Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered (New York, 1985).
- Graham, Loren R. The Ghost of the Executed Engineer: Technology and the Fall of the Soviet Union (Harvard Univ. Press, 1993).
- Graziosi, Andrea. Foreign Workers in Soviet Russia, 1920−1940: Their Experience and Their Legacy 11ILWCH. 1988. № 33 (Spring). P.38−39.
- Jarmatz K., Barg S., Diezel P. Axil in der UdSSR (Leipzig, 1979).
- Jasny, Naum. Soviet Industrialization, 1928−1952 (Chicago, 1961).
- A) History of Private Life (Cambridge, Mass., 1987−1990).
- The) History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life / Ed. by ALuedtke (Princeton, 1995).
- Hoffmann, David. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929−1941 (Ithaca, 1994).
- Hoffmann, David. The Great Terror on the Local Level: Purges in Moscow Factories, 1936−1938 // Stalinist Terror: New Perspectives / Ed. by J. Arch Getty and Roberta T. Manning (Cambridge Univ. Press, 1993). P. 163−167.
- Hughes, Langston. I Wonder as I Wonder (New York, 1956).
- Kaiser, Gerhard. Russlandfahrer Aus dem Wald in die Welt. Facharbeiter aus Thuringer Wald in der UdSSR. 1930−1965 (WAGE-Verlag, Tessin, 2000).
- Kalb, Don. Expanding Class. Power and Everyday Politics in Industrial Communities, The Netherlands, 1850−1950 (Durham and London, Duke Univ. Press, 1997).
- Kenez, Peter. The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilisation. 1917−1929. Cambridge, 1985).
- Margulies, Sylvia R. The Pilgrimage to Russia. The Soviet Union and the Treatment of Foreigners, 1924−1937 (Univ. of Wisconsin Press, 1968).
- McLoughlin Barry, Schafranek Hans, Szevera Walter. Aufbruch — Hoffnung -Endstation. Osterreicherinnen und Osterreicher in der Sovjetunion 1925−1945 (Verlag fur Gesellschaftskritik, Wien, 1996).
- Medvedev, Roy. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism (New York, 1971).
- Milden, James W. The Family in the Past Time. A Guide to the Literature (New York-London, 1977).
- Morray, J.P. Project Kuzbas. American Workers in Siberia. 1921−1926 (New York, 1983).
- Nazism and German Society. 1933−45. Ed. by David F. Crew (London and New York, Routledge, 1994).
- Peukert, Detlev. Inside Nazi Germany. Conformity, Opposition and Racism in Everyday Life (New Haven — London, Yale Univ. Press, 1987).
- Prothro, James W. The Dollar Decade: Business Ideas in the 1920s (Baton Rouge: Louisiana Univ. Press, 1954).
- Rassweiler, Anne. The Genration of Power: The History of Dneprostroi (New York, 1988).
- Remington, Thomas. Building Socialism in Bolshevik Russia: Ideology and Industrial Organization. 1917−1921 (University of Pittsburgh Press, 1984).
- Rittersporn G.T. Stalinist Simplifications and Soviet Complications: Social Tensions and Political Conflicts in the USSR, 1933−1953 (New York, 1991).
- Sabean, Gavid W. Pover in the Blood. Popular Culture and Village Discourse in Early Modern Germany (Cambridge Univ. Press, 1984).
- Schloegel, Karl. Kommunalka — oder Kommunisnus als Lebensform. Zu einer historischen Topographie der Sovjetunion // Historische Antropologie. Kultur. Gessellschaft. Alltag. 1998. S.329−346.
- Schutz A., Luckmann T. The Structures of the Life-World (Evaston, 1989).
- Schwarz, Solomon. Labor in the Soviet Union (New York, 1952).
- Siegelbaum, Lewis H. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935−1941 (New York, 1988).
- Siegelbaum, Lewis H. Soviet Norm Determination in Theory and Practice, 1917−1941 // Soviet Studies, 1984, № 1. P.52−56.
- Shearer, David R. Industry, State, and Society in Stalin’s Russia, 1926−1934 (Uthaca and London, 1996).
- Sosnowsky, Timothy. The Housing Problem in the Soviet Union (New York, 1954).
- Stalinist Terror: New Perspectives (Cambridge Univ. Press, 1993).603
- Stites, Richard. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution (New York — Oxford, Oxford Univ. Press, 1989).
- Straus, Kenneth M. Factory and Community in Stalin’s Russia: The Making of an Industrial Working Class (Pittsburgh, 1997).
- Sutton, Anthony C. Western Technology and Soviet Economic Development. Three-Volume Series. Vol.1, 2 (Stanford: Hoover Institution, 1968 and 1971).
- Tischler, Carola. Flucht in die Verfolgung: Deutsche Emigranten im sovjetischen Exil 1933 bis 1945. (Lit Verlag, Muenster, 1996).
- Tucker, Robert C. Stalin as Revolutionary, 1879−1929: A Study in History and Personality (New York, 1977).
- Ulam, Adam. Stalin: The Man and His Era (New York, 1973).
- Weitz, Eric D. Creating German Communism, 1890−1990. From Popular Protests to Socialist State. (Princeton Univ. Press, Princeton, 1997).