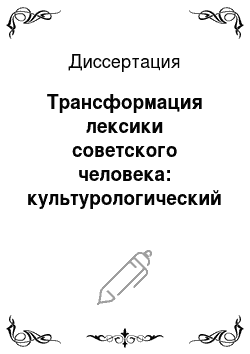Актуальность темы
исследования связана прежде всего с тем, что в истории культуры бывают такие периоды, когда скорость языковых изменений значительно увеличивается. Так, состояние русского языка в 70−90-е гг. XX века может служить прекрасным подтверждением этого факта. Изменения коснулись и самого языка, и, в первую очередь, условий его употребления. Используя культурологическую терминологию, можно сказать об изменении языковой ситуации и появлении новых типов дискурса. Общение человека из 70-х гг. с человеком из 90-х вполне могло бы закончиться коммуникативным провалом из-за простого непонимания языка и, возможно, несовместимости языкового поведения. В качестве подтверждения достаточно указать наиболее заметное изменение: появление огромного количества новых слов (в том числе заимствований) и также исчезновение некоторых слов и значений, то есть изменение русского лексикона. Очевидно, что и сами языковые изменения, и их скорость в данном случае вызваны не внутренними причинами, а внешними, а именно — социальными преобразованиями и пертурбациями, или, иначе говоря, изменениями в жизни и культуре русскоязычного общества.
XX век оказался чрезвычайно интересным не только для классических историков, но и, в первую очередь, для историков культуры. По существу, над русским языком был проведен потрясающий по масштабам и результатам социолингвистический эксперимент. В этом столетии с ним сравним, пожалуй, лишь эксперимент над немецким языком, но это предмет отдельного исследования. Две крупные социальные встряски — революция и перестройка — затронули не только народ, но и язык. Под влиянием происходящего русский язык изменялся сам, и, кроме того, на него целенаправленно воздействовала власть, ведь язык был ее мощным орудием. Изменения в языке как социокультурном феномене, их социальные причины и последствия — и есть основная проблема данного диссертационного исследования. Мы обратились к данной проблематике, поскольку в научной литературе последнего времени ситуация языковой динамики с позиций культурологии фактически не рассматривалась.
Лингвисты же выдвигают следующие причины социокультурной трансформации русского языка в XX в.: в советскую эпоху язык был обюро-кратизирован и зажат в тиски цензуры и самоцензуры и к тому же служил I инструментом манипулирования сознанием, а в постсоветское время с отменой цензуры перестают действовать все запреты и ограничения, резко возрастает вариативность средств выражения, общество становится терпимым к ошибкам, нарушениям нормы. Нельзя обойти вниманием и массовое, относительно легкое проникновение в русский язык иноязычных заимствований, которое многие считают порабощением некогда «великого и могучего».
Но необходимо отметить, что в советское время сложилась ситуация, называемая в лингвистике диглоссией, т. е. существование двух форм языка, распределенных по сферам употребления. Наряду с обыденным русским языком возникла еще одна его разновидность, называемая в лингвистике по-разному: «советский язык», «тоталитарный язык», «ритуальный язык», «жаргон власти», «советский новояз» и т. д. Наиболее распространенным названием этого языка оказался термин «новояз» — калька с английского №у-эреак, впервые употребленного Дж. Оруэллом в его романе-антиутопии «1984».
Диглоссия не является уникальным явлением. В лингвистике приводятся в качестве примеров и Древняя Русь (разговорный русский и литературный церковнославянский языка), и Древняя Индия (разговорный язык — пракрит и религиозный язык — санскрит). Замечено, что диглоссия характерна именно для религиозного общества, в котором нужно разделять религиозное ритуальное и обыденное общение.
Функции советского, в высшей степени ритуализированного языка близки к функциям религиозного языка. Но в советском обществе существовали и другие формы языка, обслуживающие разные ситуации общения.
Все эти формы почти не взаимодействовали между собой, поскольку относились к разным слоям общества и к разным ситуациям общения. В речах, газетах и на партсобраниях царил новояз, на кухнях и во дворах — разговорная речь, литературная или просторечная в зависимости от речевой ситуации и ее участников. Советский человек отличался тем, что умел вовремя переключать регистры, «двоемыслие» (по Оруэллу) порождало «двуязычие», и наоборот"1.
Следует также сказать, что часто в общественном сознании то или иное состояние языка подвергается оценке, причем обычно отмечается как раз «плохое» состояние языка. Такая критика вызвана, как правило, слишком быстрыми изменениями в языке и возникающим в связи с этим разрывом между дискурсами разных поколений. В подобной ситуации мы сейчас и находимся.
Необходимость анализа социокультурных оснований появления новояза и социальных полей его применения и интерпретация результатов этого анализа в научном культурологическом ключе определяют актуальность данного исследования.
Степень разработанности проблемы. Нужно сказать, что трансформация лексики русского языка в XX веке до сих пор остается малоизученной. Среди специальных работ, посвященных данной тематике, можно выделить, на наш взгляд, следующие: Сандомирская И. «Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик» (2001) — Шмелева Т. «Письменность городской среды» в сб. «Фонетика — орфоэпия — письмо в теории и на практике» (1996) — коллективный труд «Современный городской фольклор» (2003).
Различные аспекты взаимосвязи социокультурной реальности и лексики русского языка прошлого века освещались в наиболее общем теоретиче.
1 Кронгауз М. Язык мой — враг мой? // Новый мир. — М., 2002. — № 10. ском плане такими учеными, как М. Аркадьев, Л. Булаховский, П. Вайль, А. Генис, Ю. М. Лотман, Э. А. Орлова, Э. Сепир, Б. Успенский, Р. Якобсон и др.
Мы не могли пройти мимо того весомого вклада в осмысление советской лексики, который сделали известные поэты и писатели: А. Амальрик, И. Бродский, О. Волков, С. Довлатов, М. Зощенко, О. Мандельштам, А. Платонов, А. Синявский и др.
В содержательной работе «Фольклор коммунальных квартир» И. Уте-хин (в сборнике «Современный городской фольклор», 2003) показывает, что коммунальный быт породил целый жанр коммунальных объявлений, регламентирующих правила общежития и позволяющих осуществлять коммуникацию обезличенно.
Переходя к базовым ценностям россиян, следует сказать, что устойчивыми и наиболее наглядными формами лексической манифестации как принятой обществом системы ценностей, так и национального характера всегда были фразеологизмы, устойчивые словосочетания, идиомы, языковые паремии, пословицы и поговорки. Российские исследователи И. В. Мостовая и А. П. Скорин в работе «Ориентиры российской ментальности» (1995) выделяют в структуре менталитета 4 уровня: 1) ритуальный бытовой уровень, фиксирующий мир личности, репрезентирующий традиции и обычаи и формирующий бытовые архетипы- 2) духовный уровень (уровень религиозной мифологии), который определяет социальные архетипы- 3) уровень формирования политических архетипов через естественные реакции на политику, власть, государство- 4) уровень идеологии, формирующий основанную на идеологии этнокультурную ориентацию вовне.
При этом отмечается, что менталитет определяет типичное поведение (в том числе речевое) и типичные действия, которые и составляют национальный характер.
П. Вайль и А. Генис в работе «60-е. Мир советского человека» (2001) показали, что «советскость» входила в систему базовых ценностных ориен-таций для всех социальных групп — с тем или иным знаком.
И. Сандомирская в своем исследовании «Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик» (2001) отмечает, что после Октябрьской революции большевики попытались заменить прежнюю имперскую идеологию служения Отечеству служением «делу мирового пролетариата» — в 1920;е гг. само употребление слов «Родина» и «Отечество» было политически некорректным и свидетельствовало о враждебности по отношению к государству диктатуры пролетариата. Однако начиная с Великой Отечественной войны, инициируя и эксплуатируя патриотические настроения, коммунистические идеологи вернулись к идее служения государству, но теперь уже — «государству рабочих и крестьян».
Относительно языковой стратификации «новояза» И. Сандомирская далее отмечает, что культура создает свой миф о языке и этот миф проницает собой все речевые практики — поэзию, публицистику, философию, науку, закон. На наш взгляд, к этому перечню следует добавить советский политический и партийный дискурс (язык советской элиты), язык советского быта, сленг молодежных субкультур, маргинальную и тюремную лексику.
Своеобразие политической лексики в России последнего времени изучалось в следующих трудах: Баранов А., Михайлова О., Сатаров Г., Шипова Е. «Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики» (2004) — Старкова М. «Политический дискурс элит как репрезентация политической стратегии и тактики» (в книге «Власть и элиты в российской трансформации» (2005).
А. Скворцов в своей статье «О языке современной русской научной литературы» (1998) отмечает, помимо всего прочего, что советской науке была присуща терминологическая путаница. Дело в том, что в научном языке использование специальных терминов должно быть строгим и четким. Научный язык (по крайней мере, в фундаментальной литературе) прежде всего должен быть хорошим естественным языком. Стремление авторов выражаться более учено порождает так называемый псевдонаучный стиль.
Специфике молодежной лексики посвящено интересное исследование Ф. Рожанского «Сленг хиппи» (1992). Мы также пользовались содержательным «Словарем молодежного жаргона» (2003).
В работе И. Ферапонтова «Рекламные тексты в обыденной речи» показано, что большое влияние на формирование актуального словаря, языковых клише и других устойчивых форм речи в постсоветский период оказала реклама, до некоторой степени заменившая официальную пропаганду.
В своем исследовании маргинальной и тюремной лексики мы опирались преимущественно на два издания: В. Быков «Русская феня» (2003) и В. Елистратов «Словарь московского арго (материалы 1980 — 1994 гг.)», которые, по мнению большинства специалистов, являются наиболее полными и научно-обоснованными, основанными на наиболее аутентичном материале. В данных трудах, как и в некоторых других, показано, что в постсоветское время ненормативная лексика стала практически общеупотребительнойона заняла прочное место в языке политиков, журналистов, чиновников, подростков.
Объект исследования: русский язык XX века как социокультурный феномен.
Предмет: трансформация лексики советского человека.
Цель исследования — культурологический анализ причин, форм и последствий трансформации лексики советского человека.
Указанная цель исследования предполагает решение следующих задач:
1) проанализировать историческую динамику советской лексики;
2) представить «новояз» как средство коммуникации и инструмент власти;
3) выявить трансформацию смыслов в лексике советского человека;
4) создать модель языковой стратификации советского и постсоветского общества;
5) охарактеризовать с позиций культурологии языковые страты современного российского общества.
Научная гипотеза исследования состоит в предположении, о том, что формирование массива советской лексики молено разделить на два периода: первый можно условно назвать «номинативным» (20-е — ЗОе гг. XX века), поскольку на этом этапе был создан советский дискурсвторой период активного продуцирования советской лексики приходится на 60-е — 80-е гг. XX в, и его можно назвать «реактивным», поскольку он явился результатом реакции носителей языка на уже устоявшиеся советские реалии и ставший к тому времени до некоторой степени уже традиционным советский образ жизни.
Теоретико-методологические основы исследования. Теоретическую основу диссертации составляют исследования отечественных ученых, специализирующихся в области лингвистики, культурологии, социологии и философии. В качестве собственно культурологической методологии мы опирались на базовые положения структурализма и структурного функционализма.
Основными методами исследования стали: генетический анализкомпаративный анализсемиотический анализанализ источников и литературы по-теме исследованияметод историко-культурной реконструкции.
Научная новизна и теоретическая значимость заключается в следующем:
— впервые находит свое разностороннее освещение вопрос об историко-культурном генезисе лексики советского человека;
— обосновывается положение о том, что весь массив советской лексики разделяется на два этапа своего историко-культурного существования: «номинативный», в ходе которого был создан советский дискурс, и «реактивный», в ходе которого произошла смена семы в уже существующих словах;
— уточнена с позиций культурологии постсоветская история русского языка, связанная с обострением таких негативных тенденций, как заметное расширение криминальной и ненормативной лексики, смешение стилистических пластов и рост количества ошибок словоупотребления. Отмечается и такая важная тенденция в развитии языка, как возвращение к практике заимствования слов для обозначения заимствованных социокультурных реалий. Практически общеупотребительной лексикой стала и блатная феня, которая заняла прочное место в лексике политиков, журналистов, чиновников, подростков;
— выявлены пути и формы трансформации смыслов в лексике советского и постсоветского человека на примере языка базовых ценностей, языка личной жизни и пропагандистских клише;
— впервые с позиций культурологии создается модель языковой стратификации современного российского общества, в рамках которой проанализирована социокультурная специфика следующих лексических сегментов: язык политики, язык литературы, язык науки, бытовая лексика, молодежный сленг, маргинальная и тюремная лексика.
Практическая значимость диссертации видится в том, что результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания курсов по истории отечественной культуры, истории отечественной литературы и социолингвистике в высших учебных заведениях по специальности «культурология».
Положения, выносимые на защиту.
1. С точки зрения культурологии правомерно определять советский период истории нашего отечества даже не как социальный, а как социокультурный эксперимент. Таким образом, радикальная смена социально-экономической модели, произошедшая в России в 1917 г., сопровождалась не менее радикальной культурной трансформацией. Для самоорганизации общества в новом мире, равно как и для легитимации нового общественного устройства, помимо первобытного права сильного требовалось создание новых культурных смыслов, адекватных новым реалиям — экономическим, социальным, политическим. При этом вся радикальность именно коммунистического переворота в значительной степени была кажущейся, осуществленной «на словах» и прежде всего — пресуществленной в словах. Посредством слов (то есть «на словах») большевики актуализировали столь свойственную русскому национальному характеру мифологему «обретения рая на Земле» (возможного, если все устроить по справедливости — «по правде»). Создание советского симулякра было созданием «соблазна» нарративными средствами. 2. Мы полагаем, что появление на свет всего массива специфически советской лексики можно разделить на 2 периода. Первый можно условно назвать миросозидательным («адамическим» или «номинативным»), поскольку на этом этапе только что ставший советским человек осваивает советский космос — называет (дает им имена) советские отношения, советские действия, советские вещи. Хронологически этот первый период приходится на 20−30-е гг. XX в. Необходимо отметить, что в это же самое время язык менялся и под влиянием другого (к сожалению, не менее целенаправленного) факторатот, кто не хотел становиться «советским человеком» (устойчивая идиома) и говорить на советском языке был либо вынужден эмигрировать (в лучшем случае) или попросту физически уничтожался. Соответственно, в этом мире неуклонно росла доля культурно некомпетентных (да попросту малограмотных, а еще вчера — до ликвидации неграмотности — так и вовсе неграмотных) людей, и становится понятно, почему советский языковый стиль — это, по меткому определению Э. А. Орловой, «примитивный, но характерный стиль устной речи и письменных текстов»". Стиль, лексические предпочтения, паттерны речевого поведения являются наряду с нравами и обычаями, ритуалами и подражанием составными частями традиционного механизма трансляции культурного опыта.
2Орлова Э. А. Социокультурные предпосылки модернизации России. — М., 2004. — С. 58.
Второй период активного продуцирования советской лексики был осуществлен в 60 — 80-х гг. XX века. Мы полагаем, что этот второй период будет корректно назвать «реактивным», поскольку он явился результатом реакции носителей языка на уже устоявшиеся советские реалии и ставший к тому времени до некоторой степени уже традиционным советский образ жизни. Реактивный период характеризуется не столько изобретением новых лексем, сколько сменой семы в уже существующих словах. Причем смена значения слова иногда на прямо противоположное (антонимичное) характерна была для лексики всех социальных групп (от представителей властной элиты до диссидентов) и для всех видов коммуникации (от постановлений ЦК до сам-издатовской литературы и кухонных разговоров). Изменение смысла ключевых понятий вело к изменению смысла всего нарратива, что, собственно, и породило феномен советского языка, или — если использовать точный неологизм Дж. Оруэлла — «новояза».
3. Советский язык адекватно отражал не столько реалии нового советского мира, сколько представления массового сознания об этом мире и представления элиты о том, каким он должен быть в идеале. Как средство коммуникации новояз функционально использовался прежде всего на государственном уровне для установления политической коммуникации «власть — народ». Основная характеристика такой коммуникации в России — монологичность. Власть в России исторически полагает себя единственным субъектом политической культуры, определяющим пределы интересов граждан, права и полномочия социальных институтов. Инициатива диалога в вертикальной коммуникации «власть — общество — индивид» всегда была прерогативой государства. Поэтому политическая коммуникация носила в Советском Союзе преимущественно формально ритуализованный (всенародные почины, всенародные осуждения, просьбы трудящихся) или имитационный характер (голосование — имитация выборов, Верховный совет — имитация парламента).
4. Советский новояз в некоторой степени являлся искусственным языком — в силу своей конструктивистской сконструированности. Однако степень его искусственности никоим образом не стоит преувеличивать, поскольку новояз — в отличие от эсперанто или языков программирования — не был создан с чистого листа, а представлял собой трансформацию естественного живого русского языка, осуществленную посредством продуцирования некоторого количества неологизмов и актуализации определенных стилистических пластов, характерных для лексики низших социальных слоев. В то же время определенная искусственность новояза делала его достаточно эффективным инструментом управления.
5. Теоретически (при любом режиме) язык власти в коммуникации «власть — народ» репрезентирует ожидания массового сознания. Но, эффективно используя язык как инструмент управления, власть сначала в значительной степени формирует эти ожидания, эксплуатируя интенции нациоt нального менталитета. Таким образом, язык выступает в качестве инструмента создания идеологического социокультурного мифа. Ярче всего эта роль языка проявляется при тоталитарных режимах, являющихся в значительной степени искусственными социокультурными конструктами — идеократиями, где миф (идеология), специально актуализированный в массовом сознании для захвата власти, затем жестко детерминировал все шаги захвативших эту власть. Прошедший XX в. знает два таких конструкта — СССР и гитлеровская Германия и, соответственно, два идеократических мифа: коммунизм — «рай на Земле, куда попадут все трудящиеся» и Третий рейх — «тысячелетнее доминирование арийской расы».
6. 90-е гг. XX в. в России были временем системного социокультурного кризиса — с одной стороны, и информационного освобождения (тут мы имеем в виду прежде всего резкое расширение доступа к информации и возможностей информационного обмена) — с другой. Системность кризиса была обусловлена резкими изменениями, произошедшими в большинстве сфер жизни населения страны. У очень многих изменились одновременно материальное положение и социальный статус. Рухнула система ценностей советского человека, соответственно изменились приоритеты. Многие испытывали кризис целеполагания и самоидентификации.
В языке следствием системного социокультурного кризиса стало обострение следующих тенденций:
— переход в разряд общеупотребительной (бытовой) лексики большого количества слов, относящихся к лексике криминальной субкультуры,.
— расширение сферы употребления ненормативной лексики,.
— смешение стилистических пластов и рост количества ошибок словоупотребления,.
— резкое увеличение англоязычных заимствований.
7. Российский (советский) этатизм является таковым лишь номинально, что показано на примере культурологического анализа трансформации смыслов жизненно важных базовых ценностей. Мы считаем, что ценностная ориентация, принимаемая многими исследователями за рациональный этатизм, на самом деле является модификацией иррациональных патерналистских ожиданий. Государство символизирует для массового сознания фигуру «самого главного» родителя (барина, начальника, etc.). В детстве всякому хочется, чтобы именно его папа был самым сильным, отсюда и государство в сознании россиян (советского народа) должно соответствовать некому авторитарному нравственному идеалу. Но модификацией патерналистских ожиданий, основанных на авторитарном нравственном идеале, российский (советский) этатизм является лишь отчасти, поскольку он парадоксальным образом основывается одновременно и на соборности.
Поскольку соборный нравственный идеал и авторитарный являются полюсами дуальной оппозиции, то в данном случае мы имеем дело с диалектическим единством противоположностей. И государство попеременно символизирует то «отца», то «мир» — в зависимости от того, какой из нравственных идеалов (авторитарный или соборный) актуализируется в обществе.
Вместе с тем основным критерием подлинности в советском обществе была принадлежность к советскому. Поэтому можно вполне обоснованно утверждать, что «советскоетъ» (прилагательное «советский») репрезентировала не только лояльность, но и подлинность (настоящесть). Настоящий человек — советский человек. В то же время подлинность проще опознать в «простом», нежели в «сложном». Поэтому для подчеркивания подлинности к прилагательному «советский» добавлялось еще и прилагательное «простой» — общеупотребительной была конструкция «простой советский человек».
8. Мы полагаем, что если культура создает свой миф о языке, то и язык в значительной степени через различные формы дискурса влияет на социокультурные мифы. Это процессы взаимодополняющие, взаимообусловленные и взаимозависимые. Предлагая свой вариант языковой стратификации «новояза», мы выделили советский политический и партийный дискурс (язык советской элиты), язык советского быта, язык науки, язык литературы, сленг молодежных субкультур и маргинальную и тюремную лексику. В то же время предлагаемая нами стратификация никоим образом не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающе подробной.
Апробация работы.
1. По теме диссертации были опубликованы 7 статей, общим объемом 5,5 п.л.
2. Материалы диссертации внедрены в учебный процесс Высшей школы культурологии МГУКИ и Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации и были использованы при разработке учебных курсов «Культурология», «Языковая культура мира» и «Языки культуры и межкультурная коммуникация».
3. Соискателем были зачитаны 3 доклада на научных конференциях, проводимых ВГНА Минфина России.
4. Диссертация прошла обсуждение и была рекомендована к защите на заседании кафедры культурологии и антропологии от 23 июня 2008 г. (Протокол № 10).
Заключение
.
В результате проведенного исследования мы можем сказать следующее.
С точки зрения культурологии правомерно определять советский период истории нашего отечества даже не как социальный, а как социокультурный эксперимент. Таким образом, радикальная смена социально-экономической модели, произошедшая в России в 1917 г., сопровождалась не менее радикальной культурной трансформацией. Для самоорганизации общества в новом мире, равно как и для легитимации нового общественного устройства, помимо первобытного права сильного требовалось создание новых культурных смыслов, адекватных новым реалиям — экономическим, социальным, политическим. При этом вся радикальность именно коммунистического переворота в значительной степени была кажущейся, осуществленной «на словах» и прежде всего — пресуществленной в словах. Посредством слов (то есть «на словах») большевики актуализировали столь свойственную русскому национальному характеру мифологему «обретения рая на Земле» (возможного, если все устроить по справедливости — «по правде»). Создание советского симулякра было созданием «соблазна» нарративными средствами. <
Представляется, что появление на свет всего массива специфически советской лексики можно разделить на два периода. Первый можно условно назвать миросозидательным («адамическим», или «номинативным»), поскольку на этом этапе только что ставший советским человек осваивает советский космос — называет (дает им имена) советские отношения, советские действия, советские вещи. Хронологически этот первый период приходится на 20 — 30-е гг. XX в. Необходимо отметить, что в это же самое время язык менялся и под влиянием другого (к сожалению, не менее целенаправленного) фактора — тот, кто не хотел становиться «советским человеком» (устойчивая идиома) и говорить на советском языке, был либо вынужден эмигрировать (в лучшем случае), или попросту физически уничтожался. Соответственно, в этом мире неуклонно росла доля культурно некомпетентных (да попросту малограмотных, а еще вчера — до ликвидации неграмотности — так и вовсе неграмотных) людей, и становится понятно, почему советский языковый стиль — это, по меткому определению Э. А. Орловой, «примитивный, но характерный стиль устной речи и письменных текстов"213. Стиль, лексические предпочтения, паттерны речевого поведения являются наряду с нравами и обычаями, ритуалами и подражанием составными частями традиционного механизма трансляции культурного опыта.
Второй период активного продуцирования советской лексики был осуществлен в 60 — 80-х гг. XX века. Мы полагаем, что этот второй период будет корректно назвать «реактивным», поскольку он явился результатом реакции носителей языка на уже устоявшиеся советские реалии и ставший к тому времени до некоторой степени уже традиционным советский образ жизни. Реактивный период характеризуется не столько изобретением новых лексем, сколько сменой семы в уже существующих словах. Причем смена значения слова иногда на прямо противоположное (антонимичное) характерна была для лексики всех социальных групп (от представителей властной элиты до диссидентов) и для всех видов коммуникации (от постановлений ЦК до сам-издатовской литературы и кухонных разговоров). Изменение смысла ключевых понятий вело к изменению смысла всего нарратива, что, собственно, и породило феномен советского языка, или — если использовать точный неологизм Дж. Оруэлла — «новояза».
Советский язык адекватно отражал не столько реалии нового советского мира, сколько представления массового сознания об этом мире и представления элиты о том, каким он должен быть в идеале. Как средство коммуникации новояз функционально использовался прежде всего на государст.
2ПОрлова Э. А. Указ. соч., с. 58. венном уровне для установления политической коммуникации «власть — народ». Основная характеристика такой коммуникации в России — монологичность. Власть в России исторически полагает себя единственным субъектом политической культуры, определяющим пределы интересов граждан, права и полномочия социальных институтов. Инициатива диалога в вертикальной коммуникации «власть — общество — индивид» всегда была прерогативой государства. Поэтому политическая коммуникация носила в Советском Союзе преимущественно формально ритуализованный (всенародные почины, всенародные осуждения, просьбы трудящихся) или имитационный характер (голосование — имитация выборов, Верховный совет — имитация парламента).
Советский новояз в некоторой степени являлся искусственным языком — в силу своей конструктивистской сконструированное&trade-. Однако степень его искусственности никоим образом не стоит преувеличивать, поскольку новояз — в отличие от эсперанто или языков программирования — не был создан с чистого листа, а представлял собой трансформацию естественного живого русского языка, осуществленную посредством продуцирования некото-, poro количества неологизмов и актуализации определенных стилистических пластов, характерных для лексики низших социальных слоев. В то же время определенная искусственность новояза делала его достаточно эффективным инструментом управления.
Теоретически (при любом режиме) язык власти в коммуникации «власть — народ» репрезентирует ожидания массового сознания. Но, эффективно используя язык как инструмент управления, власть сначала в значительной степени формирует эти ожидания, эксплуатируя интенции национального менталитета. Таким образом, язык выступает в качестве инструмента создания идеологического социокультурного мифа. Ярче всего эта роль языка проявляется при тоталитарных режимах, являющихся в значительной степени искусственными социокультурными конструктами — идеократиями, где миф (идеология), специально актуализированный в массовом сознании для захвата власти, затем жестко детерминировал все шаги захвативших эту власть. Прошедший XX в. знает два таких конструкта — СССР и гитлеровская Германия и, соответственно, два идеократических мифа: коммунизм — «рай на Земле, куда попадут все трудящиеся» и Третий рейх — «тысячелетнее доминирование арийской расы».
90-е гг. XX в. в России были временем системного социокультурного кризиса — с одной стороны, и информационного освобождения (тут мы имеем в виду прежде всего резкое расширение доступа к информации и возможностей информационного обмена) — с другой. Системность кризиса была обусловлена резкими изменениями, произошедшими в большинстве сфер жизни населения страны. У очень многих изменились одновременно материальное положение и социальный статус. Рухнула система ценностей советского человека, соответственно изменились приоритеты. Многие испытывали кризис целеполагания и самоидентификации.
В языке следствием системного социокультурного кризиса стало обострение следующих тенденций:
— переход в разряд общеупотребительной (бытовой) лексики большого количества слов, относящихся к лексике криминальной субкультуры,.
— расширение сферы употребления ненормативной лексики,.
— смешение стилистических пластов и рост количества ошибок словоупотребления,.
— резкое увеличение англоязычных заимствований.
Российский (советский) этатизм является таковым лишь номинально, что показано на примере культурологического анализа трансформации смыслов жизненно важных базовых ценностей ценностей. Мы считаем, что ценностная ориентация, принимаемая многими исследователями за рациональный этатизм, на самом деле является модификацией иррациональных патерналистских ожиданий. Государство символизирует для массового сознания фигуру «самого главного» родителя (барина, начальника, etc.). В детстве всякому хочется, чтобы именно его папа был самым сильным, отсюда и государство в сознании россиян (советского народа) должно соответствовать некому авторитарному нравственному идеалу. Но модификацией патерналистских ожиданий, основанных на авторитарном нравственном идеале, российский (советский) этатизм является лишь отчасти, поскольку он парадоксальным образом основывается одновременно и на соборности.
Поскольку соборный нравственный идеал и авторитарный являются полюсами дуальной оппозиции, то в данном случае мы имеем дело с диалектическим единством противоположностей. И государство попеременно символизирует то «отца», то «мир» — в зависимости от того, какой из нравственных идеалов (авторитарный или соборный) актуализируется в обществе.
Вместе с тем основным критерием подлинности в советском обществе была принадлежность к советскому. Поэтому можно вполне обоснованно утверждать, что «советскостъ» (прилагательное «советский») репрезентировала не только лояльность, но и подлинность (настоящесть). Настоящий человек — советский человек. В то же время подлинность проще опознать в «простом», нежели в «сложном». Поэтому для подчеркивания подлинности к прилагательному «советский» добавлялось еще и прилагательное «простой» — общеупотребительной была конструкция «простой советский человек».
Мы полагаем, что если культура создает свой миф о языке, то и язык в значительной степени через различные формы дискурса влияет на социокультурные мифы. Это процессы взаимодополняющие, взаимообусловленные и взаимозависимые. Предлагая свой вариант языковой стратификации «новояза», мы выделили советский политический и партийный дискурс (язык советской элиты), язык советского быта, язык науки, язык литературы, сленг молодежных субкультур и маргинальную и тюремную лексику. В то же время предлагаемая нами стратификация никоим образом не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающе подробной.