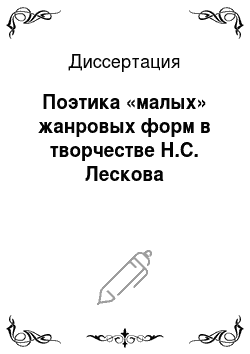Имя Николая Семёновича Лескова, замечательного русского писателя, давно обрело мировую известность, а его творчество до сих пор является объектом пристального внимания отечественных и зарубежных учёных. Однако, несмотря на острый интерес к проблемам поэтики этого замечательного художника и большие достижения в указанной сфере, последнее слово о специфике его эстетического письма не только не сказано, но вряд ли будет произнесено в обозримом будущем.
Одной из проблем, нуждающихся в тщательном рассмотрении из-за малой изученности и чрезвычайной сложности, является лесковская жанро-логия в её эволюционных и новаторских модификациях. Проблема жанровых традиций, необходимость учитывать их в собственном творчестве воспринималась Лесковым чрезвычайно остро в связи с неизбежным использованием заданных и не слишком естественных готовых форм. В самом начале творческого пути примыкавший к распространённому тогда жанру так называемых обличительных очерков — с той разницей, что в них уже чувствовалась рука будущего беллетриста, писатель превратил его затем «в фельетон, а иногда и в рассказ» (23, с. XI).
В известной статье о Лескове П. П. Громов и Б. М. Эйхенбаум, которым принадлежит процитированное вслед за автором неизданной книги «Лесков и его время» А. И. Измайловым мимоходом задевают одну из самых важных сторон эстетики уникального художника, отмечая, что «вещи Лескова часто ставят читателя в тупик при попытке осмыслить их жанровую природу (здесь и далее выделено мною — Н. А.). Лесков часто стирает грань между газетной публицистической статьёй, очерком, мемуарами и традиционными формами высокой прозы — повестью, рассказом» (Там же, с. XLVIII).
В книге «В поисках идеала (Творчество Н.С. Лескова)» её автор, виднейший исследователь лесковского творчества И. В. Столярова, проницательно указывает на творческую одержимость Н. С. Лескова поисками адекватных его писаниям жанровых форм, поисками, отличающимися «большой мерой теоретической осознанности» (126, с. 49). Действительно, в письме к Ф. И. Буслаеву (1877) Лесков выражает резкое недовольство «критическим бессмыслием» в понятиях самих писателей о форме их произведений: «Хочу, назову романом, хочу, назову повестью — так и будет. И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между тем, конечно, это не так.» (69, т. 10, с. 450).
Размышляя о специфике каждого из прозаических повествовательных жанров, Лесков указывает на трудности их разграничения: «Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в их трёх последних формах он может быть только рисовальщиком, с известным запасом вкуса, умений и знанийа, затевая ткань романа, он должен быть ещё и мыслитель."(там же, с. 451).
Бели обратить внимание на подзаголовки лесковских творений, то становятся очевидными как постоянное стремление автора к жанровой определённости, так и необычность предлагаемых дефиниций вроде «пейзажа и жанра», «рассказа на могиле», «рассказов кстати».
Проблема специфики лесковского рассказа в его сходстве-различиях с жанровым каноном осложняется для исследователей тем, что в критической литературе лесковского времени не было достаточно точных типологических критериев жанра рассказа в его отличиях от новеллы или маленькой повести. В 1844−45 годах в проспекте «Учебной книги словесности для русского юношества» Гоголь даёт определение повести, которое включает рассказ как её частную разновидность («мастерски и живо рассказанный картинный случай»), В отличие от традиции новеллы («необыкновенное происшествие», «остроумный поворот»), Гоголь переносит акцент на «случаи, могущие произойти со всяким человеком и «замечательные» в психологическом и нравоописательном отношении (63, с. 190).
В своём петербургском цикле Гоголь ввёл в литературу модификацию короткой психологической повести, получившей продолжение у Ф. М. Достоевского, JI.H. Толстого, а в дальнейшем и во многих рассказах («Красный цветок» В. М. Гаршина, «Палата № 6» А. П. Чехова и мн. др.).
При ослаблении фабульного начала, замедления действия, здесь возрастает сила познавательной аналитической мысли. Место необычайного происшествия в русском рассказе веб чаще занимает обыкновенный случай, обыкновенная история, осмысленные в их внутренней значительности (63, с. 191).
С конца 40-х годов XIX века рассказ осознаётся как особый жанр и по отношению к краткой повести и в сравнении с «физиологическим очерком». Развитие прозы, связанное с именами Д. В. Григоровича, В. И. Даля, А. Ф. Писемского, А. И. Герцена, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, привело к выделению и кристаллизации новых повествовательных форм.
Белинский утверждал в 1848 году: «И потому же теперь самые пределы романа и повести раздвинулись, кроме „рассказа“, давно уже существовавшего в литературе, как низший и более лёгкий вид повести, недавно получили в литературе право гражданства так называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта» (6, с. 316).
В отличие от очерка, где преобладает прямое описание, исследование, проблемно-публицистический или лирический монтаж действительности, рассказ сохраняет композицию замкнутого повествования, структурированного вокруг определённого эпизода, события, человеческой судьбы или характера (63, с. 192).
Развитие русской формы рассказа связывают с «Записками охотника» И. С. Тургенева, объединившими опыт психологической повести и физиологического очерка. Рассказчик почти всегда является свидетелем, слушателем, собеседником героевреже — участником событий. Художественным принципом становится «случайность», непреднамеренность выбора явлений и фактов, свобода переходов от одного эпизода к другому.
Минимальными художественными средствами создаётся эмоциональная окраска каждого эпизода. Опыт психологической прозы, знакомой с подробностями чувства", широко использован в детализации впечатлений рассказчика.
Свобода и гибкость эскизной формы, натуральность, поэтичность рассказа при внутренней остроте социального содержания — качества жанра русского рассказа, идущего от «Записок охотника». По мнению Г. Вялого, «драматической действительности традиционной новеллы Тургенев противопоставляет лирическую активность авторского повествования, основанного на точных описаниях обстановки, характеров и пейзажа. Тургенев приблизил рассказ к границе лирико-очеркового жанра. Эта тенденция была продолжена в народных рассказах JL Толстого, Г. И. Успенского, А. И. Эртеля, В.Г. Короленко» (63, с. 192).
По мнению Б. М. Эйхенбаума, новелла не только строится на основе какого-либо противоречия, несовпадения, ошибки, контраста, но и по самому своему существу новелла, как и анекдот, накопляет весь свой вес к концу, именно поэтому новелла, по формуле Б. М. Эйхенбаума, — «подъём в гору, цель которого — взгляд с высокой точки» (155, с. 292).
Б.В. Томашевский в своей книге «Теория литературы. Поэтика», говоря о прозаическом повествовании, делит его на две категории: малую форму, отождествляя её с новеллой, и большую форму — роман (137, с. 243). Учёный уже указывает на все «узкие» места в теории жанров, отмечая, что «признак размера — основной в классификации повествовательных произведений — далеко не так маловажен, как это может показаться на первый взгляд. От объёма произведения зависит, как автор распорядится фабульным материалом, как он построит свой сюжет, как введёт в него свою тематику» (там же, с. 243).
Чрезвычайную важность для разработки нашей проблемы обретает типологическая характеристика жанра новеллы, отождествляемой «в русской терминологии с рассказом»: по мнению Б. В. Томашевского, новелла обладает обычно «простотой фабулы, с одной фабульной нитью», развивается не в диалогах, а преимущественно в повествовании, а развитие её фабулы отличается большей, чем, например, в драме свободой. Кроме того, по точному наблюдению теоретика, «в новелле гораздо большую роль играет сказовый момент» (137, с. 244). Основным признаком бесфабульной новеллы как жанра Б. В. Томашевский считает «твёрдую концовку»: «Новелла не должна обладать обязательно фабулой, приводимой к устойчивой ситуации, равно — она может и не проходить через цепь неустойчивых ситуаций. Иной раз описания одной ситуации достаточно для тематического заполнения новеллы. В фабульной новелле такой концовкой может быть развязка» (там же, с. 245).
Э. Эннекен говорит о свободной форме в русском искусстве. По его описанию, в русском искусстве — в прозе Тургенева — форма не угнетает предметное содержание, а как бы отпускает его на волю. «Русская форма даёт более богатое, удвоенное переживание — и предмета самого по себе, и его эстетического значения. Русская фраза, русское слово и русское описание просторны, они вмещают также предмет, как он есть до его обработки искусством» (цитируется по книге Н. Я. Берковского «Мир, создаваемый литературой», с. 370).
Говоря о специфике художественной формы «Записок охотника», Н. Я. Берковский отмечает, что любой тургеневский рассказ там «строится так, что все эпизоды лирически значительные, возвышенные, трогательные, ходом рассказа относятся несколько в сторону. Сама форма очерков о ружейной охоте помогает этому: рассказ начат и закончен как случай из практики охотника по местам Орловской губернии, каков бы ни был этот случай, он подчиняется этому практическому ходу повествования, становится чем-то побочным ему, и не та или иная поэтическая встреча в центре рассказа, а постоянные интересы охотника» (8, с. 392). Нельзя говорить о всего лишь практическом «обрамлении» рассказов Тургенева, «если дела охотника составляют завязку и развязку рассказа, то они составляют также и его смысловой центр, они вторгаются вовнутрь рассказа, а поэтические эпизоды даны в композиции как нечто мимоидущее, смещённое в сторону от постоянного его центра. Всё это лишь указание на постоянные практические интересы жизни, обозначение для них, одна из форм для них, и эти интересы сильнее в рассказах Тургенева, чем тот или иной прекрасный эпизод» (8, с. 392).
Глубокая художественная реформа короткого рассказа связана с Ги де Мопассаном на Западе и с Чеховым — в России: «Оба писателя подводят итоги классического реализма 19 века, и их рассказы вобрали в себя опыт порт-ретно-изобразительной и психологической прозы. Чехов необычайно усилил объективность повествования, внешнюю отстранённость автора при абсолютной пластичности художественного изображения. Чем обыкновеннее казались объекты его рассказа, тем неожиданнее, оригинальнее становилось их освещение, авторский подход к ним. Чехов-рассказчик развивает пушкинскую линию русской прозы с её гармоничностью и лаконизмом» (63, с. 193).
В своей монографии «Проблемы поэтики А.П. Чехова» современный исследователь И. П. Сухих пытается определить специфику бытового рассказа: «Включение в рассказ развёрнутых пейзажных и портретных характеристик, авторского психологического анализа, словом, создание в тексте не только плана действия, но и плана повествования, — таковы признаки ещё одного жанра, который обычно называют бытовым рассказом, новеллой, коротким юмористическим рассказом» (132, с. 180).
Как видим, все эти теоретические выводы мало что проявляют в типологическом плане, поскольку верны лишь применительно к конкретному писательскому почерку. Но до недавнего времени не более ясности существовало и в теоретической науке, призванной дать чёткие дефиниции и разграничительные признаки, так Г. Н. Поспелов, теоретически разграничивая нравоописательный рассказ и новеллу как самостоятельные сущности, определяет рассказ как «малую жанровую эпическую форму художественной литературы, небольшое по объёму изображённых явлений жизни, а отсюда и по объёму текста.» (99, с. 73). Новелла, по мнению учёного, изображает «необычное бытовое происшествие, приключение, возбуждающее интерес читателя». В отличие от новеллы «нравоописательный рассказ — это короткое повествование о типических бытовых отношениях и состоянии общественных нравов», рисующее «в коротких сценках повседневную жизнь. В новелле писатель хочет показать необычное в жизни героев, в рассказе он интересуется именно обычным, тем, что возможно и бывает изо дня в день.» (99, с. 74). Кроме того, характерной для новеллы Г. Н. Поспелов считает острую интригу, внезапную развязку, быстроту развития действия, в то время как рассказ «отличают описательность, медлительность действия и статичность героев» (там же, с. 76).
Для Э. А. Шубина же новелла и рассказ — всего лишь разновидности малой формы эпического рода: «при всех возможных разграничениях рассказа и новеллы следует прежде всего учитывать, что производятся они в рамках одного жанра» (153, с. 138).
Л.И. Тимофеев совпадает с Г. Н. Поспеловым в определении рассказа как малой эпической формы, но обращает на себя внимание оговорка учёного-теоретика о том, «что в разные периоды истории литературы малая эпическая форма получала различные наименования. Её называли и рассказом, и повестью, и новеллой, в фольклоре — сказкой» (136, с. 348).
Что же касается собственного толкования жанра рассказа, то Л. И. Тимофеев считает его специфическим признаком сюжетную одноплановость: «Малая эпическая форма говорит об отдельном событии в жизни человека. Характер в силу этого показан как уже сложившийся, определённыйто, что было с ним до начала данного события и что будет после того, как событие завершается, остаётся вне повествования или затрагивается лишь попутноколичество персонажей невелико, поскольку они участвуют лишь в одном событии. Отсюда невелик и объем произведения"(там же, с. 349).
Л.И. Тимофеев отмечает, что «автор рассказа или романа не связан жизненным фактом: он может изменить его при помощи своего творческого воображения (вымысла), соединить несколько фактов в один и т. д. На основе ряда изменённых фактов писатель при помощи вымысла создаёт новый факт — художественный образ» (136, с. 349). Характерно при этом объединение у Л. И. Тимофеева признаков рассказа и романа воедино.
В своей монографии В. П. Скобелев, сводя воедино все имеющиеся точки зрения, обращает внимание, что «рассказы с развитой и неразвитой фабулой сближаются между собой в том, что опираются на повышенную активность „факта“. Эта новеллистическая активность особенно наглядна в анекдоте, который рассматривается как некое сюжетное целое, ещё, так сказать, недоработанное до новеллы». «Было бы, по-видимому, точнее говорить об анекдоте, — продолжает В. П. Скобелев, — как о стяжённом варианте малой формы, реферативном воплощении её возможностей, связанных с одномо-тивным движением фабулы» (112, с. 53).
В книге Е. М. Мелетинского «Историческая поэтика новеллы», основанной на материале всемирной литературы, не только рассматриваются вопросы происхождения жанровой структуры, формирования классических образцов новеллы, но и даётся классификация последних в историческом освещении и высказывается ряд очень важных соображений по поводу специфики русской новеллы. Для осмысления нашей проблемы чрезвычайно существенны суждения учёного о поэтике чеховских «малых форм», ведь не случайно в последнее время в науке всё чаще говорится о генетическом родстве поэтики Лескова и Чехова. «Восстановив в правах новеллу, Чехов как бы трансформирует её в „антиновеллу“, — замечает автор „Исторической поэтики новеллы“. — Затушёвыванию новеллистической остроты способствует стремление Чехова к минимальному выделению сюжета из полного случайных, но не отобранных, не кадрированных эпизодов жизненного потокаосновное действие часто прерывается случайными эпизодами» (85, с. 242). В связи с этим, новеллистическое событие в чеховской прозе теряет чёткую выделенность и исключительность.
В лесковском рассказе «случайность» кадрирования сюжетных событий, как мы убедимся на примерах разбираемых текстов, тем принципиальнее, что она зависит не от объективной хронологии происходящего с персонажем, а от видения рассказчика, не совпадающего с повествователем и автором. Столь же значим для Лескова и особый вкус к «микрособытию», отмеченный исследователем у Чехова, как зеркалу, в котором отражается мен-тальность лесковского персонажа. Нам представляется также, что выделенное Е. М. Мелетинским как чеховское в новеллистике («нарушение рациональной организации повествования и „рационального“ поведения героев») можно с полным правом отнести и к лесковским «малым формам».
Современные составители Словаря литературоведческих терминов И. А. Елисеев и Л. Г. Полякова используют типологические характеристики Л. И. Тимофеева, не предлагая ничего взамен. То же самое относится и к таким справочным изданиям, как Литературная энциклопедия, Краткая литературная энциклопедия, Энциклопедический словарь и т. п.
В трудах современных исследователей теории жанров новелла в её отличиях от рассказа трактуется как замкнутая форма, отличающаяся рядом структурных черт. Содержанием новеллы является «случай, выходящий за рамки повседневного, обыкновенного, даже просто вероятного», «нечто выходящее за пределы обычной организации самой действительности» (134, с. 245). При этом «редкое, нетипичное, невероятное становится в новелле знаком обычного, типического» (там же, с. 245). Иными словами, новелла пытается разглядеть за случайным закономерное, за поверхностью существенное.
В связи с этим двуплановость новеллистического события воплощает разные облики мира — трагически-бытийный и обыденно-прозаический и противоположное видение реальности. Отсюда и частое совмещение трагического и комического аспектов. А. В. Михайлов особо подчёркивает определяющую функцию новеллистического сюжета и отсутствие здесь описатель-ности и медитативности: «Единственная реальность в новелле — это её фактическая сторона, которая излагается как таковая, как бы по возможности вне посредующих членов, а потому единственная манера и стилизация, естественная для новеллы, — это стилизация под хронику с её объективностью» (134, с. 247).
Ещё одним существенным признаком бытования новеллы является, по справедливому утверждению исследователя, её латентная связь со стихией, сферой рассказывания, осознаваемой как художественная: «Тогда новелла выступает как вполне естественное оформление процесса рассказывания, как некий простейший структурный элемент этого процесса, вычленяющий в нём осмысленные части» (там же, с. 248).
В другой теоретической работе, обобщающей, в частности, историю возникновения и развития самого понятия «литературный жанр» (135), формулируются основные трудности, с которыми сталкивается в изучении литературы в этом аспекте теоретическая поэтика: установление соотношения между двумя значениями термина «жанр», а «вместе с тем между теоретической моделью жанровой структуры и реальной историей литературы» и определение «причин и следствий смены канонических жанров неканоническими» (135, с. 361). В поисках путей преодоления указанных трудностей авторы учебного пособия по теории литературы привлекают суждение Ю. Н. Тынянова, считавшего нецелесообразным и даже невозможным «изучение изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся» (там же, с. 276).
Однако с высоты достижений современной литературоведческой науки авторы первого тома учебного пособия для студентов филологических факультетов высших учебных заведений Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман позицию Ю. Н. Тынянова оценивают как отражение «сомнения либо в том, что неканонические жанры сохраняют собственное тождество, либо в том, что мы обладаем таким научным методом, который мог бы это точно определить» (135, с. 362).
Названным авторам недаром оказался близок сформулированный Г. Мюллером методологический парадокс: «Дилемма каждой истории литературного жанра основана на том, что мы не можем решить, какие произведения к нему относятся, не зная, что является жанровой сущностью, а одновременно не можем даже знать, что составляет эту сущность, не зная, относится ли то или иное произведение к данному жанру» (там же, с. 363).
Для самих исследователей проблемы жанра главный вопрос сводится к тому, «возможна ли универсальная модель жанровой структуры, т. е. такая, которая улавливала бы устойчивый „каркас“ в неканонических жанрах и позволяла бы их сравнивать с жанрами каноническими» (135, с. 363). Заметим, что здесь термин «неканонические жанры» относится к формирующимся или выходящим на авансцену литературы со второй половины XVIII — начала XIX века художественным структурам — роману, романтической поэме, новой драме, лирическим формам фрагмента или рассказа в стихах. В нашем же случае интерес представляет прежде всего модификация в лесковском творчестве, принадлежавшем второй половине XIX века, жанра рассказа по сравнению с уже сложившимися к тому времени жанровыми канонами.
И в этом ракурсе, как нам кажется, особого внимания заслуживают те страницы названной работы, где рассматриваются в типологическом освещении структурные особенности новеллы, повести и рассказа. Авторы пособия обращают внимание на стилеобразующие черты новеллистического канона как, по определению Гёте, «неслучившегося неслыханного происшествия», — «новизна» события, «остроумный поворот», сходство с анекдотомроль случая в разрешении противоречий как внутри персонажей, так и между их намерениями и обстоятельствами жизниотсутствие моральной оценки и сочетание традиционности с современностью" (135, с. 388). «Исследования, осуществлённые в русле этой традиции, — говорится в указанном труде, — показали, что комплекс структурных признаков этого жанра так или иначе связан с основной её особенностью — пуантом» (Там же, с. 388).
Термин «пуант», употреблённый авторами, расшифровывается здесь как «финальная перемена точки зрения (героя, читателя) на исходную сюжетную ситуацию, причём этот поворот может быть связан с новым, неожиданным событием, которое явно противоречит логике предшествующего сюжетного развёртывания» (135, с. 389). Говоря о событии рассказывания в повести и новелле, авторы указывают на объект изображения в новелле: это, по их мнению, «определённое стечение обстоятельств, послужившее поводом для рассказывания той или иной истории, и выделяет так или иначе личность рассказчика. <.> Новеллистическая история представляет собой или развёрнутую ответную реплику в споре, которая сама, в свою очередь, не бесспорна („После бала“ JI. Толстого), или, наоборот, повод для последующего обсуждения, оставляющего вопрос открытым: как история Беликова в „Человеке в футляре“ или Чимши-Гималайского в „Крыжовнике“» (135, с. 391).
Учёные-теоретики здесь сближают новеллу с анекдотом, установкой на «казус» — странный случай текущей современности или удивительный исторический факт (но не переосмысленный преданием, не мифологизированный, а сохранённый в качестве достоверного благодаря мемуарам или хронике) (там же, с. 389).
Этим свойством новеллы и определяется создаваемое ею новое видение житейской ситуации, убеждающее в то же время читателя в неполноте и относительности всяких готовых норм и моральных критериев. «Возвыситься над путаницей и странностями жизни рассказчику и слушателю-читателю помогает не какая-либо готовая истина, а юмор — адекватная реакция на парадоксальность существования и на торжество своевольной жизненной стихии над человеческими целями, планами и схемами» (135, с. 392−393).
Таким образом, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа и С. Н. Бройтман отрицают тождественность дефиниций — «новелла» и «рассказ», признавая возможность соотнесения рассказа с жанрами анекдота и притчи, с одной стороны, и с романом, с другой. Вопрос о структурных различиях рассказа и новеллы признаётся всё ещё не решённым, хотя и давно поставленным: по мнению авторов указанного труда, «для уяснения жанровой специфики рассказа необходимо, оставаясь в рамках „малой формы“, противопоставить его новелле» (там же, с. 393).
Специальные работы, посвящённые жанрологии лесковских «малых форм», появились недавно (кандидатские диссертации Б. А. Леоновой о мемуарных очерках Лескова и П. Г. Жирунова о жанре рассказа в творчестве.
Н.С. Лескова 80−90-х гг. XIX века. На эти работы и высказывания других лесковедов, намечающих некоторые важнейшие аспекты заявленной проблемы, мы и опираемся.
Вслед за Б. Эйхенбаумом исследователи обращают внимание на органичность повествовательной структуры лесковского рассказа для творческой манеры писателя и отличительные черты «малой формы» Лескова от беллетристики его эпохи. По мнению Н. Н. Старыгиной, рассказы писателя вполне соответствовали идейно-художественным тенденциям развития русской литературы начала 1860-х годов только на первый взгляд: «народная тема как главная в содержании, реалистические принципы построения действительности, исследовательский подход к предмету изображения, малые эпические формы, публицистичность были характерны для социологической прозы русских демократов. Но Лесков задумал <.> не изображение народной жизни «без всяких прикрас», а проникновение во внутренний мир простого человека для того, чтобы понять, на чём основываются его поступки, как он мыслит, думает, чувствует. «(122, с. 6−7).
Много говорится и о синкретизме лесковских повествовательных форм в их жанровых разновидностях. Так, Е. А. Сухарева, в очередной раз обращая внимание на яркую оригинальность лесковской жанрологии, замечает, что «в своём творчестве писатель обычно выходит за рамки какой-либо одной жанровой традиции, смело контаминирует в композиции своих произведений характерные структурные приёмы различных жанровых образований. <.> Многие из его произведений так или иначе тяготеют к новелле. <.> С художественной структурой новеллы их сближает и известное пристрастие Н. С. Лескова к анекдоту как основе сюжетного построения произведения. <.> Ярко представленные характеры сообщают эпическую глубину всему рассказу, который поначалу мог показаться всего лишь анекдотически забавной житейской историей» (130, с. 115).
Исследователи (начиная с Л.П. Гроссмана), в том числе В. Ю. Троицкий, обращают внимание на анекдотизм лесковских сюжетов — ярчайшую черту его стилистики и связанные с ним специфические трудности аналитического выявления авторской оценочности.
Вслед за Л. П. Гроссманом о «коварстве» лесковского письма говорит академик Д. С. Лихачёв в известной статье «Ложная» этическая оценка у Н.С. Лескова": «Произведения Н. С. Лескова демонстрируют нам (обычно это рассказы, повести, но не его романы) очень интересный феномен маскировки нравственной оценки рассказываемого. Достигается это довольно сложной надстройкой над повествователем ложного автора, над которым возвышается уже совершенно скрытый от читателя автор, так что читателю кажется, что к настоящей оценке происходящего он приходит вполне самостоятельно» (72, с. 177).
Со всей определённостью в своей монографии «Лесков — художник» В. Ю. Троицкий указал на чрезвычайную эстетическую функцию образа рассказчика в лесковской прозе, в том числе и в жанре рассказа (141, с. 148−162).
О.В. Евдокимова, тонкий и точный исследователь лесковского творчества, говоря о воплощении в образах лесковских рассказчиков «разных форм осознания какого-то явления», высказывает чрезвычайно ценную мысль о наличии в рассказах Лескова типичной для этого писателя структуры, наглядно схематизированной в том же самом небольшом рассказе, о котором говорит Д. С. Лихачёв. В «Бесстыднике» «личность каждого из героев выписана Лесковым колоритно, но не выходя за пределы той формы сознания, которую герой представляет. В рассказе действуют яркие личности, но обусловлены они сферой чувств и размышлений о стыде» (46, с. 106−107). И далее: «Любое произведение Лескова заключает в себе этот механизм и может быть названо „натуральный факт в мистическом освещении“. Закономерно, что рассказы, повести, „воспоминания“ писателя часто смотрятся как бытовые истории или картинки с натуры, а Лесков слыл и слывёт мастером бытового повествования» (Там же, с. 130).
О подобном сложном сплаве социального, бытового, морального и общечеловеческого в апофеозном «праведническом цикле» говорит И. В. Столярова: «. Лесков решительно отстраняется в своих рассказах о „праведниках“» от подобных (Достоевскому — Н.А.) мировоззренческих проблем. В центре его внимания — «примечательные характеры, описанные им с почти документальной точностью реальные людские судьбы, события и происшествия. <.> Главные сюжетные коллизии, на которых построены рассказы Лескова, — это, как правило, не противоборство идей, доктрин, теорий, а столкновение добра и зла, „совершенной“ альтруистической любви и холодного безучастия, высокой честности и беззастенчивой изворотливости» (126, с. 184).
О. С. Клишина в очередной раз обращает внимание на «речевую партию» персонажа в рассказах и повестях Лескова, состоящую, по мнению этого исследователя, из трёх элементов: а) общеразговорных, назначение которых — создать эффект достоверности, устного, преимущественно неофициального общенияб) социально-групповых и территориальных (определяющих общественное положение говорящего), которые будучи статусными корнями речевого поведения, не зависят от ролевых нормв) элементов, создающих неповторимую индивидуальность речевой системы конкретного лица (60, с. 106−107).
Но, пожалуй, чаще и подробнее всего в разного рода научных работах говорится о жанре святочного рассказа в лесковской интерпретации. Е. А. Макарова замечает, что в излюбленном этим писателем жанре рождественского рассказа, «которому он придаёт свою оригинальную трактовку и доводит до совершенства», Лесков «в литературе второй половины XIX века. по сути становится своеобразным вариантом русского Диккенса» (82, с. 70).
С.И. Зенкевич аргументированно убеждает в особой значимости для Лесковаг-художника святочной темы: «исподволь разработанная структура будущего святочного рассказа погружает в таинственную праздничную атмосферу и рассказчика, и заинтересованных необъяснимыми происшествиями слушателей». «Осознавая художественную необходимость фигуры рассказчика, чаще всего человека из простонародья, и окуная его в святочную ситуацию, Лесков именно ему представляет слово о чуде. В словосочетании „святочный рассказ“, по мнению исследователя, писателю в равной мере важны оба компонента» — и «рассказ», и «святочный». «.Как бы сформировав святочный рассказ из произведений крупной формы, он (Лесков — Н.А.) закономерно пришёл к нему, следуя внутренней логике своего творчества», -заключает исследователь (55, с. 105).
Становится очевидным, что проблема жанрологии лесковского рассказа не только назрела, но и уже осознаётся исследователями в её остроте и актуальности. Об этом, в частности, прямо говорит Т. В. Сепик: «Для творчества Лескова свойственно новаторское, экспериментальное отношение к жанровой практике. Новаторство этого рода само по себе представляет филологическую проблему, так как здесь размыты границы между рассказом и новеллой (конфликтность всех уровней воспринимается нами как показатель качества новеллы, а не обычного рассказа, тем более осложнённого сказовой формой), между повестью и мемуарами (некоторые рассказы делятся на главы, что более соответствует повести), повестью и очеркоммежду романом и хроникой (например, богатство задействованных персонажей и типов). Кроме того, не изучены и так называемые „новые жары“, практикуемые Лесковым. Литературная повествовательная норма, как стандарт, определяющий субъективную волю над объектной сферой художественного произведения, преобразуется в новую жанровую форму с неоднозначной характеристикой, с размытыми жанровыми границами» (108, с. 30−31).
При обращении к жанрологии того или иного конкретного художника исследователю остаётся только один путь познания — непосредственный анализ конкретных текстов, так или иначе соотносимых с традиционным жанром-прототипом. По отношению к лесковским «малым формам» работа обобщающего характера ещё не предпринималась, а художественные тексты, ставшие объектом нашего рассмотрения, изучались в других теоретических и проблемных ракурсах или не изучались вовсе. .
НОВИЗНА И АКТУАЛЬНОСТЬ нашей работы определяется и теоретическим ракурсом привлекаемых для анализа произведений, и введением в орбиту подробного аналитического освоения новых художественных текстов, не подвергавшихся проблемно-эстетическому разбору (таких, например, как «Старый гений», «Штопальщик», «Александрит») и являющихся наряду с «Воительницей» и «Тупейным художником» объектом нашего исследования. Характеризуемые автором в жанровом отношении по-разному — от «очерка» до «рассказов кстати», они способны ответить на многие возникающие вопросы. Сам отбор небольшого (сравнительно со всем корпусом подобных произведений в творчестве Лескова) круга «представителей» этого жанра и определяется указанной направленностью предпринятого исследования, его целями и задачами.
Для решения проблемы жанрологии «малых форм», на наш взгляд, необходим подробный анализ соответствующего художественного материала, как основы для теоретических обобщений. Эти соображения и явились предпосылкой нашего исследования, ОБЪЕКТОМ которого и стали лесковские рассказы в своеобразии их авторских жанровых определений.
Главной ЦЕЛЬЮ диссертационного сочинения является рассмотрение переходных и уже сложившихся форм лесковского рассказа в творческой эволюции, в эстетических модификациях привычного. Начав с «Воительницы», отнесённой автором к жанру очерка, мы рассматриваем так называемые «святочные рассказы» «Старый гений» и «Штопальщик», из «классических» для лесковской жанрологии — «Тупейный художник», и завершаем своё исследование произведением «Александрит» из цикла «рассказов кстати».
В связи с этим определилась и наша ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА — пользуясь проблемно-эстетическим анализом, овладеть стилевым содержанием каждого из изучаемых художественных текстов, фиксируя общие черты поэтики лесковского повествования и продвигаясь к типологическому осмыслению жанрологии этого уникального художника.
С постановкой и решением данных исследовательских задач связана АКТУАЛЬНОСТЬ предпринятого нами исследования.
В связи с необходимостью рассмотрения разных эволюционирующих повествовательных форм в рамках лесковского рассказа определился и ряд ЧАСТНЫХ исследовательских ЦЕЛЕЙ, главными из которых являются:
— выявление специфической художественной функции повествователя и персонажей как субъектов повествования;
— определение эстетической соотносительности «своего» и «чужого» в структуре жанрового образования;
— выяснение художественных функций ключевых слов;
— рассмотрение значимых элементов художественной формы (роль хронотопа, композиционных структур, эстетической функции числа и т. п);
— выявление способов непрямого воплощения авторской оценочности;
— типологический анализ каждого из рассматриваемых жанровых образований.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВАМИ исследования являются принципы изучения поэтики художественного текста, изложенные в трудах М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Д. С. Лихачёва, Ю. М, •.
Лотмана, Ю. В. Манна, Б. Я. Бухпггаба и др. В работе учтены научные достижения в изучении поэтики лесковского творчества современных исследователей: И. В. Столяровой, В. Ю. Троицкого, Б. С. Дыхановой, Е. В. Тюховой, О. В. Евдокимовой, И. П. Видуэцкой, Н. Н. Старыгиной, Е. В. Душечкиной, А. В. Лужановского, С. Ф. Дмитренко, Е. А Макаровой, Т. В. Сепика, Г. В. Мо-салевой и др.
Проблемно-эстетический анализ введённых в орбиту исследования лесковских художественных текстов опирается на конкретно-исторический, структурный, сравнительно-типологический, этимологический и статистический методы анализа.
Научная новизна настоящей работы определяется не только теоретическим ракурсом рассмотрения жанрологии изучаемых нами художественных текстов, но и неким неординарным объединением в контексте произведений, жанровая принадлежность которых самим автором определялась по-разному.
В связи с вышеизложенным на защиту выносятся следующие ПОЛОЖЕНИЯ диссертационной работы:
— поэтика лесковских «малых» жанровых форм складывалась в процессе его творческой практики и с учётом уже имеющихся жанровых образцов;
— эстетические открытия Лескова неизбежно приводили к трансформации и модификации традиционных элементов повествовательной формы, а дальнейшее развитие художественной системы опиралось на уникальность комбинаторики авторских эстетических открытий;
— творческие искания Лескова не замыкались глубоким художественным исследованием наличной реальностиметаязык художника и семантический объём элементов художественной формы имел тенденцию к возрастанию эстетической информативности;
— жанровые разновидности прозаического повествования у этого писателя были формой воплощения целостной картины социальной жизни в её «микрофрагментах»;
— исследования специфики поэтики «малых форм» неопровержимо свидетельствуют о целостности пути художника и его творческого мышления.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ диссертационного исследования в том, что его результаты могут быть учтены в дальнейшем изучении проблемы жанрологии «малых форм», поэтики Лескова, а материалы диссертации могут быть использованы при разработке общих и специальных курсов по истории русской литературы второй половины XIX века.
АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные положения диссертации неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры истории русской литературы, теории и методики преподавания литературы Воронежского государственного педагогического университета. Положения и выводы послужили основой для докладов на Международных конференциях «Эйхенбаумов-ские чтения» (Воронеж, 2002 и 2004), «Художественный текст и культура» (Владимир, 2003), «И. С. Тургенев и Ф. И. Тютчев в контексте мировой культуры» (Орёл, 2003), «Русское литературоведение в новом тысячелетии» (Москва, 2003), «Русская литература и внелитературная реальность» (Санкт-Петербург, 2003).
Работа состоит из введения, четырёх глав и заключения.
Во ВВЕДЕНИИ даётся обзор научной литературы по истории и эволюции малых эпических форм, реестр научных точек зрения на идеологическую и эстетическую природу лесковской жанрологии, обосновывается актуальность и научная новизна избранной темы, определяются объект и предмет «исследования», методологические основы работы, формулируются выносимые на защиту теоретические положения диссертации.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ работы излагается в четырёх главах, последовательно отражающих движение исследования к результату.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ искомые результаты обобщаются, демонстрируя сложившиеся в ходе исследования представления о законах эволюции поэтики «малых форм» в прозе Н. С. Лескова.
Список научных работ, используемых автором диссертационного сочинения состоит из 159 наименований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Результаты предпринятого исследования наглядно свидетельствуют о сложной эволюции поэтики так называемых «малых форм». В процессе подробного анализа нескольких разнотипных произведений писателя (в одном контексте оказываются «очерк» «Воительница», «рассказ-анекдот» «Штопальщик», «святочный рассказ» «Старый гений», «рассказ на могиле» «Тупейный художник» и один из цикла «рассказов кстати» — «Александрит») можно реконструировать процесс эстетических исканий «волшебника слова» и в области жанрологии, наблюдая прорастание тех зёрен, из которых и образовалось уникальное лесковское письмо, синтезировавшее многие традиционные элементы очерка, новеллы, анекдота, притчи, устного рассказа и «низового» просторечия.
Исследования трёх последних десятилетий существенно изменили устойчивые представления не только о природе лесковского сказа, но и о специфике социального критицизма писателя. Трансформация Лесковым устоявшихся жанровых моделей проявляется уже на уровне авторских подзаголовков, часто имеющих именно жанроуточняющий характер. Один из ранних «очерков» «Воительница» уже не укладывается в «прокрустово» ложе социальных «физиологий" — эксплуатируя укоренившиеся в читательском сознании жанровые стереотипы, Лесков исподволь начинает реконструировать их. Как бы оставляя в неприкосновенности фактографическую основу сюжета, автор на самом деле «выделывает» художество под «факт», меняя все привычные причинно-следственные связи в фабульном содержании и иерархическое положение повествователя по отношению к «низовому}) герою. ^).
Тупая сила «петербургских обстоятельств», вступая в острый конфликт с «самостью» личности из народной среды, чьё мироотношение складывается под воздействием множества факторов (в том числе — жизненной практики, приучающей доверяться здравому смыслу, а не мёртвой догме) и потому способно отозваться на голос сердца, теряет своё главенствующее значение.
Умаление роли повествователя в сюжете, отказ от «последнего» слова и монопольного владения истиной в пользу той правды, которой обладает, как выясняется в лесковском тексте, «нелепая мценская баба», оборачивается расширением метапространства текста «Воительницы». «Зона авторского изi |, I — — —¦ ¦ ¦ бытка» (термин М. Бахтина) возникает в связи с той знаковостью, которую обретают в повествовании «игра слов», язык пространственно-временных характеристик (выяснение отношений между столицей — Петербургом и провинцией — Мценском), который становится элементом системы косвенного воплощения авторской оценочности.
Жанровая основа традиционного «физиологического очерка» послужила Лескову лишь «каркасом» для художественного построения особого типа. Здесь уже нет необходимой «биографической» истории героини с обязательным фактографическим описанием окружающей среды. Всё это заменяет ряд анекдотических случаев, имеющих не только прямое, но и косвенное отношение к жизни персонажа. Движущей силой повествования становится здесь принципиально иное, чем в «натуральной школе», отношение к «чужому» слову, когда не прямая оценочная мысль повествующего, а живые, импровизационные повороты спора между повествователем и «воительницей» в совокупности проявляют глубину авторской художественной концепции.
Художественные открытия «Воительницы» будут развиты и приумножены в лесковских интерпретациях жанра «святочного рассказа», осложнённого в творчестве писателя несвойственным традиционной форме анекдо-тизмом — и стилевым, и содержательно-событийным. В семантической системе «Штопальщика» и «Старого гения» последовательно, с тенденцией к укрупнению значимости изображаемых явлений мелкого масштаба, традиционные устойчивые отношения в социуме курьёзным образом разрываются или переворачиваются.
Семантическая функция изображаемых автором казусов превышает по своей значимости внешний комизм. Лесков почти сохраняет буквальный смысл юридического термина, обозначающего случайное действие, имеющее внешние признаки правонарушения, но лишённое элементов вины и юридически не наказуемое. Но оригинальность авторского сюжетного построения и его развития в «Штопальщике» и «Старом гении» заключается в том, что они высвечивают русскую ментальность как умонепостижимую, отчасти перекликаясь с известным стихотворным афоризмом Тютчева, но не разделяя тютчевской абсолютизации принципа «веры».
Персонажи лесковских «святочных рассказов» не верят ни в какие отвлечённые «умствования»: истоки их «счастия» или «гениальности» — в курь- ' ёзном стечении житейских обстоятельств.
Таким образом, в большом контексте творчества Лескова оба святочных рассказа обнаруживают некие общие типологические принципы формирующейся авторской жанрологии:
Роль повествователя, некоего анонимного двойника биографического автора, сведена к функции свидетеля (в «Штопальщике» — свидетеля-слушателя), а в «Старом гении» — сообщника героини. Собственно рассказы «информаторов» и в том, и в другом случае являются сюжетообразующими, и действие разворачивается* имея все признаки реального случая.
Структурирование текста на небольшие главки становится устойчивым признаком лесковской повествовательной структуры и обретает стиле-образующий характер.
Анекдот в рамках традиционной жанровой формы «святочного рассказа» уже не сводится к роли комической «краски» образов-характеров или положений, становясь проявителем специфики русской национальной менталь-ности (Нечто подобное можно наблюдать в рассказе «Грабёж») (37, с. 157).
Чудо лишается мистической подоплёки- «смываемое» вполне объяснимыми причинами, при этом оставаясь чудом в других ипостасях: чудо портновского искусства, а не вывеска — основа благосостояния штопальщикачудо народной смётки — основа установления справедливости (а понадобится — и мошенничества).
Эти и другие эстетические накопления Лескова по-новому, в зависимости от контекста, проявятся в «Тупейном художнике».
В ходе анализа «Тупейного художника» со всей очевидностью выясняется, что архаичные представления о числе обретают здесь новую жизнь, становятся стилеобразующими, давая дополнительный толчок воображению читателя и находясь в гармонической соотнесённости со всеми элементами поэтики рассказа.
Автор «Тупейного художника», безусловно, не занимался подсчётами такого рода: подобные «совпадения» возникают в истинном искусстве, являясь продуктом подсознательной сферы авторского художественного мышления, будучи связанными в тексте с интуитивным его уровнем. Но статистические показатели текста, выявленные при анализе, не могут не свидетельствовать о широте знакового диапазона в лесковских малых жанровых формах, о развитии и обогащении в них эстетических способов выражения авторской оценочное&trade-, об интенсивной информативности всех элементов художественной формы.
Семантическая функция лесковской «нумерологии», «игры словом», особая значимость контекста для выявления подспудных смыслов «ключевых слов», соотношение «своего» и «чужого» слова в повествовании связаны с общей утратой стабильности, с чувством всеобщей фантастичности и тотальной путаницей некогда незыблемых понятий, с современностью, где оказались неожиданно размыты или ниспровергнуты все фундаментальные нормативы человеческого поведения.
Однако принципиальная амбивалентность нравственных категорий, демонстрирующая объективные «факты в фантастическом освещении», в поэтике лесковских «малых форм» свидетельствует не о крахе национального сознания и жизнеустройства, а о присутствии в происходящем некоей иррациональной логики.
Именно поэтому объективные факты в рассказе «Александрит» не растворяются в наивной «мистической» интерпретации героя, не становятся ма.
Ill териалом для аллегорий у повествователя — в неожиданном освещении они обнаруживают свои возможные подспудные свойства. Оппозиция «истина» -«заблуждение» здесь представлена как гипотетическое допущение природного и жизненного дуализма.
Проблемно-эстетический анализ одного из поздних произведений Н. С. Лескова «Александрит» показал «расширение» жанровой природы лесковского рассказа за счёт синтеза жанрообразующих признаков рассказа, новеллы, очерка и ограничение сказовых приёмов. Виртуозная комбинаторика всех элементов «малой формы», использование их образного языка, демонстрируемая на материале одного из «рассказов кстати», свидетельствует о неисчерпаемых возможностях Лескова — художника, об универсальности и гибкости поэтики этого писателя и взаимосвязи всех жанров в его творчестве.
Можно констатировать, что жанрология «малых форм» в творчестве «волшебника слова» тяготеет к структурам очерка (установка на «слово-факт» и невыдуманное происшествие), новелле (с непредсказуемостью её сюжета, пуантом, «фрагментарной» организацией повествования, случайным характером событийного стечения обстоятельств), анекдоту (с парадоксальным совмещением несовместимого), рассказу (с рассказчиком из чуждой повествователю среды) — т. е. к видовым формам, присутствие которых можно наблюдать и в лесковских повестях (таких, как «Очарованный странник», «Смех и горе», «Заячий ремиз» и др.). Близко соприкасаясь с лесковской повестью, «малые жанры», однако, имеют свою специфику. Она — в сгущении сюжета, в тематической локализации, в «умалении» персоналий, в стремительности сюжетного движения. В то же время в «малых» жанровых формах Лесков рассматривает «мелочи жизни» как бы сквозь увеличительное стекло, укрупняя их значимость, придавая им глубокий сущностный смысл.
Размышления о специфике объекта исследования приводит, таким образом, к выводам, свидетельствующим о целостности и единстве пути Лескова-художника, о чрезвычайной свободе и гибкости его повествовательной манеры, о своеобразном синкретизме стилистики, где в «снятом» виде нал ичествуют все традиционные видовые признаки, но их комбинаторика в каждом отдельном тексте непредсказуема и неповторима.
Малые" жанровые формы в творчестве писателя были своеобразным «полигоном» для апробации художественных идей Лескова, стремящегося в каждом проявлении бытового, будничного, мелкого увидеть отсвет бытийного, складывающего из мозаики разнородных «случаев» картинку народной жизни.
Пунктиром обозначающие эволюцию поэтики «малых жанровых форм» исследуемые нами художественные тексты выявляют основные тенденции творческих целей писателя, находящих своё эстетическое воплощение в разных элементах художественного целого, отмеченных общностью индивидуального почерка этого художника, позволяя более объёмно представить этапность художественных исканий Лескова и определить их значимость в истории русской прозы второй половины XIX века. из.