1925 годы.
История русской литературы XX века
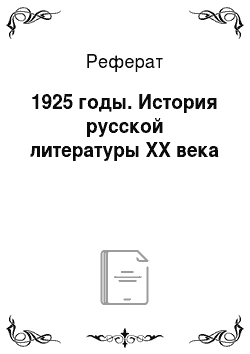
Между тем отношения с эпохой у лирического героя цикла «Стихи 1921−1925 годов» складываются драматически. Поэт осознает и свою несвободу, зависимость от времени («И некуда бежать от века-властелина…»), и одновременно изгойство, отчужденность («Нет, никогда, ничей я не был современник…»). Ощущение себя «пасынком веков» обусловлено все той же типологией разлома времен, в атмосфере которого… Читать ещё >
1925 годы. История русской литературы XX века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Третий (переходный) период творчества Мандельштама приходится на первую половину 1920;х гг. Стихи, написанные после «Tristia», Мандельштам впоследствии включит в издание последнего прижизненного сборника " Стихотворения" (1928), объединив их в раздел под названием " Стихи 1921−1925 годов" . Этот цикл возник как бы на тектоническом сдвиге времен, поэтому семантика стыка пронизывает его тематику и поэтику. Если в «Tristia» сосуществовали два мира (старый и новый), то сейчас старый мир отошел в прошлое. Единство времени, как и предвещалось в «Сумерках свободы», распалось.
Главная тема цикла «Стихи 1921−1925 годов» — разлом и убывание времени, а интегральный символ — век с «перебитым позвоночником». «Век-зверь» из стихотворения «Век», написанного в 1922 г., — это еще не «век-волкодав» из стихов 1930;х гг. В семантике образа на первый план выступает живая органика «смертельно ушибленного» существа, но теперь век уже способен убить и оболгать: «Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? / Какую выдумаешь ложь?» Он может потребовать себе в жертву жизнь: «Снова в жертву как ягненка / Темя жизни принесли». Кровь, хлещущая из «разбитого позвоночника» века, обескровливает, лишает жизненных сил земные вещи. Вот почему мотив сухости хрупкости, ломкости в «Стихах 1921−1925 годов» становится одним из магистральных. Стихийный разлив закончился, мир вновь возвращается к твердым, структурированным формам (отсюда образы позвоночника, хребта, хряща), но затвердевание происходит в хаотическом, спутанном состоянии. Это состояние непрочности в сочетании с жесткостью (затверделостью) становится определяющим в характеристике картины мира в цикле. Сама вселенская «плоть бытия», как бы истончаясь, уподобляется соломе — отсюда уподобления мирозданья «древнему хаосу» сеновала, огромному возу сена («Я не знаю, с каких пор…», 1922; «Я по лесенке приставной…», 1922).
Однако наряду с темой конца в «Стихах 1921 — 1925 годов» контрапунктом намечается и тема начала. Ее образное воплощение связано исключительно с природными и органическими явлениями (так, усыханию соломы противопоставлена семантика зерна и хлебной опары — «Как растет хлебов опара…», 1922). В социокультурном плане начало «нового мира» представлено фактически в модальности сослагательного наклонения или будущего времени («…известковый слой в крови больного сына / Растает…»).
Не случайно в стихотворении " Грифельная ода" лирический герой называет себя «двурушником с двойной душой». Во-первых, потому, что он тоскует по старой культуре и одновременно хочет влиться в новую жизнь; во-вторых, потому, что ему приходится по-новому ставить и решать проблему тождества природы и культуры в ситуации послереволюционной смерти последней. Но может ли культура, разрушенная до основания, возродиться? По Мандельштаму, может, ибо смерть культуры означает возвращение назад к природным истокам: «Обратно, в крепь, родник журчит / Цепочкой, пеночкой и речью» .
Между тем отношения с эпохой у лирического героя цикла «Стихи 1921−1925 годов» складываются драматически. Поэт осознает и свою несвободу, зависимость от времени («И некуда бежать от века-властелина…»), и одновременно изгойство, отчужденность («Нет, никогда, ничей я не был современник…»). Ощущение себя «пасынком веков» обусловлено все той же типологией разлома времен, в атмосфере которого находится поэт, чья жизнь подвержена тем же энтропийным процессам старения, угасания, усыхания. Отсюда определение поэта, дар которого не востребован временем, — «черствый пасынок веков». В роли «сына-пасынка» поэт наследует и испорченную, «усыхающую» кровь своего века («Известковый слой в крови больного сына / Твердеет…»). «Умиранье века» инспирирует и буквальное убывание жизни поэта, связанного с веком органической связью:
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох.
Еще немного — оборвут Простую песенку о глиняных обидах И губы оловом зальют.
(«1 января 1924»).
В ситуации «распада» времени поэт не только констатирует «распавшуюся связь времен», но и ставит вопрос о преодолении «разорванного» состояния мира": " Кто своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?.." Уничтожить трагический разрыв, «склеить позвонки», по Мандельштаму, можно только с помощью «ученичества у природы» («Грифельная ода») и у искусства, понимаемого как личная жертва («Век»):
Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Надо флейтою связать.
Поэтика цикла «Стихи 1921 — 1925 годов» еще более усложнена, чем в «Tristia». Появляются темноты, нуждающиеся в специальном комментарии. Причина этому — пропуск логических звеньев, которые невозможно восстановить, исходя из контекста стихотворения или цикла. Они связаны с широким контекстом культуры либо с субъективными авторскими ассоциациями. Те «сдвиги» и «провалы», которые Мандельштам констатировал на мотивном уровне в природном бытии и в самом течении времени, на уровне поэтики привели к семантическим разрывам в смысловом развертывании текстов[1]. В результате поэтика многих стихотворений становится сугубо метонимичной, нуждающейся в специальном герменевтическом комментарии.
- [1] Например, начало второй строфы «Грифельной оды» " Мы стоя спим в густой ночи / Под теплой шапкою овечей…" , с одной стороны, ассоциируется с «пахнущей дымом» овчиной из «Tristia» (где семантика «косматости», «овчиности» символизировала по-скифски дикое, опрощенное начало мира). С другой стороны, этот образ навеян портретом Державина работы Тончи, на котором поэт изображен в шубе и мохнатой шапке. Образ восходит к сугубо авторской ассоциации, не обязательно известной читателю. В итоге «овечьи» мотивы «Грифельной оды» воплощают природное, «опрощенное» начало, к которому как бы возвращается культура, но логическая мотивировка этого процесса и его потенциальная (изначальная) культурологичность спрятаны в подтекст.