Власть судьбы в «анахронистических рассказах» Б. А. Грифцова
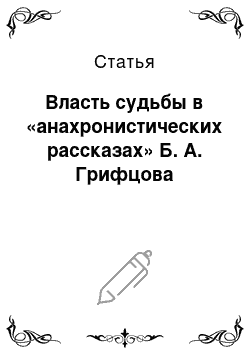
Грифцов иронически обыгрывал отдельные высказывания Заратустры, буквализируя заложенные в них смыслы. Так, бегство Альманова и принятое им решение в Трирогово больше не возвращаться могут быть прочитаны как «отклик» на рефрен главы «Семь печатей (или: пение о Да и Аминь)» «Книги для всех или ни для кого». Герой Грифцова не «стремится к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения… Читать ещё >
Власть судьбы в «анахронистических рассказах» Б. А. Грифцова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ВЛАСТЬ СУДЬБЫ В «АНАХРОНИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ» Б. А. ГРИФЦОВА Т. Н. Фоминых
Метафизические аспекты власти неразрывно связаны с понятием судьбы, рока. Тема власти судьбы, роковой предопределенности событий входит в разряд вечных и, так или иначе, присутствует в литературе на всем ее протяжении — от древности до современности. Есть, однако, художественные тексты, в которых ее решение заслуживает специального внимания, «Анахронистические рассказы» Б. А. Грифцова, на мой взгляд, относятся к их числу.
Борис Александрович Грифцов (1885−1950) знаком современному читателю главным образом как переводчик (Бальзак, Мериме). Философам известна его ранняя работа «Три мыслителя. В. Розанов. Д. Мережковский. Л. Шестов» (1911). Специалисты по мировой художественной культуре знают Грифцова как автора справочника-путеводителя по Риму, выдержавшего два издания (1914, 1916), и монографии «Искусство Греции» (1923). Филологам знакомо написанное им в 1924 г. и опубликованное только в 1988 г. исследование «Психология писателя». Грифцов-прозаик, к сожалению, менее известен, хотя его художественные произведения появлялись в периодике 1900— 1920;х гг. «Анахронистические рассказы», подготовленные к публикации в начале 1927 г., не были напечатаны; их издание осуществилось лишь в 2008 г. [3]
«Анахронистические рассказы» относятся к числу неоправданно забытых книг и подтверждают мнение Б. Горнунга, младшего современника Грифцова, о нем как о человеке, который, став «властителем дум» следующего поколения, в своем так и не был признан. «Как бы то ни было парадоксально, — замечал Горнунг, — я все-таки готов утверждать, что даже Б. А. Грифцов и Б. К. Лившиц (непрерывно печатавшиеся в 10-х гг., получившие тогда известность и формально (выделено автором. — Т. Ф.) входившие тогда в разные „группы“) не нашли себе место в своем поколении и остались в нем „непонятыми“ одиночками».
«Анахронистические рассказы» носят автобиографический характер, биографическую подоплеку мог иметь в них и авторский интерес к теме власти судьбы, однако сводить его только к жизненному опыту писателя было бы ошибочно. В посвящении Грифцов замечал, что его книга имела не только «реальный „биографический“ смысл», это замечание в полной мере относится и к предпринятому им решению темы судьбы, не единственной в «Анахронистических рассказах» темы, но все же одной из главных.
Внимание писателя к теме власти судьбы было связано с его профессиональным увлечением древним греко-римским искусством. О восприятии им античности позволяет судить, в частности, принадлежащая ему рецензия на «Древнегреческую религию» Ф. Ф. Зелинского. Дав в целом высокую оценку рецензируемой работе, критик замечал: «Разве одна только часть книги нуждалась бы в точке зрения более сложной. <…>Проф. Зелинскому, в частности, важно показать, как в лучших своих частях христианство зависимо от традиций греческих. Но настанет, по-видимому, время сказать нечто большее, выделить те понятия, которые презрело христианство, обрекши тем себя на конечное бесплодие. Такова, например, идея рока, упрощенно трактуемая проф. Зелинским как закон причинности. Такова же идея оправдания добра, для существа греческой религии едва ли характерная, скорее только способствовавшая вырождению эллинизма. В этой части, думается, построения проф. Зелинского должны быть дополнены и углублены в духе того восприятия Греции, которое дали Эрвин Роде и Ницше в Германии, Иннокентий Анненский у нас».
Оставляя в стороне справедливость упреков Грифцова, адресованных Ф. Ф. Зелинскому, замечу, что приведенное высказывание, как и ряд аналогичных ему, содержащихся и в путеводителе по Риму, и в монографии, посвященной искусству Греции, дают основание видеть в Грифцове приверженца сложившихся на рубеже XIXXX вв. и связанных прежде всего с именем Ф. Ницше новых представлений об античности.
Ницше был одним из кумиров Грифцова 1900— 1910;х гг., об этом свидетельствуют его статьи и первые прозаические опыты. Так, свою программную статью «Два пути» (1907) Грифцов начинал с упоминания имени Ницше, сочувственно цитировал его слова («Wir mussen bestandiig unsre Gedanken aus Schmerz gebaren». Nietzsche; «Наши мысли должны мы постоянно рождать из нашей боли». Ницше), связывал с «переживанием» философии Ницше наиболее перспективный путь развития искусства — «путь, признающий многогранность жизни и непреходящую ценность переживаний каждого индивидуума, значимость всех иррациональных <…> настроений, признающий великую Тайну и Чудо жизни».
В русле обозначенных представлений находилась ранняя проза Грифцова, восходящие к философии Ницше идеи питали художественные интуиции автора. Показательна в этом отношении его миниатюра «Милая смерть» (1907). Лирический герой, томимый «грезами о далеком», оставляет возлюбленную и, слыша, как «сходят с души все крики и краски», как «душа делается белой, белой», идет «неизменно, твердо» туда, где «ни звука», где «холодно», где «замкнулось белое льдистое одиночество». Герой сам выбирает свою судьбу и «решительно» шагает ей навстречу, «жадно и радостно» вдыхая «холодный воздух». Примечательно, что в рукописном варианте, хранящемся в ОР ИМЛИ, данная миниатюра называлась «Amor fati».
Отсылку к Ницше можно обнаружить уже в посвящении-предисловии, которым открываются «Анахронистические рассказы» и где выражаются авторские взгляды на творчество, в том числе и на очередное — публикуемое — творение. Значительное место в нем Грифцов отводил собственным рефлексиям по поводу рассказов, парадоксальным образом появившихся на свет; он посвящал их П. П. Муратову «как ремесленник ремесленнику». Представления Грифцова о писателе-ремесленнике, содержащиеся в посвящении, восходят к эстетике немецких романтиков и к «Веселой науке» (1881) Ницше, в которой он, как известно, впервые использовал формулу «любовь к судьбе».
В культуре существуют разные модели взаимоотношений человека со своей судьбой. В «Анахронистических рассказах», на мой взгляд, поступки всех главных героев, так или иначе сопряжены со смыслами, которые Ницше вкладывал в формулу «Amor fati». Важно подчеркнуть, что восходящие к Ницше представления, в том числе и о «любви к судьбе», в «Анахронистических рассказах» подвергаются ироническому переосмыслению. В рассказе «Потомок Дон Жуана», например, очевидно их авторское неприятие.
Потомком Дон Жуана считает себя Владимир Ругов. Увлекая за собой одну из своих возлюбленных, он бросает вызов самому Провидению. Никогда поединок с судьбой не казался ему таким привлекательным. «Никогда для него жизнь не бывала столь мгновенной» (с. 17), — замечал автор. Герой, стремясь подчинить жизнь книжным стереотипам (Дон Жуану «недостойно отступать без поединка»), играет в жизнь. Его игра оборачивается сломанными судьбами, оборотной стороной его самоутверждения оказываются чужие загубленные жизни. Грифцов видит в своем Дон Жуане тягу к эстетизации жизни, стремление подменить ее сущность кажимостью. В послесловии он называет своего героя «самонадеянным», чем еще раз подчеркивает его «сверхчеловеческие» претензии, его чрезмерную уверенность в своем праве вмешиваться в жизнь, менять ее естественное течение по собственному усмотрению и в угоду умозрительным представлениям. Его Дон Жуан любит не Мари, Каролину, Веру, а свою любовь, которая на деле оказывается не чем иным, как amor fati.
Комическую аранжировку представления о «любви к судьбе» приобретают в рассказе «Мелузина»; здесь они буквализируются и таким образом доводятся до абсурда. Amor fati определяет внутренний облик кузена Альманова. По словам автора, он «показал себя подлинным иностранцем», когда, упражняясь в красноречии в обществе тетушек и кузин, «не устыдился прочесть свою лирическую декламацию», воспринятую родственницами как «проект» поджечь их дом: «Вы, живущие здесь, молчаливы. Вы говорите о свадьбах и похоронах, о новорожденных и новопреставленных. Но вы молчаливы. Над вами восходит грозное солнце, и вы отворачивайтесь от него. Но и вы не обрадовались ли бы разве, увидав, как огонь поглотит заборы, стены, клетушки, сараи и ольшаники? Не хотели ли бы и вы, чтобы обрушилась также гора, с собою увлекши лапчатыми корнями поднявшиеся к небу сосны? Вот песочный обвал засыплет и сравняет с лугом реку. Вот поля поглотят еле поднявшиеся над ними строения. Они возвращаются в свое лоно. Они акциденциальны, не субстантивны» (с. 61). «Лирическая декламация» героя была названа слушательницами «галиматьей», а сам он поднят ими на смех.
В своем «трактате» Альманов, взявший себе в наставники Заратустру, едва ли не буквально «перепер» «на язык родных осин» эсхатологию Ницше (его рецепцию идеи «вечного возвращения», его декларацию о «любви к судьбе», его жажду «своей собственной бури» — приобщающей к вечности катастрофы). Обращают на себя внимание прямые текстуальные переклички финала «Книги для всех или ни для кого»: «Это мое утро, брезжит мой день: вставай же, вставай, великий полдень! — Так говорил Заратустра и покинул пещеру свою, сияющий и сильный, как утреннее солнце, подымающееся из-за темных гор» [11], — с пассажем, открывающим «лирическую декламацию» Альманова: «Начинается твой день, твое солнце восходит над тем вон лесом» (с. 61).
По словам современного исследователя, «надеясь помочь людям в преодолении их застарелой болезни — отчуждения, понимаемого как „вечное бегство… от себя самих“, рассчитывая на „новое искание себя“ современным человеком, философ пробуждал в нем задремавшую, по его убеждению, „волю к власти“». Герой Грифцова, следуя заветам Заратустры, попытался сбросить с себя «груз культуры» — «себя найти в здешних изо дня в день единообразных заботах». Однако проснувшаяся в нем «воля к власти» (как проявление «дионисийского» иррационального начала в человеке) исчерпала себя в ничем не мотивированном спонтанном отъезде. Погружение «культурного» человека в «лоно природы» не приблизило его к истокам, не вернуло его к самому себе. Вместо себя, вместо утраченной ранее душевной гармонии герой обрел в Трирогове многочисленных родственников, странствие «на родину души своей» закончилось возникновением у него острой «потребности бежать отсюда».
В контексте ницшеанских ассоциаций следует воспринимать бегство Альманова сразу после венчания с одной из кузин, прочитывающееся как пародия на его декларации о любви к судьбе. Вместо того, чтобы, обнаружив характерную для сверхчеловека мужественность, устремиться навстречу року (здесь — роковой неизбежности стать супругом Ольги-Мелузины) и самому «задуть <…> свою свечу», найдя «погибель» в блаженстве супружеской жизни, почитатель Ницше «бежит» прямо в противоположную сторону, забывая о присущей сверхчеловеку «Атог fati».
Грифцов иронически обыгрывал отдельные высказывания Заратустры, буквализируя заложенные в них смыслы. Так, бегство Альманова и принятое им решение в Трирогово больше не возвращаться могут быть прочитаны как «отклик» на рефрен главы «Семь печатей (или: пение о Да и Аминь)» «Книги для всех или ни для кого». Герой Грифцова не «стремится к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения», как Заратустра, неоднократно повторявший: «О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения? / Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность! / Ибо я люблю тебя, о Вечность!». Он в прямом смысле слова отказывается от возвращения в семейное лоно, от «брачного кольца» — отказывается от желания обрести себя в качестве супруга и главы семейства. «Искание себя» на ниве брака и семьи завершается для героя опасениями, связанными с тем, что «его будут искать» и, что хуже того, найдут.
В связи с темой «любви к судьбе» особое значение приобретает рассказ «Переселение душ», справедливо считающийся лучшим рассказом Грифцова. Фабула (встреча героя Николая Бредихина с девой Лахесой, определяющей человеческую судьбу, его очередное перевоплощение) взята из десятой книги «Республики» Платона, упоминающейся в первой же строке рассказа. Платоновские цитаты, непосредственно введенные в текст, указывают на ее (фабулы) источник. В изложении истории, восходящей к Платону, у Грифцова появляются новые нюансы, в «первоисточнике» отсутствовавшие. Лахеса позволяет Бредихину, пусть ненадолго, остаться наедине со своими прежними «образами». Бредихин обсуждает с ней предыдущие свои воплощения, в частности отказывается признать вероятность своего участия во взятии Бастилии на том основании, что ему в «слишком короткое время» пришлось бы перевоплощаться в княгиню. Лахеса упрекает его за неуравновешенность, за самонадеянность, за то, что он, «не созрев для жизненной полноты», спешит «хотя бы кое-как воплотиться», за то, что он колеблется в выборе очередной своей судьбы.
В десятой книге «Республики» находит объяснение и последняя воля героя. Платон подчеркивал, что, совершая очередной выбор, души помнили о своей прежней жизни. Бредихин, по замечанию автора, «разочаровавшись в верности людей и благости Бога», предпочел сделаться собакой. Решение превратиться в собаку было принято им в надежде на радикальное перерождение как попытка кардинально изменить свою участь, сбежать наконец от самого себя.
В «Переселении душ», как и в других «Анахронистических рассказах», видна комическая аранжировка ницшеанских представлений об исканиях современным человеком самого себя, попытках современного человека сбросить с себя «груз культуры» и т. п. Еще раз замечу, что «заветы» Ницше у Грифцова приобретают отчетливо выраженную утрированную форму.
Сбежать от себя самого для Бредихина значило избавиться от преследующей его любовной «чумы». В итоге он достигает поставленной цели. Эрот в облике «стройненькой мисс» вновь подстерегает его, в ее лице «родственная душа», несмотря на полное его преображение, узнает-таки в нем своего «милого друга». Однако очаровательной английской путешественнице остается только прослезиться при виде страшной участи, постигшей ее «вторую половинку». Щенок, хотя вроде бы и не понимает ничего, заливается веселым лаем, предвкушая свободу. В концовке рассказа отчетливо слышна авторская ирония и по поводу этого щенячьего восторга, и по поводу связанной с ним очевидной мысли: чтобы обрести себя самого, человек должен окончательно себя потерять, перестать быть человеком; избежать «яда любви» можно только ценой отказа от человеческой жизни.
Следует подчеркнуть, что идеальное состояние душа героя обретает не в республике, а в опоясывающих Рим окрестностях, в сознании Грифцова ассоциировавшихся с природной первозданностью, на фоне которой, по его замечанию, терял свое величие даже вечный город: «И если обернуться назад к Риму, он кажется небольшим, затерянным, со всеми своими веками, стилями, переменами судеб. Нет места, которое сплотило бы до такой степени непосредственные впечатления и мысли о судьбах, веках». В этой «необыкновенной, странной местности безмолвия и вечности» душа Бредихина, впервые вполне довольная собой, впадает в беспричинное веселье. Авторская ирония по поводу отмеченной метаморфозы очевидна: отказываясь от «груза культуры», человек переходит в животное состояние.
Примечательно, что, размышляя об очередной своей судьбе, герой рассматривает возможность сделаться камнем. Напомню, что сначала Бредихин хочет «лечь камнем, булыжником возле арки Друза», затем ему кажется, что «лучше» расположиться «немного подальше», и только потом он просит Лахесу позволить ему «быть псом, дворняжкой». Камень символизирует согласие с собой (одно из его значений). Стремление героя превратиться в булыжник свидетельствует, прежде всего, о намерении лишиться всякой чувствительности, не знать душевной боли, как не знают ее камни, используемые для мощения дорог. «Бесчувственный» булыжник как символ преодоления внутреннего разлада указывает на травестированное восприятие автором представлений о достижении абсолютной гармонии.
Друзья Николая Бредихина, посетившие его жилище после смерти друга, недоумевают: «Что за странная также манера — умирая, читать Платона» (с. 21). Комическую подоплеку приобретает то обстоятельство, что в «глупого» щенка превращается человек, дочитавший платоновскую «Республику», причем автором неоднократно подчеркивается, что это чтение было едва ли не единственным делом, которое герою удалось довести до конца. В случае с Бредихиным парадокс состоял в том, что итогом его чтения Платона становится «бездумный» — щенячий лай. Превращение в собаку, отказ от слова, а вместе с ним и от заключенной в словах мудрости означает именно отчуждение от собственного «я», отпадение от социума". Результатом чтения «Республики», как известно, содержащей представления об идеальном устройстве общества, оказывается у Грифцова перерождение человека в животное, упраздняющее всякое общество, отменяющее всякую философию. Сбросив с себя, таким образом, «груз культуры», современный человек не отчуждение преодолевает, как на том настаивал Ницше, а в очередной раз предпринимает бегство от себя самого.
Итак, герои рассмотренных рассказов Б. Грифцова действуют или в прямом смысле слова «в присутствии Рока», как Николай Бредихин, обсуждающий с девой Лахесой очередное свое воплощение, или с весьма заметной оглядкой на судьбу, как Сергей Альманов или Владимир Ругов. Каждый из героев питает «любовь к судьбе», это чувство вызывает нескрываемую иронию автора, который «смеясь» расстается с собственным увлечением Ницше, пережитым в пору молодости.
Примечания грифцов судьба власть рок
1. См.: Лавров А. В. Грифцов Борис Александрович // Русские писатели 1800−1917. Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 45−46; Зенкин С. Б. А. Грифцов — теоретик литературы // Грифцов Б. А. Психология писателя. М., 1988. С. 3−18.
2. В периодике 1910;х гг. увидели свет такие его рассказы, как «Милая смерть» (1907), «Тишина» (1907), «Белый цветок. Из книги сказок» (1907). В 1923 г. в Берлинском книгоиздательстве писателей была издана повесть «Бесполезные воспоминания», написанная в 1915 г. в России.
3. Грифцов Б. А. Анахронистические рассказы / подг. текста к печати и коммент. Т. Н. Фоминых; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2008. 151 с. Горнунг Б. Поход времени. Статьи и эссе. М., 2001. С. 352.
4. Грифцов Б. А. <�Рец .> Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. П.: Огни, 1918 // Понедельник. 1918. № 16. 17 июня.
5. Грифцов Б. Два пути // Белый камень. Альманах I. М., 1907. С. 100.
6. Грифцов Б. Милая смерть // Юность. Лит.-худож. сб. 1907. № 1. С. 6.
7. PO ИМЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1. В автографе имелось посвящение («Посв. К.У.»). В журнальном варианте оно отсутствовало.
8. Грифцов Б. А. Анахронистические рассказы. С. III. Далее ссылки в тексте даются на этот источник с указанием номера страницы.
9. Семенова С. Г. Odium fati как духовная позиция в русской религиозной философии // Понятие судьбы в контексте разных культур / науч. совет по истории мировой культуры. М.: Наука, 1994. С. 26.
10. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 237.
11. Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма: проблема «жизнетворчества». Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. С. 36.
12. Ницше Ф. Указ. соч. С. 166−169.
13. Грифцов Б. Рим. С 36 рисунками. М., 1916. С. 164.
14. Зайцев Б. Италия // Собр. соч.: кн. 7. Берлин; П.; М., 1923. С. 129.
15. См. об этом: Смирнов И. П. Место «мифопоэтического» подхода к литературному произведению среди других толкований текста (о стихотворении Маяковского «Вот так я сделался собакой») // Миф. Фольклор.
Литература
Л.: Наука, 1978. С. 186.