Проблема исторической памяти в свете социологических и культурно-исторических исследований
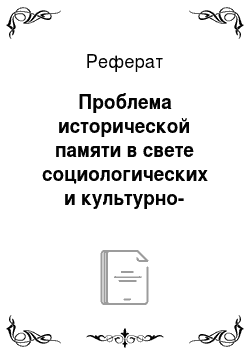
Следует обратить внимание еще на один труд, выполненный в жанре культурно-исторических исследований, в отличие от предыдущих не привлекший должного внимания российских ученых. Речь идет о книге англо-американского историка С. Шамы «Ландшафт и память» (1995). Автор обращается к теме культурной памяти, однако он локализует ее в пространстве и во времени. Географические рамки этого исследования… Читать ещё >
Проблема исторической памяти в свете социологических и культурно-исторических исследований (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
У истоков концепции исторической памяти стоял французский социолог, ученик Э. Дюркгейма, М. Хальбвакс. Завершение его судьбы трагично: арестованный немцами за помощь сыну-участнику Сопротивления, он скончался в концентрационном лагере Бухенвальд в марте 1945 г. Как ученый Хальбвакс надолго опередил свое время, его научные взгляды были в полной мере оценены только спустя несколько десятилетий после его смерти. В 1925 г. вышел труд «Социальные рамки памяти», а уже после смерти автора книга «Коллективная память» (1950). В связи с тем, что в концепции Хальбвакса важнейшее значение имеет идея мнемонических мест (мест памяти), укажем также на его монографию «Легендарная топография евангелий на Святой Земле» (1941).
Сущность гипотезы Хальбвакса в том, что понятие «история» и понятие «историческая память» не идентичны, а напротив, противоположны во многих отношениях. Он пишет: «История — это, несомненно, собрание фактов, которые заняли наиболее важное место в памяти людей. Но, будучи прочитанными в книгах, изучаемыми и заучиваемыми в школах, события прошлого отбираются, сопоставляются и классифицируются, исходя из потребностей или правил, которые не были актуальными для тех кругов, которые долгое время хранили живую память о них. Дело в том, что история обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память. Пока воспоминание продолжает существовать, нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще как-то фиксировать. Поэтому потребность написать историю того или иного периода, общества и даже человека возникает только тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало шансов найти вокруг себя много свидетелей, сохраняющих о них какое-либо воспоминание».[1] Как видно из этой цитаты, автор предвосхищал постмодернистскую теорию «дискурса»: за «объективностью» исторической науки он видит набор «потребностей и правил», определяющих содержание письменной истории. Историческая наука стремится к восстановлению «точных фактов» и тем самым становится эрудированной, а «эрудиция — удел меньшинства». Даже если наука стремится удержать образ прошлого, еще сохраняющийся в коллективной памяти, «она удерживает из него лишь то, что по-прежнему интересует наше общество».[2]
Коллективная историческая память отличается от истории, по Хальбваксу, двумя главными чертами. Во-первых, в ней нет строгих делений (на периоды, схемы): «Это непрерывный ход мыслей, и в его непрерывности нет ничего искусственного, поскольку из прошлого такая память сохраняет лишь то, что еще живет или способно жить в сознании той группы, которая ее поддерживает. Она, по определению, не выходит за пределы этой группы».[3] По словам Л. П. Репиной, «Хальбвакс был, конечно, прав в том, что социальные группы конструируют свои образы мира, устанавливая некие согласованные версии прошлого, а также и в том, что эти версии устанавливаются посредством коммуникации».[4] Хальбвакс утверждает, что «память общества простирается настолько далеко, насколько она может простираться, т. е. до пределов памяти тех групп, из которых она состоит. Забвение столь многих событий и фигур вызвано не желанием забыть их, не антипатией, отвращением или безразличием, а исчезновением тех групп, которые хранили память о них. Если бы продолжительность человеческой жизни была в два или три раза больше, поле коллективной памяти, измеряемое в единицах времени, было бы гораздо шире. Впрочем, нельзя с уверенностью сказать, что у этой расширенной памяти было бы более богатое содержание».[5] Другими словами, историческая память «конечна», она «умирает» с естественным уходом тех групп, которые являлись ее непосредственными или ближайшими носителями.
Во-вторых, отличие в том, что если история как наука стремится к универсальности и при всяких делениях на национальные истории или истории по периодам есть только одна история, то одновременно существуют несколько вариантов коллективной памяти. Это определяется одновременным существованием многих групп, и в жизни человек оказывается связанным не с одной, а многими из них. «У каждой из этих групп, — пишет Хальбвакс, — своя история. В ней можно различить фигуры и события. Но поражает нас то, что в памяти тем не менее на передний план выступают сходства. Рассматривая свое прошлое, группа чувствует, что она осталась той же, и осознает свою самотождественность во временном измерении. Как мы уже сказали, история опускает те промежутки, когда, по-видимому, ничего не происходит, когда жизнь повторяется в несколько отличных формах, но без существенных изменений, без разрывов и потрясений. Но группа, живущая прежде всего для самой себя, стремится увековечить те чувства и образы, которые составляют материю ее мысли. В таком случае главное место в ее памяти занимает то время, в течение которого с ней не происходит глубоких изменений».[6]
Положение концепции Хальбвакса о принципиальном отличии истории и исторической памяти разделяли и другие ученые (можно вспомнить знаменитые слова П. Нора — о нем речь пойдет ниже — о том, что «история убивает память»). Тем не менее, оно вызывает и критику у ряда специалистов, в том числе российских. Так, Л. П. Репина пишет: «Между тем, здесь нет такого „убийственного“ выбора, между историей и памятью нет никакого даже разрыва. Нельзя забывать о живучести не до конца отрефлексированных ментальных стереотипов у самих историков и о социально-политических стимулах их деятельности в области „нового мифостроительства“, с одной стороны, ни о процессах интеллектуализации обыденного исторического сознания, сколь бы неоднозначны и противоречивы они ни были, — с другой. Ведь даже профессиональные историки, претендующие на строгую научность и объективность, сопричастны „повседневному знанию“: они, каждый на свой лад, вовлечены в современную им культуру. А кроме них есть еще и другие „производители“ исторического знания — писатели, деятели искусства, служители культа и др.»[7] Хотя крайняя позиция, основанная на полном противопоставлении истории и исторической памяти, представляется преувеличением, поскольку историю действительно можно считать особой формой исторической памяти, выразим несогласие с аргументацией Репиной в той ее части, которая касается «политических стимулов» работы историков, их сопричастности «повседневному знанию». Ведь Хальбвакс по сути об этом и говорит, отмечая «потребности и правила», которыми руководствуются профессиональные историки и которые, по его мнению, и заставляют их «убивать» историческую память. Как представляется, более продуктивный путь в плане критики Хальбвакса состоит в акцентировании внимания на понимании им методологии и задач профессиональной историографии. Как сообщает П. Хаттон, в этом смысле он не шел дальше позиций позитивизма, в частности, его философского гуру О. Конта. Именно это порождало разногласия и острые дискуссии с коллегами по Страсбургскому университету, основателями школы Анналов Л. Февром и М. Блоком, хотя Хальбвакс тесно с ними взаимодействовал и даже входил в первую редколлегию журнала. Он, однако, следуя своему учителю Дюркгейму, считал, в отличие от Февра и Блока, не историю, а социологию фундаментом гуманитарного знания.[8] Следует также заметить, что Хальбвакс не всегда последователен в противопоставлении истории и памяти и подчас разделяет понятия «коллективная память» и «историческая память», по существу приравнивая последнюю к истории («Нельзя сказать, что коллективная память, в отличие от истории или, если угодно, от исторической памяти, удерживает только сходства»[9]).
Ю. Ю. Хмелевская пишет: «Одной из характерных особенностей теории М. Хальбвакса явилось также разграничение истории и памяти как двух способов обращения с прошлым: история выступает как обезличенное, „объективное“, не подверженное социальному воздействию научное знание, разделяемое немногими, в то время как память принадлежит всему обществу. История начинается там, где перестает действовать активная социальная память, существование которой ограничивается несколькими поколениями».[10] Нельзя не видеть, что Хмелевская правильно фиксирует основную идею Хальбвакса, однако представляется: в ее словах есть неточность, касающаяся того же тезиса, который отмечен в связи с аргументацией Репиной. Хальбвакс не только не отрицал, но и подчеркивал подверженность научного знания социальному воздействию.
Другая часть концепции Хальбвакса касается значения коммуникативных практик для транслирования исторической памяти. Основываясь на личном опыте детства («лишь теперь я учусь вписывать свое детство в историю своего времени»), ученый указывает на то, что его родители были французами эпохи после поражения в войне с Пруссией 1870—1871 гг. Но «почти все, что я понял о войне 1870 г., о Коммуне, о Второй Империи, о Республике, мне стало известно со слов пожилой няни, полной суеверий и предрассудков, которая без сомнений принимала ту картину этих событий, которую нарисовало народное воображение. Через нее до меня доходила невнятная молва, словно круги, расходящиеся в среде крестьян, рабочих, простых людей. Когда это слышали мои родители, они пожимали плечами».[11]
Хаттон так характеризует работу коллективной памяти по Хальбваксу: «Сами по себе образы памяти всегда фрагментарны и условны. Они не обладают целостным или связанным значением, пока мы не проецируем их в конкретные обстоятельства. Эти обстоятельства даются нам вместе с мнемоническими местами. Поэтому воспоминание можно назвать процессом воображаемой реконструкции, в рамках которого мы интегрируем специфические образы, созданные в настоящем, в особый контекст, отождествляемый с прошлым. Накопленные таким способом образы не являются вызванными из реального прошлого, но только репрезентируют его. В этом смысле они выражают собой сегодняшнее представление о том, на что было похоже прошлое».[12] Это описание весьма напоминает приведенные выше суждения Р. Коллингвуда, связанные с влиянием контекста на восприятие исторического источника (пример с адмиралом Нельсоном).
В приведенной цитате обратим внимание на упоминание мнемонических мест. Ниже позиция Хальбвакса уточняется:
«Защитники традиции должны, вероятно, поддерживать ее мнемонические места посредством актов коммеморации. Коммеморация, доказывает Хальбвакс, является их целенаправленной попыткой остановить или, по меньшей мере, скрыть процесс медленного изменения традиции. Коммеморативные мнемонические места укрепляют стереотипы нашего сознания, пробуждая специфические воспоминания о прошлом. Поэтому коммеморация столь значима политически. Этот вид деятельности увеличивает мощность мнемонических мест, предоставляя возможность укрепить стирающиеся со временем стереотипы сознания и сделать их специфическую образность более доступной».[13] Создание Хальбваксом концепции «мест памяти» (позднее Нора назвал их территорией памяти) исключительно важно как в контексте развития современной историографии, так и в педагогическом плане. Мы исходим из того, что посещение мнемонических мест является одним из самых действенных способов развития исторической памяти.
Разумеется, в литературе указывается и на недостатки концепции Хальбвакса. Немецкий ученый Я. Ассман пишет, что тому «не хватает понятийной четкости, необходимой для дальнейшего плодотворного развития его идей. Кроме того, сегодня не может не вызывать удивления, что ту роль, которую как раз письмо играет в складывании коллективной памяти, он нигде систематически не рассматривает и даже ни разу не упоминает о нем в этой связи. Зато он не в силах стряхнуть чары бергсоновских магических слов, таких как „жизнь“ и „действительность“. Как и многих людей его времени, его неудержимо манила социология… Хальбвакс как социальный психолог ограничился группой и не стал обобщать свою теорию памяти в направлении теории культуры».[14]
Интерес к теме исторической памяти в социологии возрос после Второй мировой войны под влиянием этого самого трагического события в истории XX в. Историческая память в контексте вопроса об ответственности за войну и преступления гитлеровского режима была рассмотрена одним из самых видных социологов прошедшего столетия Т. Адорно, лидером так называемой Франкфуртской школы. Он покинул Германию после установления фашистского режима, работал в Колумбийском университете в США и возвратился из эмиграции только в 1949 г. После войны под влиянием трагедии Холокоста Адорно и М. Хоркхаймер обратились к исследованию исторических корней антисемитизма и разработали теорию, по которой политическое поведение масс детерминируется социопсихологическими факторами. Они подчеркивали значение культуры, этничности и патологии при формирования отношения масс к власти. В условиях острых дискуссий в ФРГ о том, можно ли возлагать ответственность за деяния фашистской диктатуры на немецкий народ, Адорно был тем ведущим интеллектуалом, чьи взгляды повлияли на молодое поколение «немецких» шестидесятников, взбунтовавшихся против «нацистских» отцов и требовавших строить новую немецкую государственность на полном отрицании национал-социализма и покаянии за его грехи. Именно в контексте этой общественной дискуссии Адорно и обратился к концепции исторической памяти.
В одной из своих работ начала 1960;х гг. он так сформулировал общий подход франкфуртской школы: «Проведенные в Америке исследования показали, что эта структура (речь идет о тоталитарных режимах. — М. С.) не так уж тесно связана с политико-экономическими критериями. Скорее, ее определяют такие элементы, как мышление в измерениях власти и беспомощности, неподвижность и неспособность реагировать на изменения, конвенционализм, конформизм, недостаток саморефлексии, наконец, вообще недостаточная способность к восприятию опыта. Люди с характером, завязанном на авторитете, идентифицируют себя с реальной властью как таковой, независимо от ее конкретного содержания. Они, в сущности, располагают лишь слабым „я“ и поэтому в качестве эрцаза нуждаются в идентификации с большими коллективами, в которых они могли бы укрыться. То, что на каждом шагу вновь и вновь встречаются фигуры, появляющиеся, как в киносказке о чудо-детях, словно по волшебству, связано не с тем, что мир как таковой плох, и не с мнимыми особенностями немецкого национального характера, а с тождеством тех конформистов, которые заведомо связаны с рычагами любых аппаратов власти, потенциальным последователям тоталитаризма».[15]
Рассуждая о стремлении к «забвению национал-социализма», Адорно отмечает, что в отношении к прошлому действительно «много невротического: жесты защиты в отсутствие нападения; бурные эмоции без серьезного повода; отсутствие эмоций по отношению к самому серьезному; нередко и просто вытеснение осознанного или полуосознанного».[16] Исследования, на которые ссылается Адорно, показали, что в воспоминаниях о травматических событиях, таких как массовые убийства или депортации, присутствует стремление использовать смягченные выражения, эвфемизмы или вообще умолчания. В них часто проявляется готовность к отрицанию или преуменьшению таких событий. «Ослабленная память» сопротивляется принятию рациональной аргументации, направленной на критику фашистской диктатуры: «Продолжающаяся симпатия к национал-социализму совершенно не нуждается ни в какой развернутой софистике, что все могло закончиться иначе, просто были совершены ошибки… С субъективной стороны, т. е. исходя из работы человеческой психики, национал-социализм способствовал непомерному росту коллективного нарциссизма, проще говоря, национального тщеславия. Инстинктивные нарциссические побуждения отдельного человека, которому очерствевший мир предоставляет все меньше возможностей для удовлетворения, но которые тем не менее продолжают существовать в неослабленном виде, пока цивилизация отказывает им в столь многом, находят суррогатное удовлетворение в идентификации с целым. Этот коллективный нарциссизм в результате краха гитлеровского режима пострадал сильнее всего».[17] Конечно, в этих словах чувствуется сильное влияние теории 3. Фрейда, указавшего на паники «непреодоленного прошлого», возникающие, когда происходит разлом коллективных идентичностей.
Хотя Адорно отмечает свойственное части немецкого общества 50—60-х гг. XX в. стремление к «вытеснению» памяти о нацизме, он все же оптимист в том смысле, что видит позитивные тенденции, направленные не на забвение, а на осмысление и осуждение такого прошлого, полный разрыв с которым возможен, когда будут преодолены причины событий прошлого. Указания на значимость для немецкого сознания категории «вины», связанной с исторической памятью о фашизме и войне, мы находим и в других источниках. Так, профессор университета г. Билефельда Й. Ролфес, вспоминая о послевоенной эпохе, говорит, что столкнулся с диаметрально противоположными интерпретациями истории с позиций двух совершенно различных политических систем: национал-шовинистической и антидемократической, излагавшейся в национал-социалистических школьных учебниках, и космополитической, ориентированной на демократическую и пацифистскую версию истории, к которой с началом «холодной войны» добавился антикоммунистический элемент. И далее: «Такой опыт, свидетельствующий об использовании истории в политических целях, пробудил у меня интерес к этому предмету, который еще более усилился в связи с вопросом об исторических корнях радикального германского фашизма и Холокоста».[18]
Проблема исторической памяти о фашизме и войне в немецком обществе продолжала сохранять актуальность и в дальнейшем, о чем свидетельствует и так называемый «спор историков» ФРГ второй половины 1980;х гг.[19], и подчас неоднозначная общественная реакция на те или иные проявления, касающиеся вопроса о «вине» немецкого народа за войну. Так, известный историк и общественный деятель Р. Козеллек в одном из своих последних интервью говорил по поводу памяти о войне и «иерархии жертв»: «Германия признала свою вину перед евреями и проводит соответствующую политику. Однако кроме евреев были и другие категории пострадавших, например, цыгане или гомосексуалисты. Когда я выступаю в полемике против памятников Холокосту, то не потому, что я призываю забыть об убийствах евреев, а потому, что память о евреях становится привилегированной и возникает иерархия жертв. Но смерть — это всегда смерть, и у нас умерло с голоду три с половиной миллиона русских военнопленных. Они были практически убиты, это 60% всех русских пленных. Но о них не вспоминают. Я всегда говорил, что если немецкая нация поставляла убийц, то обо всех жертвах надо вспоминать на паритетных началах, а не вспоминать только о евреях. Но я ничего не добился. Какие ссоры были у меня с Вайцзеккером, Колем, меня исключили из комиссии бундесрата, так как я требовал, чтобы вспоминали всех. Нет, было политически правильно вспоминать только евреев: это давление Израиля и Америки, остальных откладывают в долгий ящик. И мне это противно, так как если называть СС убийцами, то как можно пользоваться их классификацией: евреи, гомосексуалисты, уголовники, цыгане, русские, поляки, итальянцы, французы — ведь это критерии концлагеря, но ведь они принимаются, то есть память стилизуется согласно критериям СС».[20]
Как видим, интерес к теме исторической памяти развивался, во всяком случае в ФРГ, под влиянием обсуждения острых политических и идеологических вопросов, определявших в большой мере вектор развития этой страны. Что касается Холокоста, то память о нем стала темой острой дискуссии во второй половине 90-х гг. XX в. Как известно, в некоторых странах отрицание Холокоста является преступлением. Некоторые историки, представители ревизионистской историографии, выступили с работами, в которых отрицался сам факт Холокоста. Они до крайности обострили вопрос о праве историка на интерпретирование истории, особенно если речь идет об одном из самых острых травматических проявлений исторической памяти XX столетия.
Другая линия формирования историографии исторической памяти развивалась одновременно с социолого-политической и нашла выражение в ряде культурно-исторических исследований, выполненных в 50—60-х гг. XX в. английским ученым Ф. Йейтс. В ее книге «Искусство памяти» (1966) рассматривается искусство памяти, возникшее еще в классической Греции и почти полностью утраченное к нашему времени. В древности оно находилось «в ведении риторики в качестве техники, используя которую оратор мог усовершенствовать свою память и произносить наизусть пространные речи с неизменной аккуратностью. И именно как часть риторического искусства искусство памяти сохранялось в европейской традиции, которая никогда, по крайней мере до сравнительно недавних времен, не забывала, что древние, эти верные наставники во всякой человеческой деятельности, разработали правила и предписания для усовершенствования памяти».[21]
В древнегреческой традиции основателем искусства памяти считался поэт Симонид Кеосский, с которым связывался следующий миф. Находясь на пиру у фессалийского аристократа Скопаса, он прочитал поэму в честь хозяина, однако посвятил ее не только ему, но и Кастору и Поллуксу. Тогда Скопас объявил, что заплатит поэту только половину обещанного гонорара.
Вскоре Симонида вызвали из зала (это приписывалось богам, восхваленным им), и в это время рухнула крыша здания. Все тела были так обезображены, что опознать их смог только Симонид, запомнивший, в каком порядке сидели гости. В этом событии поэту раскрылся главный принцип искусства памяти, заключающийся в том, что для развития способности памяти надо «отобрать места и сформировать мысленные образы тех вещей, которые хотят запомнить, а затем расположить эти образы на местах так, что порядок мест будет хранить порядок вещей». Так сообщал об этой истории знаменитый римский оратор Цицерон. Йейтс указывает, что кроме трактата последнего «Об ораторе» об искусстве памяти сообщается в Insdtutio oratorio, римского писателя Квинтилиана и в анонимном сочинении Herennium libri (I в. до н.э.).
Американский историк Хаттон так описывает технику развития памяти, связываемую Йейтс с классической традицией мнемоники: «Места образуют архитектурную схему, где знание, которое следует запомнить, должно быть расположено. Это были места, которые оставили глубокую печать в душе мнемоника и которые он не мог забыть. Архитектура места, часто представляемая в виде дворца или театра, могла уподобляться сакральному пространству, к которому мнемоник испытывал интуитивную близость. Эта глубинная структура памяти, в свою очередь, приобретала более конкретный характер благодаря украшавшим ее образам. Хорошая память являлась функцией эластичного воображения, а образы отбирались по их эстетической привлекательности. Живые и красочные образы, внушавшие благоговение, считались самыми эффективными».[22]
Йейтс убедительно доказывает, что на античную традицию искусства памяти опирались крупнейшие авторитеты Средневековья, в частности, Альберт Великий (XIII в.) и его современник Фома Аквинский. Так, у Альберта прослеживается следующая идея: память, используемая при извлечении полезных уроков из прошлого, есть часть благоразумия; она может быть моральным свойством, если используется для припоминания прошедшего с тем, чтобы благоразумно предвидеть будущее. По поводу правила мест Альберт советует пользоваться только «реальными» местами памяти, запечатленными в реально существующих зданиях, а не возводить в памяти воображаемые конструкции. Он называет «волнующими» места уединенные и редкие, следовательно, наиболее подходящим местом окажется церковь. Фома Аквинский во многом следует Альберту. Так, одно из его «предписаний» предлагает искать «места» в пустынной местности, поскольку «суета снующих взад-вперед людей сбивает с толку и ослабляет впечатление, производимое образами». Фома также обращает внимание на значимость телесных образов, которые являются наиболее броскими и лучше удерживаются в душе.[23] Йейтс утверждала, что в искусстве памяти с классических времен утвердились два подхода к определению целей его использования: аристотелевский и платоновский. В первой традиции искусство памяти строго инструментально и направлено на улучшение способности фиксировать знание в образах; во второй акцент делался на ценность мнемонического образа для связи с реальной реальностью, которую этот образ представлял, для установления соответствия между микрокосмом образов ума и макрокосмосом образов вселенной. Для средневековых философовсхоластов главное значение имела аристотелевская традиция.
Казалось бы, к гибели искусства памяти должно было привести изобретение книгопечатания, что подрывало устную традицию. Однако Йейтс показывает, что в эпоху Возрождения искусство памяти не только не утратило, а скорее наоборот приобрело небывалое прежде значение, причем на основе преимущественно платоновской традиции. Она обнаруживает воплощение правил искусства памяти в «Божественной комедии» Данте, во многих произведениях гуманистической культуры и придает особое значение мнемоническим системам Джулио Камилло и Джордано Бруно.[24] Камилло при поддержке французского короля Франциска I разработал проект и приступил к созданию театра памяти в Венеции — в нем должна была быть собрана в образах вся драма человеческой истории. Бруно, придумав колесо памяти, содержавшее геометрические знаки, заимствованные из разных мнемонических систем тех дней, представлял себя создателем синтетической системы знаний, способной проникнуть в единство небесного и земного. Как пишет по поводу представлений мнемоников XVI в. Хаттон, «структура познания, как ее представляли философынеоплатоники, была пространственной структурой… Колесо, дворец и театр были напоминаниями о повторении. Отталкиваясь от концепции вечного космоса, неоплатоники не видели смысла в становлении. Они искали знания, которые были вечными, хотя еще и скрытыми… Будучи хранителями древних секретов могущества, мнемоники рассматривали себя в качестве магов, имеющих дело с эзотерическим знанием, которое открывало им путь к тайнам вселенной, не говоря уже о предполагаемом таким всеведением могуществе».[25]
В таком же ключе Йейтс рассматривает театр памяти Роберта Фладда, английского представителя «герметической каббалистической традиции» начала XVII в. (базируясь на его произведении «История двух миров»), а также анализирует имеющиеся сведения о том, как выглядел театр Глобус, связанный с именем Шекспира. Конец «Искусства памяти» Йейтс связывает с наступлением эры научного рационального знания, родоначальником которого она считает видного английского философа, младшего современника Фладда и Шекспира Фрэнсиса Бэкона. Труды Бэкона, отвергавшего связь между мнемическими образами и силами, управляющими Вселенной, положили начало научному эмпирическому методу и новой системе классификации знаний. Попытки возвращения искусства памяти в XVIII в. в грудах Дж. Вико были исключением из общей новой системы развития исторических знаний.
Рискну предположить, что, по крайней мере в практическом плане, искусство памяти не исчезло полностью. Опираясь на собственный опыт экскурсовода и музейного работника, могу утверждать, что строгий порядок проведения экскурсии, порядок расположения экспонатов в помещениях позволяет экскурсоводу «организовывать» свой рассказ, «доставая» из памяти и передавая слушателям хранящиеся в ней исторические сведения.
Другим, кроме трудов Ф. Йейтс, источником культурно-исторического подхода к проблеме исторической памяти можно считать влияние знаменитой французской исторической школы Анналов. Основанная в 1929 г. Л. Февром и М. Блоком, она имела разные траектории развития в разные периоды своего существования, однако, по мнению современного историка Ж. Ревеля, ее характерной чертой была открытость, стремление привлечь ученых разных взглядов, что обеспечивало подлинную междисциплинарность.[26] Уже на первом этапе своего существования Анналы обратились, в частности, к изучению коллективных представлений людей в прошлом, т. е. к так называемой ментальности. Такой подход нашел выражение в знаменитой книге Блока «Короли-чудотворцы» (1924) или в работе Февра «Проблема неверия в XVI: религия Рабле» (1942). Правда, основатели Анналов затрагивали скорее стереотипы мышления, чем коллективную память как таковую, и базировались не на устной традиции, а на письменных источниках. Обозначив термин «ментальность», приведем высказывание А. И. Макарова: «В современной методологии истории общефилософская проблема структуры сознания и образов памяти разрабатывается под именем ментальности. С точки зрения теории фетишизма, ментальность — это метафора сознания и памяти, представляющая эти феномены в виде пространства хранения информации в закодированном виде, в виде символов (образов разных видов), которые контролируют сознательную деятельность индивида „за спиной“ сознания».[27] Это высказывание позволяет подчеркнуть значимость истории ментальности, родоначальниками которой были историки Анналов, для изучения исторической памяти.
Если на втором этапе своего развития, при Ф. Броделе, Анналы развивались в основном в направлении глобальной истории, то историки так называемого третьего поколения этой школы, господствовавшие во французской историографии с конца 1960;х гг., сделали категорию «ментальность» фактически главной в исторических исследованиях. Именно об их заслуге в стимулировании изучения исторической памяти писал Хаттон: «Историки, занимавшиеся ментальностями, обращались к актуальным вопросам народной культуры. Отношения к семейной жизни, местные сообщества, общественные обычаи и нравы, религиозные обряды простого народа играли заметную роль в репертуаре их интересов. Сосредоточившись скорее на структурах мышления, чем на отдельных идеях, они обращались к стереотипам сознания, условностям речи, повседневным обычаям и народным традициям как к общим темам своих исследований».[28]
Среди представителей Анналов Хаттон придавал особую роль Ф. Ариесу (1914—1984) в развитии концепции исторической памяти, объясняя это тем, что этот историк больше других опирался на устную традицию в своих исследованиях. Впрочем, Ариес очень отличался от других историков Анналов, он был старше тех, кто относился к ее третьему поколению, да и с журналом сотрудничал только в последний период жизни. Человек правых взглядов, в молодые годы сотрудничавший с Аксьон Франсез, Ариес не имел доступа к университетскому преподаванию — в системе высшего образования господствовали левые. Хаттон подчеркивал, что, будучи потомком аристократической семьи, Ариес сохранял устную семейную традицию, утраченную официальной историографией. В ранней и относительно малоизвестной работе «Время истории» (1954) Ариес утверждал, по словам Хаттона, «что красочная картина прошлого Франции в том виде, в каком ее передавали местные хроники и устные традиции, была отодвинута в тень в интересах этой возникающей историографии (имеется в виду появившаяся в XVII в. королевская историография — „двойник политического абсолютизма“. — М. С.), намеренной дать пристанище тщеславию своих королей в сообщениях об их жизни и деяниях. Официальная история на самом деле отказалась признать, что ее истоки лежат в коллективной памяти. Французская революция могла сбросить короля, но исторические сообщения об этом событии только укрепили политическую систему координат, к которой французская историография уже была привязана. Фракционные столкновения среди политиков сломили соперничество знати и королей в качестве предмета ее живого интереса, и многое было сделано из-за идеологических расхождений между историками. Но сосредоточенность на политике сохранилась, и обычаи, и нравы традиционного французского общества либо игнорировались, либо втискивались в политическую систему координат».[29]
Можно согласиться с Хаттоном в том, что Ариес двигался «от памяти к ментальностям». В самой знаменитой книге Ариеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке» (1960) он пишет о восприятии детства в европейском обществе (прежде всего во Франции) в эпоху раннего Нового времени, с XV и до начала XIX в. Здесь не стоит задача рассматривать концепцию автора как таковую, достаточно упомянуть, что изменение в отношении к детям он связывал с тем, что с уменьшением детской смертности родители (по меньшей мере в знатных семьях и семьях среднего достатка) с одобрения религиозных педагогов начали склоняться к планированию будущего детей и стали относиться к ним с невозможной прежде заботой и лаской.
Интереснее для нас то, что автор подчас «отталкивается» от устной традиции, например, в описании условий существования семьи. Еще в XVII в. в домах аристократов и богачей семейная жизнь выставлена на всеобщее обозрение, это спонтанное пространство, где всегда толпится народ, слуги, вассалы; никакая из комнат не имеет специального назначения. «Начиная с XVIII века семья отделяется от общества, перестает допускать его в пределы расширяющейся частной жизни. Организация дома отвечает новой потребности в защите от внешнего мира. Можно уже говорить о современном доме, где каждая комната независима — теперь двери выходят в общий коридор… Комфорт родился вместе с личным пространством, с возможностью укрыться от глаза постороннего, он — одно из свойств личного пространства», — пишет Ариес.[30] Анализируя описание замка XVII в. Ариесом, Хаттон замечает: «Портрет замка у Ариеса многим обязан его историческим исследованиям. Но он обязан также и его столкновениям в детские годы с традициями собственной семьи. Это изображение замка на самом деле являлось его версией театра памяти мнемотехника, в достаточной степени близкого, чтобы узнать в нем образ жизни его собственной семьи, и достаточно далекого, чтобы показаться странным и даже заколдованным».[31] И ниже: «Взгляд Ариесаисторика всегда был сосредоточен на тех мнемонических местах, где критическое познание истории сменяло собой молчаливое признание традиции».[32] В контексте истории педагогики исключительно интересны указания Ариеса на изменения традиции в области образования. Так, он пишет, что «установление дистанции между учениками и учителями и прогресс авторитарного духа наталкивалось на сопротивление старых традиций, зафиксированных в старых уставах. Однако сама по себе эта эволюция школьных нравов соответствовала продвижению общества к политическим формам абсолютизма».[33] Только с конца XVI в. «класс признается теоретиками педагогики основным элементом школьной структуры»; «Наконец, классы вместе с преподавателями полностью изолируются друг от друга в специальных помещениях… Такая постановка магистра на службу ученикам противопоставляется средневековым методам одновременности или зубрежки, а равно педагогике гуманистов, которая не отличала ребенка от взрослого и не различала школьное образование — подготовку к жизни и культуру — дело самой жизни».[34]
Иной путь — от ментальности к истории памяти — можно проследить на примере другой классической работы представителя Анналов. Труд Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю. Окситанская деревня (1294—1324)» (1982) реконструирует (преимущественно на материалах инквизиционных судебных материалов) жизнь деревушки в Пиренеях и представления ее жителей о пространстве и времени, религии, этике. Ле Руа Ладюри говорит об использовании фольклора как источника, но «история пошла по пути перемен: с XIV по XIX века она глубоко перекопала наш фольклорный пейзаж». Исключение составляет тема смерти: она «окажется более важной и более живучей и сохранит до XIX века те черты, которые присущи ей около 1300 г.: черные кошки, посланницы дьявола, крутились около постелей умирающих уже в начале XIV века».[35]
Вопрос о том, насколько достоверны источники фольклорного характера, стоял и перед американским историком Р. Дарнтоном, одним из основателей направления новой культурной истории, как и Анналы, обратившегося к изучению истории ментальности. Первая глава его самой знаменитой книги «Кошачье побоище» (1984) посвящена изучению ментальности французских крестьян в эпоху Старого порядка на основе сказок, передававшихся от поколения к поколению в устной традиции.[36] Историку как раз было важно восстановить на основе зафиксированных в XIX в. фольклорных материалов эти сказки в той форме, в какой еще в XVII в. их рассказывали крестьяне, потому что Ш. Перро существенно их переработал, сделав приемлемыми для аристократических салонов. Как видим, Дартоном была предпринята попытка восстановления части утраченной в XX в. исторической памяти.
Если работы по ментальности в русле культурной истории можно считать «приступом» к решению проблем исторической памяти, то французский историк П. Нора знаменит новаторскими исследованиями именно в этой области, породившими не прекращающиеся и по сей день дискуссии. На протяжении ряда лет он руководил подготовкой многотомного издания «Места памяти», в котором участвовали 45 видных французских историков. (Название труда также переводят как «Территория памяти» или «Пространства памяти»). Он представил собой нечто вроде описи формальных проявлений национальной памяти — коммеморативных монументов и святынь, национальных исторических хроник, гражданских справочников и учебников по истории, публичных архивов и музеев — созданных во имя идентичности Франции. «Места памяти» не являются местами в узком, географическом смысле, они определяются как своеобразные точки пересечения, на которых складывается и концентрируется память общества. Их главная функция — сохранение коллективной памяти. Как поясняет Ю. Хмелевская, «местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, традиции, легенды, географические точки, которые окружены особой символической аурой. Их роль прежде всего символическая, т. е. напоминание о прошлом, наполняющее смыслом жизнь в настоящем. Важной характеристикой lieux de memoire является то, что они могут нести разные значения, и эти значения могут меняться. Исследователи lieux de memoire изучают не столько материальное или историческое „ядро“ места памяти, сколько его отражение в сознании и формы его восприятия. Большинство работ, включенных в изданную П. Нора антологию, посвящено выяснению, когда определенное место памяти получило свое символическое значение и каким образом оно изменялось с течением времени».[37] Хмелевская правильно отмечает, что у Нора выделено несколько форм изменений на «территории памяти»: спонтанное забывание или вытеснение некоторых мнемотопов из памяти; обратный процесс возвращения репрессивных или забытых образов; эволюция наиболее устойчивых мест памяти, но выстраивающихся со временем в иную иерархию. Для постсоветской России весьма характерно и возвращение, и эволюция — например, возрождение символики империи, дворянства, казачества, православной церкви или «переосмысление» некоторых «вековых событий», в частности Октябрьской революции.[38]
Сам Нора говорит о нашем времени как о «всемирном торжестве памяти» и подчеркивает, «Франция едва ли не первой вступила в эту эпоху страстного, придирчивого, почти навязчивого воспоминания».[39] К числу предпосылок этого явления для своей страны он относит экономический кризис 1974 г., последовавший за тремя десятилетиями процветания; кризис голлизма и усиление национализма, вызванного, в частности, крахом коммунистической идеологии. Важнейшим последствием экономического развития стало исчезновение традиционной общественной структуры, резкая урбанизация и катастрофическое падение доли сельского населения. Феноменальный успех ряда работ о деревне (в том числе отмеченной выше книги Ле Руа Ладюри) показал, по словам Нора, что «память деревни» жива ныне только в ученой сентиментальной реконструкции.
Нора предложил назвать наше время «мемориальной эпохой». Одно из проявлений этого — интенсивное использование прошлого — политическое, туристическое, коммерческое. Во многих странах отмечен подъем мемориальных мероприятий, здесь и Россия не представляет исключения. Небывалое «движение памяти» вызвано двумя факторами: временным и социальным. Первый заключается в «ускорении времени», разрушающем прямую линию между прошлым, настоящим и будущим. Еще недавно будущее казалось предсказуемым и его можно было представить как реставрацию прошлого, как прогресс или как революцию. Сегодня над будущим нависла абсолютная неопределенность. Но одновременно и прошлое оказалось отрезанным. Таким образом, «ускорение времени» создало эффект утраты; он проявляется «как раздувание функции памяти и как гипертрофия учреждений и орудий памяти: музеев, архивов, библиотек, коллекций, компьютерных каталогов, банков данных, хронологий и прочего». Другое последствие «ускорения времени» состоит в эффекте автономизации настоящего: «прошлое перестало быть гарантией будущего, а потому память превратилась в движущую силу, в обещание преемственности».[40]
Социальный фактор «движения памяти», по мнению Нора, состоит в «демократизации истории», под которой он понимает всемирную деколонизацию, побуждающую к конструированию собственной памяти освобождающиеся народы; внутреннюю деколонизацию различных меньшинств (сексуальных, социальных, религиозных, региональных и т. д.), для которых обретение исторической памяти является, по существу, способом легитимации; идеологическую легитимацию, под которой понимается возвращение традиционной памяти, разрушенной правящим режимом. Среди примеров такого рода у Нора Россия и Восточная Европа.
Возвращаясь к Франции, Нора утверждает, что это привело к полному разочарованию в привычном описании истории Франции, который он с иронией характеризует как «героический эпос со своими вершинами и спадами, временами величия и испытаний, неисчерпаемым набором персонажей, сцен, изречений, интриг, дат, добрых и злых сил — захватывающий семейный роман, начинающийся с Верцингеторикса и битвы при Алезии и заканчивающийся победой республики и Декларацией прав человека, пройдя через крестовые походы, Людовика XIV, Просвещение, Революцию, наполеоновскую эпопею, колониальные завоевания, испытания войны 1914 г., — и наследником этой истории оказывался де Голль».[41] Однако вера в величие и предназначение Франции оказалась подорванной в результате мировых войн и алжирской войны: «Это сомнение выплеснуло на поверхность все, что прежде вытеснялось патриотическим чувством (революционный террор, пытки во время войны в Алжире), и проявилось кризисом всех учреждений национального воспитания: церкви, профсоюзов, партий, семьи; неуверенностью относительного того, чему следует учить; трудностью определения своей позиции между волнами децентрализации и интеграцией в европейскую общность. В то же время мощное движение внутренней деколонизации и эмансипации групповых идентичностей вело к тому, что каждое меньшинство на пути к национальной интеграции стремилось к собственной истории, к „своей памяти“, к тому, чтобы снова „вступить во владение“ ею, как тогда говорилось, и потребовать от нации ее признания».[42] Характернейшим примером является, по мнению Нора, еврейство: еще тридцать лет назад о памяти евреев вообще не говорили, как и о еврейской общине, а в 1995 г. президент Ширак заявил об ответственности государства за депортации и уничтожение евреев в период правительства Виши. Как видим, для Нора принципиально важна идея самосознания меньшинств.
Здесь мы подходим к тому аспекту концепции Нора, которая вызывает наиболее ожесточенные споры. Если у Хальбвакса отмечено отличие истории от исторической памяти, то у Нора они не просто противопоставляются, но и поставлены во враждебную позицию. Очевидно, что он находится под влиянием теории Фуко о контрпамяти. Нора пишет: «По сравнению с историей, которая во все времена находилась в руках власть имущих, ученых или профессионалов, память обладает новым престижем демократичности и протеста. Она явилась как отмщение униженных и оскорбленных, как история тех, кто не имел права на историю. Если память и не гарантировала истины, она гарантировала верность. Что в ней ново и что связано с величайшей бедой эпохи — увеличением продолжительности жизни, живым присутствием свидетелей прошлого — так это претензия на истину более „истинную“, чем истина истории: истину живой памяти о пережитом. Напротив, история, ставшая научной дисциплиной, строилась, хотя и исходя из памяти, но против памяти, которая считалась индивидуальной, психологической, обманчивой, не более чем свидетельством, нуждающимся в интерпретации. История была едина, а память, по определению, множественна — потому что индивидуальна по сути. Идея коллективной памяти, эмансипирующей и сакрализованной, перевернула это соотношение с ног на голову».[43]
Ряд видных зарубежных и отечественных специалистов, разрабатывающих тему исторической памяти, возражает против такого противопоставления. Такую позицию занимают, например, немецкий ученый Й. Рюзен и английский историк П. Берк, немало писавшие об исторической памяти. Критики Нора говорят о том, что историография и историческая память — это близкие или параллельные феномены, являющиеся отражением исторической культуры, но чаще всего о том, что сама академическая история может рассматриваться как форма памяти, как «коллективная память в век науки». Как уже отмечалось, близкой позиции придерживается Л. П. Репина.[7]
Вряд ли возможно назвать здесь все культурно-исторические труды, вышедшие в последние годы и повлиявшие на разработку тематики исторической памяти, однако некоторые из них требуют хотя бы краткой характеристики. Прежде всего, выделим книгу английского ученого Д. Лоуэнталя «Прошлое — чужая страна» (1985), в которой не только рассматриваются теоретические и философские аспекты исторического познания, но, может быть, впервые подчеркивается важность изучения исторической памяти как психологического и культурного явления одновременно. Лоуэнталь, как и ряд других авторов, различает память и историю (хоть и говорит о размытости границ между ними), он говорит о трех источниках знания о прошлом: памяти, истории и реликтах, причем каждый из этих видов является областью действия отдельных дисциплин: психологии, истории и археологии. Так, история, по его словам, «расширяет и совершенствует память за счет того, что пытается истолковать реликвии и соотнести между собой сообщения очевидцев».[45]
Автор говорит о том, что исследования психологов показали: напряжение памяти (припомнить людей, с которыми надо встретиться, дороги, по которым предстоит пройти, дела, которые надо сделать) в большей части фокусируются на будущем. «Внимание психологов привлекли к себе кратковременная память ближайшего прошлого и припоминание преднамеренно запоминаемого материала, поскольку они лучше всего подходили для лабораторного анализа», — пишет он.[46] Лоуэнталь подчеркивает, что хранящееся в памяти прошлое носит одновременно личный и коллективный характер. Так, «мы нуждаемся в воспоминаниях других людей для того, чтобы подтвердить собственную память и сделать ее более устойчивой. В отличие от сновидений, которые являются исключительно личным достоянием, наша память постоянно пополняется за счет воспоминаний других людей. Делясь воспоминаниями с другими и подтверждая их, мы придаем им устойчивость и тем самым способствуем их воспроизведению. Те события, о которых знаем мы и только мы, менее определенны, их сложнее припомнить».[47] В работе отмечена роль памяти в формировании персональной идентичности человека, его Я-концепции, а также ненадежность, недостоверность воспоминаний. Дидактически значимо следующее высказывание Лоуэнталя относительно запоминания фактов: «Конечно, некоторые заученные факты сами по себе относятся к истории — например, правители Британии и президенты Соединенных Штатов, любые хронологические последовательности. Заучивание наизусть способствует формированию знаний о прошлом тем, что локализует подобные события во времени. Однако до тех пор, пока не установлены их связи с другими аспектами истории, любые даты из президентской деятельности Вашингтона попросту лишены смысла».[48] Знание хронологии приобретает смысл только тогда, когда происходит соприкосновение прошлого и настоящего. Следовательно, в процессе обучения истории важна опора на опыт учащегося.
Развивая идею отличности памяти от истории, Лоуэнталь полагает, что границы между ними размыты: мы часто затрудняемся в различении того, что является результатом собственного опыта, а какое знание получено извне. Но даже если удается отличить внешние источники от исходных данных, мы обычно принимаем их как достоверные (как то, что слышим от других людей в повседневной жизни, если это не вступает в противоречие с хранящейся в нашей памяти информацией). В то же время, если память подтверждает личную идентичность, то история увековечивает представления группы о самой себе. Здесь мы усматриваем иную позицию, чем у Хальбвакса или у Нора: они видят тенденцию в том, что именно историческая память становится сегодня способом самоидентификации групп. Другим важным отличием истории и памяти Лоуэнталь считает отличие по устойчивости: память рождает образы, которые редко бывают продолжительными, они забываются, пересматриваются, будучи вытесняемы другими образами, тогда как история «потенциально бессмертна».
Другая важная книга, на которую обратили внимание специалисты, работающие в этой области, — «Культурная память» (1992) немецкого ученого-египтолога Я. Ассмана. Этот труд, безусловно, имеет теоретическое значение, хотя базируется на исследовании древних культур, прежде всего культуры Древнего Египта. Сам автор указывает, что опирается на идеи Хальбвакса, развивая их в направлении культурологического подхода. В то же время он подчеркивает, что использует понятие памяти совершенно в ином смысле, чем у Ф. Йейтс. Он вводит понятие «помнящей культуры» и замечает, что оно не имеет ничего общего с искусством запоминания. Отталкиваясь от идей Хальбвакса и Нора, Ассман указывает, что «помнящая культура» проистекает из выполнения социального обязательства: «Она обращена к группе. Здесь ставится вопрос: „Чего нам нельзя забыть?“ Этот вопрос в более или менее явной форме, на более или менее центральном месте — принадлежит к непременным атрибутам любой группы… Помнящая культура основывается в большой степени, хотя вовсе не исключительно, на формах обращенности к прошлому. Прошлое же вообще возникает лишь в силу того, что к нему обращаются».[49] Для этого обращения необходимо два условия: во-первых, прошлое не должно исчезнуть полностью, от него должны остаться те или иные свидетельства; во-вторых, эти свидетельства должны быть явно отличны от «сегодня».
Причину обращения к прошлому Ассман видит в альянсе власти и воспоминания: «Властители накладывают руку не только на прошлое, но и на будущее, они хотят, чтобы о них помнили, своими деяниями созидают себе памятники, заботятся о том, чтобы эти деяния рассказывались, воспевались, увековечивались в документах или, по крайней мере, документировались в архивах». Однако существует и альянс власти и забвения, проявляющийся в том, что формы власти стремятся всеми доступными средствами «сопротивляться вторжению истории».[50]
Культурная память, по Ассману, только одно из внешних измерений памяти, хотя и высшее. Он выделил четыре таких измерения: миметическая память, связанная с деятельностью, которой обучаются подражательно; предметная память, связанная с тем, что в окружающие предметы «вложены» представления человека; коммуникативная память, означающая, что память создается только в социальном взаимодействии; культурная память, образующая пространство, в которое плавно переходят первые три по мере того, как к утилитарному целевому назначению добавляется смысловое значение. По словам Ассмана, в культурной памяти прошлое «сворачивается в символические фигуры, к которым прикрепляется воспоминание… Культурному воспоминанию присуще нечто сакральное. Фигуры воспоминания имеют религиозный смысл, и воскрешение их в памяти часто происходит в форме праздника. Праздник служит — кроме многих других функций — также воскрешению в памяти обосновывающего прошлого. Обосновывается через обращение к прошлому не что иное, как идентичность вспоминающей группы».[51]
Ассман довольно подробно останавливается на различиях между коммуникативной и культурной памятью: к первой в той или иной степени приобщены все члены группы, знание приобретается вместе с языком и повседневной коммуникацией; вторая же всегда имеет своих носителей (шаманов, жрецов, ученых, писателей, бардов и т. д.) Культурная память в противоположность коммуникативной не распространяется сама собой, а нуждается в специальной заботе, а следовательно, подвергается некоему контролю. Автором предлагается следующая таблица, систематизирующая такие различия.[52]
Коммуникативная память. | Культурная память. | |
Исторический опыт в рамках индивидуальных биографий. | Мифическая предистория, события в абсолютном прошлом. | |
Формы. | Неформальна, слабо оформлена, естественна, возникает во взаимодействии. | Учреждена, в высокой степени оформлена, ритуальная коммуникация, праздник. |
Средства. | Животное воспоминание в органической памяти, непосредственный опыт и устные рассказы. | Устойчивые объективации, традиционная символическая кодировка / инсценировка в слове, образе, танце и т. д. |
Временная структура. | 80—100 лет, сдвигающийся вместе с современностью временной горизонт в 3—4 поколения. | Абсолютное прошлое мифической древности. |
Носители. | Неспецифические современники определенной помнящей общности. | Специалисты — носители традиции. |
Как личная идентичность основана на памяти, так и группа может сохранять свою идентичность только благодаря памяти.
«Различие состоит в том, — пишет Ассман, — что групповая память не имеет физиологической основы. Ее замещает в этом случае культура — комплекс обеспечивающего идентичность знания, объективированного в символических формах, таких как мифы, песни, танцы, пословицы, законы, священные тексты, скульптуры, орнаменты, живопись, дороги и даже, как в случае австралийцев, — целые местности. Культурная память распространяется в формах воспоминания, изначально принадлежащих празднику и обряду».[53] С изобретением письменности обрядовая когерентность переходит в текстуальную, что ведет к уменьшению элемента повторения, составляющего ядро обряда. Поэтому текст может быть забыт или, по меньшей мере, может забыться его первоначальный смысл, что ведет к его выводу из коммуникации.
Как отмечает Ю. А. Арнаутова в статье, специально посвященной концепции Ассмана, протоформой всякой культуры воспоминания он считает память о мертвых, поминовение их. Понятие прошлого возникает, когда осознается разница между вчера и сегодня, и смерть как бы является «первичным опытом» такого осознания. Воспоминания, связанные с умершими, с одной стороны, относятся к коммуникативной памяти, так как представляют некий способ общения и конструирования взаимоотношений группы со своими умершими членами, а с другой, их можно считать частью культурной памяти, поскольку она обладает устойчивыми формами, требует специальных обрядов, институтов, носителей.[54]
В критике концепции Ассмана выделяются два принципиальных момента. Во-первых, речь идет о соотношении коммуникативной и культурной памяти. Как пишет Ю. Хмелевская, «в этой связке присутствует явная асимметрия: несмотря на то, что само понятие коммуникативной памяти несомненно намекает на участие индивидов в создании образов коллективной идентичности, хотя бы в краткосрочной перспективе, этот вопрос в построениях Я. Ассмана остается открытым, в то время как ведущая роль в меморализации прошлого отводится нормативной культурной памяти».[55] Во-вторых, как пишет Б. И. Ровный, деление на эти два вида памяти продуктивно, только когда речь идет о традиционных обществах. В современном обществе прошлое подвергается мифологизации значительно быстрее, при жизни современников.[56]
Итак, рассмотрение концепции Ассмана позволяет сделать некоторые выводы, актуальные в плане этого методического пособия. Во-первых, понятия «историческая память» и «культурная память» не идентичны, хотя можно видеть их сходства. Общим является направленность на достижение и сохранение идентичности, опора на устную традицию. То значение, которое Ассман приписывает культурной памяти, в педагогическом смысле заставляет обратить существенное внимание на значение символики, праздников и обрядов как воспитательного средства и инструмента социализации.
Следует обратить внимание еще на один труд, выполненный в жанре культурно-исторических исследований, в отличие от предыдущих не привлекший должного внимания российских ученых. Речь идет о книге англо-американского историка С. Шамы «Ландшафт и память» (1995). Автор обращается к теме культурной памяти, однако он локализует ее в пространстве и во времени. Географические рамки этого исследования исключительно широки, хотя и ограничены в основном Европой и Америкой. В так называемой ландшафтной истории, получившей распространение в историографии примерно в последнюю четверть века, основное внимание уделялось влиянию человека на окружающую среду, изменению ландшафта под влиянием человеческой деятельности. Шаму интересует, если так можно выразиться, оборотная сторона медали. Для него ландшафт — это не реальность, а конструкция, созданная сознанием людей под влиянием культурных традиций и исторической памяти. Шама говорит о том, что ландшафт — это богатое хранилище «мифов, памяти, навязчивых идей»: «Культы, о которых говорят, что их надо искать в других, аборигенных культурах — культ первобытного леса, реки жизни, священной горы — на самом деле живут и здравствуют с нами, и надо только знать, как искать их».[57] Идея ландшафта как хранилища исторической памяти раскрывается в трех главных частях книги: Лес, Вода, Камень. Так, в начале первой части историк ведет речь о Беловежской пуще, о том крае, который в начале XX в., спасаясь от еврейских погромов, покинул его дед. Рассказ о посещении пущи, о вкусе бизоньего мяса становится отправной точкой для рассуждения о воплощении памяти о тех, кто здесь проживал, о ливонских рыцарях и польской шляхте, о насилиях гестапо и НКВД. Шама говорит, что значил лес в культуре людей и как культура леса отразилась в литературе и искусстве, в основном XIX—XX вв. Другие выражения ландшафтной культурной памяти — вода («река жизни») и камень («священная гора»). Как видим, подход Шамы связан с концепцией мнемонических мест. Однако если у Нора и его сторонников в определении «территории памяти» явно присутствует идеологический подтекст, то у Шамы постмодернистская идея контрпамяти выражена куда менее отчетливо. Культура ландшафта конструируется, но память и традиция значат больше, чем политический контекст.
Еще одним важнейшим историографическим источником развития концепции исторической памяти явились труды по так называемой устной истории, которая приобрела очень широкое признание во второй половине XX в., особенно в его два последних десятилетия. Традиционная историческая наука отдает безусловный приоритет письменным историческим источникам, уровень доверия к устным свидетельствам в ней существенно ниже. При этом, как правило, ссылаются и на погрешности памяти, и на присутствующее подчас стремление представить прошлое в выгодном для себя свете. Однако под влиянием субъективистской критики, показавшей, что любой письменный текст (в том числе первичный источник) также является интерпретацией, чертой современной историографии стало широкое использование устных свидетельств. В устной истории важнейшим способом «взаимодействия» с прошлым является собирание воспоминаний, их хранение и интерпретация. Нетрудно видеть: сами методы устной истории предполагают тесное междисциплинарное сотрудничество, в том числе с психологией, педагогикой и социологией. Недаром видный специалист по устной истории, английский ученый П. Томпсон пишет об особом значении психоанализа, превращающего психиатров в «колдунов и одновременно оракулов XX столетия. Для историков же их деятельность представляет собой двойной вызов, как профессиональный, так и личный, со стороны альтернативной профессии, манипулирующей прошлым по иным правилам».[58]
В контексте нашего исследования устной истории придается особое значение, ибо она рассматривается как один из главнейших аспектов педагогики исторической памяти. Поэтому более подробно о трудах в области устной истории и о педагогических условиях и принципах ее использования будет сказано ниже. Здесь можно ограничиться несколькими краткими замечаниями. Важным фактором развития устной истории явился отход от прежнего взгляда на историю как преимущественно на историю «высокой» политики и усиливавшийся интерес к повседневности, понимание, что история — это не только сильные мира сего, но и те, о ком было принято говорить как о «молчаливом большинстве». Это большинство оставило после себя мало письменных источников, но обращение к их воспоминаниям (по меньшей мере о событиях не столь отдаленных во времени) открыло в историографии совершенно новую перспективу. Томпсон так пишет об одном из преимуществ устной истории: «История приобретает новое измерение, как только в качестве „сырья“ начинает использоваться жизненный опыт самых разных людей. Устная история дает нам источники, весьма напоминающие опубликованные автобиографии, но в гораздо более широком масштабе. Подавляющее большинство опубликованных автобиографий относится к узкой группе политических, социальных и интеллектуальных лидеров, и даже если историку посчастливится найти автобиографию, связанную с интересующим его конкретным местом, временем и социальной группой, в ней может почти или совсем не уделяться внимания изучаемой им проблеме. И напротив, специалисты по устной истории могут точно определить, кого им интервьюировать и о чем спрашивать. Интервью к тому же является методом выявления письменных источников и фотографий, которые невозможно обнаружить иным путем».[59]
Следует также сразу выделить такую черту устной истории, как ее направленность на особое, эмоциональное восприятие прошлого. Рассказывая о своей жизни в контексте событий прошлого, люди подчас впадают в такое чувственное состояние, какое не только несет выраженный личностный оттенок, но и может разбередить незаживающие раны, вызвать гнев, ярость, слезы и другие яркие эмоциональные проявления. Это особенно проявляется в случаях, связанных с ужасами войны, репрессий, насилиями, постыдными или непонятными событиями в личной жизни.[60] Но даже если не касаться таких крайних ситуаций, устная история часто бывает олицетворением социальной преемственности, связи поколений: «История семьи в особенности способна придать человеку сильное ощущение бесконечности жизни, над которой не властна даже смерть. В местной истории деревня или город ищет смысл перемен, которые переживает, а вновь прибывшему исторические знания помогают укорениться в новой среде».[61]
В новейшей российской литературе теме исторической памяти уделяется значительное внимание. Публикации такого рода можно разделить на две группы. Первая включает общетеоретические работы, в которых проблема исторической памяти чаще всего ставится в контексте вопроса о статусе истории в современном обществе. В них, как правило, интерпретируются идеи, выработанные в западном гуманитарном знании, преимущественно взгляды тех ученых, о которых уже говорилось выше. Вторую группу составляют труды, носящие, так сказать, прикладной характер. Это работы социологов и психологов, затрагивающие какой-то конкретный аспект исторической памяти. Не удивительно, что самый большой интерес вызывает память о Великой Отечественной войне.
К первой группе относятся работы Л. П. Репиной, выступившей новатором в постановке этой темы в отечественной методологии истории. Она дает следующее определение: «Историческая память чаще всего понимается как одно из измерений индивидуальной и коллективной или социальной памяти — как память об историческом прошлом или, вернее, как символическая репрезентация исторического прошлого. Историческая память — не только один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом, ибо оживление разделяемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, который имеет особенное значение для конституирования социальных групп в настоящем».[62] Репина принимает тезис о различии истории и исторической памяти, однако, как уже отмечалось выше, она против их противопоставления, предпочитая рассматривать историю, «конструируемую» историками, как часть и разновидность исторической памяти. Другой важный тезис, который рассматривает Репина, касается соотношения индивидуальной и коллективной памяти. Она подчеркивает, что индивидуальная память не только включает собственный жизненный опыт, но и подразумевает приобщение к коллективному опыту. В педагогическом контексте для нас важно, что Репина подчеркивает роль в этом устных семейных хроник, рассказов старших о семейном прошлом (воспоминания второго порядка). «Подобные домашние хроники обычно рассматривают как основу семейной идентичности, но на персональном уровне эти эпизодически или регулярно актуализируемые семейные воспоминания вербально переживаются, присваиваются и „входят“ неотчуждаемым компонентом в индивидуальное сознание», — пишет она.[63] Этот автор полагает, что различия между индивидуальной и коллективной памятью относительны, ибо индивидуальная память тоже социальна, так как конструируется языком, образованием, коллективно разделяемыми идеями и опытом. Индивидуальная память превращается в коллективную в процессе коммуникации, рассказа о пережитом.
В другой обстоятельной статье, также посвященной теме исторической памяти, Репина подробно рассматривает вопрос о значении памяти для обретения индивидами и социальными группами (особенно маргинальными) собственной идентичности, подчеркивая, что историки особенно интересуются «использованием прошлого» и «риторикой памяти». В трудах историков «идея истории, образы прошлого, составляющие важную часть общественного сознания и групповой идентичности, могут служить легитимации существующего порядка, или напротив, противопоставлять ему идеал „золотого века“, формируя специфическую матрицу восприятия происходящего и выполняя функцию социальной интерпретации». Следует, однако, учитывать, что в сознании людей события, современниками или участниками которых они были, воссоздаются не в «чистом» виде, а определенным образом преломляются, искажаются и интерпретируются. Это, безусловно, затрудняет работу историка, но, по мнению Репиной, не создает непреодолимых проблем: «С учетом знания исследователем ситуативного контекста, особенностей коллективной психологии и механизма переработки первичной информации в сознании свидетеля — это не может быть непреодолимым препятствием для историка».[64] Автор указывает на значение главных, центральных событий, «отложившихся» в памяти, для формирования идентичности, причем память о них в большой мере «детерминирует жизненную ситуацию настоящего». При этом она отмечает не только наличие противоречий между историей и памятью, но и «существенные межпоколенные различия» в восприятиях и представлениях.[65] Это последнее наблюдение важно с педагогической точки зрения, так как речь идет о возрастных различиях, которые должны учитываться в практической деятельности воспитателей.
Репина совершенно правомерно указала на важность идей известного советского историка М. А. Барга о сущности понятия исторического сознания именно в контексте исторической памяти. Она, в частности, подчеркивает его мысль: история исторической науки — это не только цепь сменявших друг друга исторических школ и направлений, но и «процесс, обусловленный системными связями историографии с данным типом культуры».[66] Таким образом, историописание неотделимо от исторической культуры, в основе которой лежит определенный тип исторического сознания. Репина, по существу, основывается на подходе Барга и развивает его, когда пишет о неправомерности противопоставления памяти и историографии.
Репина обращает внимание на понятие «кризис исторической памяти», разработанное в трудах видного немецкого историка и методолога Й. Рюзена. По его мнению, кризис возникает при столкновении исторического сознания с опытом, не укладывающимся в привычном историческом представлении. Рюзен называл три типа кризисов, исходя из их глубины, а следовательно, и стратегий их преодоления. Нормальный кризис преодолевается путем несущественного изменения в способах смыслообразования, характерных для данного типа исторического сознания. Второй тип, критический, ставит под сомнение возможность адекватно воспринимать и интерпретировать прошлый опыт и требует коренных изменений в историческом сознании, фактически создает его новый тип. Катастрофический кризис угрожает восстановлению идентичности, пережитый опыт воспринимается как катастрофа, ставится под сомнения возможность исторического смыслообразования в целом.[67] Примером здесь может служить кризис немецкого национального самосознания после Второй мировой войны.
В работах М. Ф. Румянцевой наиболее интересным, хотя и небесспорным, показался следующий тезис: исторический тип памяти возникает только с возникновением письменности.[68] Автор ссылается на авторитет Ю. М. Лотмана и приводит его мнение о том, что именно для письменной культуры характерно внимание к причинно-следственным связям, что влечет за собой обостренное внимание ко времени, следствием этого является «возникновение представления об истории». Для бесписьменной культуры, по Лотману, характерен тип памяти, направленный на «сохранение сведений о порядке, а не о его нарушениях, о законах, а не об эксцессах».[69] Главный вывод Румянцевой («Традиционная культура не имеет истории») вряд ли можно считать доказанным. Представляется, что она смешивает понятия истории и исторической памяти уже тогда, когда на первоначальной стадии своих рассуждений говорит: историческая память казуальна по целеполаганию. Можно считать, что тезис Румянцевой опровергается рассмотренной уже глубокой и оригинальной по содержанию книгой Я. Ассмана, который все же называл культуру традиционного общества «помнящей культурой».
Как уже отмечалось, конкретным аспектом изучения исторической памяти, вызывающим наибольшее внимание и одновременно наиболее острым, является тема Великой Отечественной войны. В трудах ряда исследователей, как отечественных, так и зарубежных, обосновывается тезис о существовании двух видов памяти о войне. Первичный вид памяти преобладал до конца 1960;х гг., когда большую часть населения еще составляли те, кто имел непосредственный опыт войны, на фронте или в тылу. Преимущественно это была память-травма. Другой вид памяти появился в большой мере под влиянием политикоидеологических мотивов во второй половине 1960;х гг., когда в основном и возникли коммерационные практики, символизировавшие память о войне как память о Победе. Именно этот вид памяти доминирует в наши дни, почти вытеснив память о войне как травме. В опросах 1996 г. на вопрос «Что у вас лично вызывает наибольшую гордость в истории?» на победу в Великой Отечественной войне указывали 44% опрошенных, в опросе 2003 г. — уже 87%. Известный социолог Л. Д. Гудков, развивающий эту концепцию двух видов памяти о войне, пишет: «Всякий раз, когда упоминается „Победа“, речь идет о символе, который выступает для подавляющего большинства опрошенных, для общества в целом важнейшим элементом коллективной идентификации, точкой отсчета, мерилом, задающим определенную оптику оценки прошедшего и отчасти — понимания настоящего и будущего. Победа 1945 г. — не только центральный смысловой узел советской истории, начавшейся Октябрьской революцией и завершившейся распадом СССР; фактически это единственная опорная точка национального самосознания постсоветского общества. Победа не только венчает, но как бы очищает и оправдывает войну, одновременно „закрывая“ от рационализации ее негативную, обратную сторону, табуируя тему войны, а вместе с тем закрывая и саму возможность объяснения причин и хода войны, анализа действий руководства, природы государственного режима… Победа в войне легитимирует советский тоталитарный режим в целом… Не случайно по мере роста символической силы Победы в войне восстанавливается авторитет товарища Сталина (и как главнокомандующего в этой войне, и как вождя народа)».[70]
Данные опроса 2003 г. целиком подтверждаются социологическим опросом, проведенным в июле 2007 г. среди жителей Петербурга, Казани и Ульяновска.[71] День Победы вышел на первое место среди всех общероссийских праздников, оставив далеко позади и День независимости, и Рождество, и Пасху, и Новый год. В рейтинге государственных деятелей Сталин занял третье место в Петербурге и Казани и четвертое (уступив третье Ленину) в Ульяновске. В целом социологи отмечают явную тенденцию к «обелению» и «идеализации» советского прошлого: 44% опрошенных считают, что оно положительно влияет на нравственность современных россиян, и 50% — что оно положительно сказывается на развитии отечественной культуры. В сопоставлении с социологическими данными 1990 г. драматически упал интерес к Западу. Тогда только 5,5% ленинградцев считали, что Россия в советский период превосходила Запад или была наравне с ним, в 2007 г. этот показатель вырос в восемь раз, достигнув 41%.
Память о войне в Германии также претерпевала эволюцию, хотя ее направленность отличалась. Если в ГДР 8 мая с начала ее существования отмечалось как освобождение, то по-другому обстояло дело в ФРГ. 1950;е гг. называют временем «принудительной стыдливости», война и послевоенное время превратились в воспоминаниях многих западных немцев в единый временной отрезок, полный лишений и страданий. Это вписывалось в широко распространенное представление о себе, о немцах как о жертвах. Воспоминания ветеранов той поры были направлены на позитивизацию отрицательного образа, в котором они предстали послевоенному обществу. Публичная память о войне в 1950;е гг. способствовала историческому обоснованию потребности перевооружения. Как считает немецкий автор, только успехи новой Германии, как экономические, так и связанные с утверждением конституционно-демократических норм политической жизни, повлияли на память о войне: поражение в 1945 г. стало восприниматься как освобождение от национал-социалистического деспотизма. Однако «такая форма памяти и на сегодняшний день не является общим местом — да и как могло бы быть иначе в плюралистическом обществе. Еще меньше она таковым являлась на протяжении прошедших десятилетий. Болевую точку образовывало (и до сих пор образует) понимание столь же центрального, сколь противоречивого факта: того, что безусловная капитуляция стала условием свободы».[72]
В связи со Второй мировой войной (хотя, разумеется, не только с ней) развивается то, что можно назвать «педагогикой исторической памяти». Так, И. Щербакова рассказывает о проводившемся обществом «Мемориал» в 1999 г. конкурсе школьных сочинений «Человек в истории. Россия — XX век», в котором приняли участие 15 тысяч учащихся. В 2005 г. лучшие сочинения были опубликованы ею в сборнике «Цена победы». Многие из сочинений отразили неофициальную, неказенную, народную память о войне в основном через призму семейной истории.[73] Щербакова отметила: сочинения показали, что из памяти оказался почти вытесненным Холокост, не обошедший стороной оккупированную немцами часть СССР. Впрочем, центр «Холокост» предпринимал значительные усилия для сохранения памяти о трагедии еврейского народа путем внедрения соответствующих тем в вузовское и школьное образование, проведения конкурсов, подготовки учебных пособий.[74] На Западе, особенно в Германии, память о Холокосте стала тем вызовом (явлением кризиса памяти) для национального сознания, который подтолкнул к переосмыслению опыта войны в целом.
Интересную работу, близкую к «педагогике исторической памяти», написал липецкий историкА. И. Борозняк.[75] Он рассказал о большой работе, которая проходит в Германии, по сохранению памяти о жертвах нацизма — советских военнопленных, вывезенных в годы войны на принудительные работы. Речь идет не только о захоронениях, но и о воспитании школьников на основе проектов, в том числе по устной истории, позволяющих восстановить трагическую память о войне. Многие из этих работ немецких школьников выполнялись в рамках программы, возникшей в 1973 г. по инициативе промышленника и мецената К. Кербера. Фонд его имени продолжает эту программу и в настоящее время. Об этих работах немецких школьников и об опыте многих немецких школ и рассказывает Борозняк. Несомненно, что можно согласиться с его словами: «Многочисленные конкурсные работы немецких школьников, повествующие о трагедии советских пленных и иностранных рабочих, находились, казалось бы, в зоне любительского историописания, вдали от генерального направления исторических изысканий. Но они стали событием научного характера и, в известной мере, вызовом, обращенным к университетскому и академическому сообществу».[76]
Дидактической основой перехода к таким формам обучения стало недовольство устаревшими способами преподавания истории, когда материал преподносится в «готовом» виде. В ФРГ с 70-х гг. XX в. получила распространение модель обучения, которую назвали Forschendes Lernen, т. е. обучения, сопряженного с самостоятельным исследованием (вариант проектной деятельности). Теоретическое обоснование такого подхода дал Б. фон Боррис, немецкий педагог, настаивавший, что этот метод не только развивает учеников и способствует их достижениям, но и ведет к изменению политического климата и исторической культуры. Борозняк приводит слова известного немецкого историка У. Фреверт: «Принцип Forschendes Lernen следует понимать как перевод идеи демократизации на язык методики школьного преподавания… Секрет долговременного успеха конкурса состоит в том, что учеников не регламентируют, что им не навязывают чужих мнений, не определяют рамок, в которых школьники сами осуществляют процесс обучения».[77]
Итак, изучение литературы социологического и культурно-исторического характера показало, что в современном гуманитарном знании историческая память является не просто отдельно взятой концепцией, но приобрела, по мнению некоторых специалистов, черты особой научной дисциплины, основанной на собственной теории, имеющей собственную внутреннюю иерархию и собственные методы исследования. Теория истории исторической памяти возникла на основе междисциплинарности, поэтому ее связь с другими областями гуманитарного знания, особенно с историей, продолжает оставаться предметом научных дискуссий. Теория исторической памяти является сейчас одной из самых динамично развивающихся областей гуманитарного знания. Прикладной характер теории исторической памяти находит свое выражение в ряде существующих практик социального воспитания. Анализ таких образовательных практик и перспективы их развития являются актуальной целью педагогического исследования.
Список рекомендуемой литературы
- 1. Адорно, Т. Что означает «проработка прошлого» [Текст] // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2—3.
- 2. Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности [Текст] /
Я. Ассман. — М.: Языки славянской культуры, 2004. (Глава I: Помнящая культура; Глава III: Культурная идентичность и политическое воображение.)
- 3. Век памяти, память века. Опыт обращения с прошлым в XX столетии [Текст]: сб. статей. — Челябинск: Каменный пояс, 2004. (Раздел 5: Трансляция образов памяти в массовой культуре; Раздел 6: Драмы истории и деформации памяти; Раздел 7: Память и власть: политическое использование прошлого.)
- 4. Гудков, Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян [Текст] // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2—3.
- 5. Йейтс, Ф. Искусство памяти [Текст] / Ф. Йейтс. — СПб., 1997.
- 6. Нора, П. Всемирное торжество памяти [Текст] // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2—3.
- 7. Румянцева, М. Ф. Историческая память и механизмы социальной идентификации [Текст] // Мир психологии. — 2001.
- 8. Хальбвакс, М. Коллективная и историческая память [Текст] // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2—3.
- 9. Хаттон, П. История как искусство памяти [Текст] / П. Хаттон — СПб.: Владимир Даль, 2003. (Разделы: Возрожденное искусство памяти; Морис Хальбвакс: историк коллективной памяти; Филипп Ариес: между историей и традицией.)
Вопросы для обсуждения
- 1. Раскройте сущность концепции коллективной памяти Хальбвакса и определите ее привлекательные стороны и слабости.
- 2. В чем причины усилившегося интереса к концепции исторической памяти в социологии? Какие примеры ее использования вы можете привести?
- 3. Приведите примеры актуализации проявлений исторической памяти в современном обществе. Могут ли они иметь негативные последствия?
- 4. В чем смысл понятия «искусство памяти» и как оно применяется в культурно-исторических исследованиях?
- 5. В чем значение концепции культурной памяти Я. Ассмана в контексте культурно-исторических исследований?
- 6. Какое значение память приобрела в контексте исторических исследований во второй половине XX века? В чем смысл и значение «мнемонических мест» П. Нора?
- [1] Хальбвакс, М. Коллективная и историческая память [Текст] // Неприкосновенный запас. — 2005. № 2—3. — С. 22.
- [2] Там же. — С. 23.
- [3] Там же.
- [4] Репина, Л. П. Историческая память и современная историография[Текст] // Новая и новейшая история. — 2004. № 5. — С. 44.
- [5] Хальбвакс, М. Указ. соч. — С. 24—25.
- [6] Хальбвакс, М. Указ. соч. — С. 26.
- [7] Репина, Л. П. Указ. соч. — С. 45.
- [8] См.: Хаттон, П. История как искусство памяти [Текст] / П. Хаттон. —СПб., 2003.—С. 195—196.
- [9] Хальбвакс, М. Указ. соч. — С. 26.
- [10] Хмелевская, Ю. Ю. О меморизации истории и историзации памяти[Текст] // Век памяти, память века. — С. 10.
- [11] Хальбвакс, М. Указ. соч. — С. 14.
- [12] Хаттон, П. Указ. соч. — С. 200.
- [13] Хаттон, П. Указ. соч. — С. 203—204.
- [14] Ассман, Я. Культурная память [Текст] / Я. Ассман. — М., 2004. —С. 47—48.
- [15] Адорно, Т. Что означает «проработка прошлого» [Текст] // Неприкосновенный запас. — 2005. № 2—3. — С. 39—40.
- [16] Адорно, Т. Что означает «проработка прошлого». — С. 36.
- [17] Там же. — С. 40—41.
- [18] «Будущее немыслимо без прошлого…» [Текст]: Интервью с профессором И. Ролфесом // Преподавание истории и обществознания в школе. —2007. № 3. — С. 60.
- [19] См., напр.: Херстер-Филиппс У. «Спор историков» в ФРГ [Текст] // Новаяи новейшая история. — 1988. № 3.
- [20] Интервью с Р. Козеллеком [Текст] // Диалог со временем. — 2005.№ 15. — С. 337—338.
- [21] Йейтс, Ф. Искусство памяти [Текст] / Ф. Йейтс. — СПб., 1997. — С. 13.
- [22] Хаттон, П. Указ. соч. — С. 97.
- [23] См.: Йейтс, Ф. Указ. соч. Гл. 3.
- [24] Там же. Гл. VII—VIII; IX—XIV.
- [25] Хаттон, П. Указ. соч. — С. 99—100.
- [26] См.: Соколов, А. Б.
Введение
в историографию нового и новейшего времени стран Западной Европы и США [Текст] / А. Б Соколов. — Яр-ль, 2007. —С. 124.
- [27] Макаров, А. И. Образ Другого как образ памяти [Текст] // Диалог современем. — 2007. — Вып. 18. — С. 10—11.
- [28] Хаттон, П. Указ. соч. — С. 34.
- [29] Хаттон, П. Указ. соч. — С. 77.
- [30] Арьес, Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке [Текст] /Ф. Арьес. — Екатеринбург, 1999. — С. 398—399.
- [31] Хаттон, П. Указ. соч. — С. 229—230.
- [32] Там же. — С. 238.
- [33] Арьес Ф. Указ. соч. — С. 176.
- [34] Арьес Ф. Указ. соч. — С. 185; 194.
- [35] Ле Руа Ладюри, Э. Монтайю. Окситанская деревня (1294—1324)[Текст] / Ле Руа Ладюри, Э. Монтайю. — Екатеринбург, 2001.
- [36] Дарнтон, Р. Кошачье побоище и другие эпизоды из истории французскойкультуры [Текст] / Р. Дарнтон. — М., 2002.
- [37] Хмелевская, Ю. Ю. Указ. соч. — С. 13.
- [38] Там же. — С. 14.
- [39] Нора, П. Всемирное торжество памяти [Текст] // Неприкосновенныйзапас. — 2005. № 2—3. — С. 202.
- [40] Там же. — С. 205.
- [41] Нора, П. Всемирное торжество памяти. — С. 206—207.
- [42] Там же. — С. 207.
- [43] Нора, П. Всемирное торжество памяти. — С. 206.
- [44] Репина, Л. П. Указ. соч. — С. 45.
- [45] Лоуэнталь, Д. Прошлое — чужая страна [Текст] / Д. Лоуэнталь. — СПб., 2004. — С. 332.
- [46] Там же. — С. 307.
- [47] Там же. — С. 311.
- [48] Лоуэнталь, Д. Прошлое — чужая страна. — С. 318.
- [49] Ассман, Я. Указ. соч. — С. 30—31.
- [50] Там же. — С. 75—76.
- [51] Там же. — С. 54—55.
- [52] Ассман, Я. Указ. соч. — С. 58—59.
- [53] Ассман, Я. Указ. соч. — С. 95.
- [54] Арнаутова, Ю. А. Культура воспоминания и история памяти [Текст] //История и память. — М., 2006. — С. 51.
- [55] Хмелевская, Ю. Указ соч. — С. 11.
- [56] Ровный. Б. И. Механизмы исследования коллективной памяти: возможности и искушения [Текст] // Век памяти, память века. Опыт обращенияс прошлым в XX столетии. — Челябинск, 2004. — С. 42.
- [57] Schama, S. Landscape and Memory. N. Y., 1996. P. 14.
- [58] Томпсон, П. Голос прошлого. Устная история. [Текст] / П. Томпсон. — М., 2003.— С. 176—177.
- [59] Томпсон, П. Указ. соч. — С. 17—18.
- [60] Томпсон, П. Указ. соч. — С. 183.
- [61] Там же. — С. 15.
- [62] Репина, Л. П. Указ. соч. — С. 41.
- [63] Репина, Л. П. Указ. соч. — С. 43.
- [64] Репина, Л. П. Историческая культура как предмет исследования[Текст] // История и память. — М, 2006. — С. 11.
- [65] Репина, Л. П. Память и историописание [Текст] // Там же. — С. 37—38.
- [66] Ее же. Историческая культура как предмет исследования [Текст]. — С. 17.
- [67] Репина, Л. П. Память и историописание [Текст]. — С. 44—45.
- [68] Румянцева, М. Ф. Историческая память и механизмы социальной идентификации [Текст] // Мир психологии. — 2001. № 1; Ее же. «История какпамять»: после постмодерна [Текст] // Новый образ исторической науки в векглобализации и информатизации. М., 2005.
- [69] Мир психологии. 2001. № 1. — С. 105.
- [70] Гудков, Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян [Текст] //Неприкосновенный запас. — 2005. № 2—3. — С. 52. В этом специальномномере журнала по теме «Память о второй мировой войне 60 лет спустя —Россия, Германия, Европа» помещены и другие статьи, раскрывающие темупамяти о Великой Отечественной войне в историческом сознании современного российского общества (М. Ферретти, И. Щербакова и др.)
- [71] «Пожалейте, люди, палачей…» Массовое историческое сознание в постсоветской России [Текст] // URL: http://www.polit.ru/analitics/2007/ll/21/stalinism.html
- [72] Эхтернкамп, Й. «Немецкая катастрофа»? О публичной памяти о Второймировой войне в Германии [Текст] // Неприкосновенный запас. — 2005.№ 2—3. — С. 85.
- [73] Щербакова, И. Над картой памяти [Текст] // Там же.
- [74] Центр «Холокост» [Текст] // Там же.
- [75] Борозняк, А. И. Против забвения. Как немецкие школьник сохраняютпамять о трагедии советских пленных и остарбайтеров [Текст] / А. И. Борозняк. — М., 2006.
- [76] Там же. — С. 195.
- [77] Борозняк, А. И. Указ. соч. — С. 26.