Лекция 6 Пространство и время сотворенного мира
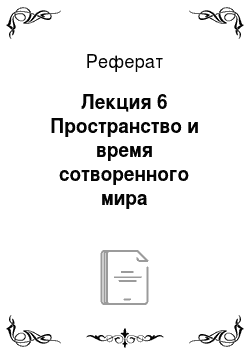
Одна из самых глубоких концепций времени и вечности в раннесредневековой философии принадлежит Августину. В своей «Исповеди» мыслитель радикально противопоставляет друг другу время — как характеристику сотворенного мира — вечности Бога, постигаемой в акте веры: «Уйдя от ветхого человека и собрав себя, да последую за одним. Тогда я встану и утвержусь в Тебе, в образе моем, в истине Твоей… Читать ещё >
Лекция 6 Пространство и время сотворенного мира (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таким образом, в рамках логики целевой причинности человек и свое собственное существование должен возвести к абсолютной причине путем открытия и утверждения в себе божественного — духовного — начала. Тем самым человек открывает «внутри себя» измерение вечности, что радикально меняет смысл категорий пространства и времени применительно к сотворенному миру. Пространство и время мыслятся в рамках онтологии творения не.
«сами по себе», но в отношении к вечности Бога, апофатически определяемой как вневременное и внепространственное бытие. То, что вечность есть не «бесконечно большое время», но отсутствие времени, «вечное сейчас», отчетливо понимают все христианские мыслители Средневековья.
Одна из самых глубоких концепций времени и вечности в раннесредневековой философии принадлежит Августину. В своей «Исповеди» мыслитель радикально противопоставляет друг другу время — как характеристику сотворенного мира — вечности Бога, постигаемой в акте веры: «Уйдя от ветхого человека и собрав себя, да последую за одним. Тогда я встану и утвержусь в Тебе, в образе моем, в истине Твоей. Я не буду больше терпеть от вопросов людей, которые наказаны болезненной жаждой: им хочется пить больше, чем они могут вместить. Они и спрашивают: „что делал Бог до сотворения мира?“ или „зачем Ему пришло на ум что-то делать, если раньше Он никогда ничего не делал?“. Дай им, Господи, как следует понять, что они говорят, дай открыть, что там, где нет времени, нельзя говорить „никогда“. Сказать о ком-нибудь: „он никогда не делал“ — значит сказать: „он никогда не делал во времени“. Пусть они увидят, что не может быть времени, если нет сотворенного; и пусть прекратят пустословие. Пусть обратятся к Тому, что „перед ними“, пусть поймут, что раньше всякого времени Ты — вечный Создатель всех времен, что раньше Тебя не было ни времени, ни созданий, если даже есть и надвременные»[1].
В схоластической философии вопросы соотношения вечности Творца с временем и пространством сотворенного мира наиболее подробным образом рассматриваются в учении Фомы Аквинского. Именно вечность как атрибут Бога есть, согласно Фоме, условие божественного всеведения, которое находящимся во времени человеческим умом может быть помыслено только отрицательно, т. е. посредством «отбрасывания» времени: «…когда мы говорим „Бог знает“ или „знал, что это будет“, между Божьим знанием и познанной вещью вставляется нечто опосредующее, а именно время, в котором [построено] высказывание; оно относит познанную Богом [вещь] к будущему. Но в Божьем знании она не принадлежит к будущему, ибо это знание существует в моменте вечности и относится ко всем [вещам] как к настоящим. Итак, вот в чем здесь ошибка: время, в которое мы говорим [т. е. настоящее], и время высказывания [т. е. будущее], и даже прошедшее время — в высказывании типа „Бог знал“ — [на самом деле] сосуществуют с вечностью [как одновременные ей]; мы же приписываем вечности отношение прошедшего или настоящего времени к будущему, что совершенно недопустимо. От этого-то мы и впадаем в заблуждение, неверно приписывая [вечности несовместимую с ней] акциденцию»[2].
Эта цитата наглядно демонстрирует ту двойственность положения мыслящего, которая характерна для онтологии творения, в данном случае — применительно к понятию времени: последнее, так же как и все относящееся к сотворенному миру, может быть понято только посредством выхода за пределы себя самого (актом веры), т. е. выхода к апофатическому понятию вечности. Мыслящий парадоксальным образом существует и во времени (с его тремя модусами — прошлым, настоящим и будущим), и в вечности (коль скоро понимает вторичность времени по отношению к «вечному сейчас» Бога). То же самое раздвоение оказывается неизбежным и применительно к категории пространства. Последнее — как протяженность вещей сотворенного мира — уже в силу этой протяженности (предполагающей делимость) радикально противопоставляется неделимости божественного творящего действия, как это делает Фома, доказывая тезис о том, что «Бог не есть тело»: «Никакая бесконечная потенция не может заключаться в [протяженной] величине. Потенция первого двигателя есть бесконечная потенция. Следовательно, она не [заключена] в какойлибо величине. Таким образом, Бог, который есть первый двигатель, не есть ни тело, ни телесная сила»[3].
То, что Аквинский называет здесь «бесконечной потенцией», есть не что иное, как исключающий всякую потенциальность чистый акт, который не может быть частичным, а значит, и не может начаться и разворачиваться в пространстве, опережая всякое количество и всякую протяженность. Бытие как чистый акт, по выражению Фомы, «не обладает какой-либо количественной протяженностью. .»[4].
Этот разрыв между вечностью Творца и пространством-временем сотворенных вещей как раз и имеет своим следствием ту статичность мира, которая характеризует онтологию творения. Если вечность одновременна всем временам и «однопространственна» всем местам (пространствам), то любое движение в сотворенном мире — будь то течение времени или пространственное перемещение — является, по сути дела, иллюзией, за которой скрывается подлинная реальность — «вечное сейчас». Именно поэтому любые попытки сколько-нибудь серьезной трансформации мира — со стороны человека — оказываются здесь чем-то греховным, т. е. нарушающим извечный онтологический порядок. Все «места» и все «времена» уже даны вечным актом творения, неизменным и каждый раз иным, новым. Эта интуиция вечности, определяющая восприятие мира как «моментального снимка» акта творения, отчетливо проявляется и на уровне повседневного мышления, характеризующего массовое сознание человека средневековой европейской культуры.
Как отмечает Ж. Ле Гофф, «…смешение времен было в первую очередь свойственно массовому сознанию, которое путало прошлое, настоящее и будущее. Оно, это смешение, проявлялось особенно отчетливо в стойкости чувства коллективной ответственности — характерной черты примитивизма. Все ныне живущие люди отвечают за проступок Адама и Евы, все современные евреи ответственны за страсти Христовы, а все мусульмане — за магометову ересь… Крестоносцы XI в. считали, что они направляются за море, чтобы покарать не потомков палачей Христа, а самих палачей. Равным образом и долго сохранявшийся анахронизм костюмов в изобразительном искусстве и театре свидетельствует не только о смешении эпох, но главным образом о чувстве и вере средневековых людей в то, что все существенное для человечества является современным»[5].
То, что историк называет «характерной чертой примитивизма» — представление средневекового европейца о коллективной ответственности, — может быть, однако, понято как еще одно вполне закономерное следствие, вытекающее из позиции реализма: сама принадлежность человека к той или иной категории («евреи», «мусульмане» и т. п.) предполагает вполне определенный набор характеристик, в том числе и определенную ответственность. Этот набор, как имеющий божественное, т. е. вневременное, происхождение, не имеет срока давности.
Пространственные представления человека средневековой культуры также отличаются статичностью, имеющей парадоксальный характер: подобно тому как применительно к вечности стираются границы между прошлым, настоящим и будущим, по отношению к непротяженности божественного творящего действия расстояние между различными «местами» сотворенного мира оказывается чем-то несущественным: «материально и духовно не существовало непроницаемых перегородок между земным и небесным мирами. Разумеется, приходилось преодолевать множество ступеней, переходить через пропасти, делать скачки. Но космография или мистическая аскеза равным образом провозглашали, что долгая дорога, великий путь паломничества души, „итинерарий“ (если воспользоваться термином св. Бонавентуры), приводит шаг за шагом к Богу»[6].
Добавим: приводит именно потому, что Бог уже присутствует в любой точке мира; таким образом, любое путешествие возможно только потому, что все эти разные точки мирового пространства связывает, соединяет друг с другом внепространственное божественное действие. Интуиция этого «всеприсутсгвия» Бога как источника бытия лежит в основе той мобильности средневекового европейца, которую отмечают многие исследователи. Та «легкость на подъем» человека средневековой культуры, о которой говорят историки, объясняется, как можно предположить, не только отсутствием громоздкой недвижимости, но и ощущением пребывания (какой-то частью своего существа) в «месте мест», или — в божественной трансцендентности.
Это безразличие к своему «здешнему», посюстороннему пространственному положению ярко демонстрирует фрагмент «Исповеди» Августина, повествующий о последних днях жизни его матери, скончавшейся в пути: «После уже я услышал, что, когда мы были в Остии, она однажды доверчиво, как мать, разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было, они же пришли в изумление перед мужеством женщины (Ты дал ей его) и спросили, неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города. „Ничто не далеко от Бога, — ответила она, — и нечего бояться, что при конце мира Он не вспомнит, где меня воскресить“»[7].
Слова св. Моники «Ничто не далеко от Бога» — замечательный пример того «двойного взгляда», который характеризует восприятие мира в онтологии творения: вечность здесь как бы «проглядывает» сквозь время и пространство. Эта двойственность порождает еще одну особенность пространственно-временных представлений средневекового европейца: и пространство, и время сотворенного мира качественно неоднородны, они имеют «разное наполнение», определяемое замыслом Творца. Отечественный исследователь средневековой европейской культуры А. Я. Гуревич характеризует эти представления следующим образом: «На земле… были места святые, праведные и места грешные. Путешествие в Средние века было прежде всего паломничеством к святым местам, стремлением удалиться из грешных мест в святые. Нравственное совершенствование принимало форму топографического перемещения (уход в пустынь или монастырь из.
«мира»). Достижение святости также осознавалось как движение в пространстве: святой мог быть взят в рай, а грешник ниспровергался в преисподнюю"[8].
Время для средневекового европейца тоже представляет собой не совокупность безразличных по отношению друг к другу моментов, которые можно заполнить чем угодно: время сотворенного мира уже заполнено, это время истории: «…историческое время приобретает определенную структуру, и количественно и качественно четко разделяясь на две главные эпохи — до Рождества Христова и после него. История движется от акта божественного творения к Страшному суду. В центре истории находится решающий сакраментальный факт, определяющий ее ход, придающий ей новый смысл и предрешающий все ее последующее развитие — пришествие и смерть Христа. Ветхозаветная история оказывается эпохой подготовки пришествия Христа, последующая история — результатом его воплощения и страстей. Это событие неповторимо и уникально по своей значимости»[9].
Эта «уже-заполненность» пространства и времени открывает перед человеком еще один ракурс проблемы свободы — ракурс свободного действия. В самом деле, если я — как сотворенное существо — уже помещен Творцом в определенное место и в столь же определенное время, в каждый момент моей жизни, предопределенной от начала до конца, то, на первый взгляд, для моего действия не остается здесь ни места, пи времени. Между тем, так же как и вопрос о соотношении необходимости и свободы, этот вопрос разрешается парадоксальным образом: пространство и время действия человеческого существа одновременно и дано, и создается самим человеком в акте веры, т. е. свободного принятия человеком своего «вписанного» в божественный замысел предназначения. Человек, таким образом, в отличие от всех остальных сотворенных существ, есть в мире постольку, поскольку действует вне мира, точнее, поскольку актом веры создает «зазор» между миром и внемирным (божественным) началом в самом себе. Именно поэтому заполненность «мест» и «времен» должна здесь не парализовать человеческое действие, но, напротив, выступать условием этого действия: преодолевая сугубо «здешний», мирской смысл пространства и времени, человек может выйти в подлинное измерение — измерение вечности.
Эта, явная или неявная, осознаваемая или неосознаваемая, установка определяет и то непонятное современному человеку безразличие к точному измерению пространства и времени, о котором уже упоминалось выше. Измерение представляет собой попытку подчинения человеку сотворенной реальности, в том числе пространства и времени, — приспособления этой реальности к сугубо мирским, «посюсторонним» нуждам: «Время — лишь момент вечности. Оно принадлежит одному Богу и может быть только пережито. Овладеть временем, измерить его, извлечь из него пользу или выгоду считалось грехом. Урвать из него хоть одну частицу — воровством»[10].
То же самое можно сказать и в отношении пространства: «размеченность» сотворенного мира не позволяет менять вещи местами или расчищать пространство. Человек приходит в мир со своим собственным местом; все, что от него требуется, — осмысленное принятие этого факта. Таким образом, понятия пространства и времени в контексте онтологии творения обретают смысл именно в акте выхода человека к внепространственному и вневременному истоку своего бытия, а путь к себе оказывается путем преодоления себя — как «здешнего», оторванного от божественной вечности существа. Эта устремленность к трансцендентному кажется совершенно несовместимой с умонастроением современного человека. Пристальный взгляд, однако, обнаруживает под слоями сугубо прагматических мотивов, управляющих жизнью «среднестатистического» человека начала XXI столетия, и тот порыв к «неотмирному», который выступает основным вектором мысли и действия в христианской онтологии творения.
- [1] 2,6 Августин Аврелий. Исповедь. С. 177−178.
- [2] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 299.
- [3] Там же. С. 109−111.
- [4] 2,9 Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 117.
- [5] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 164−165.
- [6] Там же.
- [7] Августин Аврелий. Исповедь. С. 125.
- [8] Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 86.
- [9] Там же. С. 120.
- [10] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 155.