Русские историки XVIII столетия
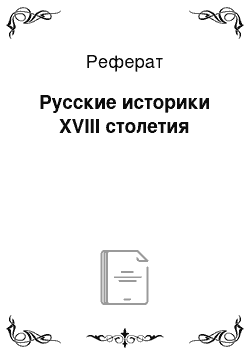
К оценке научных приемов Татищева в его «Истории» нам еще предстоит вернуться; теперь прибавим только, что, возникшая из жизненных потребностей, эта «История» не составляла для автора главной жизненной задачи; ей он мог посвятить только время, свободное от служебных обязанностей; при частых переменах места службы и рода служебной деятельности такого времени у него оставалось, наверное, немного… Читать ещё >
Русские историки XVIII столетия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Четыре русских историка: Татищев, Ломоносов, Щербатов и Болтин — могут служить характерными представителями четырех различных типов, созданных русским просвещением прошлого века. Начало века занято бурной эпохой Петра. Тип петровских дельцов давно отмечен и охарактеризован в нашей исторической литературе. Выросшие в обстановке Московской Руси и сразу выброшенные в водоворот реформ, они не имели ни времени, ни возможности пройти правильную теоретическую школу, которая подготовила бы их по-европейски к насаждению европейской цивилизации. Вынужденные схватывать кое-как, на лету, обрывки знаний из всех возможных отраслей науки и искусства, куда только ни толкал их нуждавшийся в людях преобразователь, — эти люди волей-неволей должны были усвоить себе сноровку — во всякой области знания вылавливать сразу практически нужное, непосредственно полезное для немедленного приложения к делу. Им некогда было сентиментальничать с наукой и просвещением. Татищев хорошо выразил их взгляд на европейскую культуру, разделив все «науки» по их отношению к домашнему и государственному обиходу на две различные категории: это были, с одной стороны, науки нужные или, по крайней мере, полезные; с другой стороны — науки щегольские. Что просвещение смягчает сердца, или что искусство облагораживает души, — подобные мысли оставались чуждыми этому поколению, которое ценило одно знание, а в знании — один его практический результат.
Татищев — один из наиболее типичных представителей Петровской эпохи. Вечно деятельный, мастер окинуть одним взглядом целую область знания и уйти из нее не с пустыми руками, будь это артиллерия, фортификация или минералогия, геология или география, история; всегда деловой, пишет ли он об изменении монетной системы, или об усмирении киргизов в Оренбургской губернии, или об Иоакимовой летописи; всегда точный, начиная с записи на какой-нибудь грамматике: «1720 года, октября в 21-й день, в Кунгуре по сей грамматике начал учиться по-французски артиллерии капитан Василий Никит, сын Татищев, от рождения своего 34 лет, 6 месяцев и 2 дней», — начиная с этой записи и кончая летописным сводом; практический и расчетливый, прозаический, без капли поэзии в натуре, — таким представляется нам первый русский историк. Нужно только вспомнить, как в последний день жизни, предсказавши свою кончину, он отправляется указать место для своей могилы и составляет меню для своего похоронного обеда.
Утилитаризм — таково мировоззрение, наиболее подходящее для подобной натуры; и у нас есть сведения, что Татищев был сознательным и последовательным утилитаристом. Свое мировоззрение он изложил в недавно напечатанном «Разговоре двух приятелей о пользе наук и училищ». Отчетливость и стройность воззрений, изложенных в «Разговоре», были бы изумительны и необъяснимы, если бы мы не знали, что все основное содержание своих теорий Татищев заимствовал из произведений современной ему заграничной литературы. Основной идеей, заимствованной им для своего мировоззрения, была модная в то время идея естественного права, естественной морали, естественной религии. Посредниками при усвоении этой идеи были для Татищева, во-первых, сам знаменитый основатель теории естественного права, Самуил Пуфендорф, и, во-вторых, один протестантский богослов — Вальх, «Философский лексикон» которого послужил главным литературным источником татищевского «Разговора»[1].
По усвоенной Татищевым теории, «естественный закон» человеческой природы состоит в том, что мы назвали бы теперь законом самосохранения: в стремлении к собственному благополучию или пользе. «Закону божественному» этот естественный закон нисколько не противоречит и не может противоречить, так как и сам он, само это «желание к благополучию в человеке, беспрекословно, от Бога вкоренено есть». Согласно традиционной классификации христианской морали, стремление к благополучию сводится к трем основным склонностям души: «любочестию» (Ehrgeiz), «любоимению» (Geldgeiz) и «плотоугодию» (Wollust). Сами по себе эти склонности ни добродетельны, ни порочны; но так как, благодаря испорченности нашей природы, страсть при их удовлетворении одерживает обыкновенно верх над разумом, то и сами стремления превращаются в пороки. Те же стремления, однако, при «разумном самолюбии» могут сделаться основой добродетелей: надобно только, чтобы чувством руководил разум. При таком руководстве человек удовлетворяет своим потребностям с благоразумной умеренностью, без «избыточества» и без «недостатка». Разумное удовлетворение потребностей и есть добродетель или, что-то же — соблюдение естественного закона; напротив, излишнее «избыточество» или «воздержание» есть грех, нарушение закона, неизменно ведущее за собой и «естественное наказание». Любовь к самому себе лежит, таким образом, в основе человеческой морали. Но, разумно понятая, эта любовь не есть себялюбие, так как она включает и любовь к другим. «Зане человек по естеству желает быть благополучен, к благополучию же нашему нужна нам любовь и помощь других», то поэтому и «должны мы любовь к другим заимодателъно изъявлять». По той же причине, «желая благополучие мое всегда приумножить, а ведая, что ни от кого более, как от Бога, получить могу, — от любви разумной к себе должен и заимодательно или предварительно Бога любить»[2].
Высшая цель или «истинное благополучие», достигаемое с помощью «разумного самолюбия», заключается в полном равновесии душевных сил, в «спокойное™ души и совести». Для достижения этой цели «нужно человеку прилежать, чтоб ум над волей властвовал», а для того, чтобы доставить преобладание уму, надо развить его природные силы наукой[3]. Таким образом, «главная наука есть, чтобы человек мог себя познать». Из этого основного принципа развивается затем целая система «нужных» для человека наук, обнимающая, как «телесное» (медицина, экономия), так «политическое» (законоучение) и «душевное» (логика, богословие) самопознание[4].
Как видим, общее мировоззрение Татищева находится в полнейшей гармонии с практическими задачами времени и с прозаическим складом его натуры. По широте основной идеи это мировоззрение должно было сделать Татищева восприимчивым ко всевозможным родам знаний и сообщить, в то же время, всем его занятиям характер непосредственной связи с жизнью и действительностью. Если Татищев не всегда воспроизводит нападки своих иностранных источников на чистую ученость, на науку и знание, служащие сами себе целью, то это только потому, что такого рода ученость гораздо менее ему известна, чем европейским защитникам реальных знаний против средневековой формальной науки. Но достаточно прочесть в «Разговоре двух приятелей» нападки Татищева на преподавание «риторики, философии и богословия» в старой московской Славяно-греко-латинской академии, чтобы увидеть, что он вполне разделяет и презрение к «пустым словам» этих «более вралей, нежели риторов», к «пустым и не всегда правильным силлогизмам» их формальной логики, — и симпатии к «новой физике» Декарта и Мальбранша, к изучению естественного права по «книгам Гроциевым и Пуфендорфовым, которые за лучших во всей Европе почитаются», и вообще к приобретению реальных знаний исторических, географических, медицинских и т. д.[5]
Все отмеченные особенности своих воззрений Татищев перенес и в область своих специальных исторических исследований. После всего сказанного нет надобности прибавлять, что занятия русской историей, прежде всего, не были для него специальностью, а необходимой составной частью его мировоззрения, сводившегося для него, как мы видели, к «самопознанию». Но к этому теоретическому побуждению с 1719 г. прибавилось и практическое, так как в этом году Брюс убедил Татищева взять на себя составление русской географии и истории, порученное ему Петром. «Хотя я, — говорит Татищев, — для скудости способных к тому наук и необходимо нужных известий осмелиться не находил себя в состоянии, однако же, ему яко командиру и благодетелю отказаться не мог, оное в 1719 году от него принял и мня, что география гораздо легче, нежели история сочинить, тотчас же по предписанному от него плану оную начал»[6]. Такое начало, конечно, всего более соответствовало и практическим побуждениям Брюса, «приметившего», по словам Татищева, «что за недостатком обстоятельной российской географии и ландкарт… немалый государству вред приключался». Но, принявшись за разработку русской географии, Татищев «в самом начале увидел», что современной географии нельзя составить без точных (геодезических) сведений, а для древней географии необходимо знать древнюю историю. Подготовительные работы геодезистов, по представлению Брюса, и начались в 1721 г.; в том же году заведены были сношения с астрономами и картографами — братьями Делилями. Для древней же географии Татищев стал, «за недостатком на русском языке» необходимых пособий, собирать иностранные книги и подыскивать переводчиков. Надо прибавить, что к 1719 г. Татищев успел уже три раза побывать за границей и собрал довольно значительную библиотеку. Но все эти книги оказались малопригодными для его целей; исторические и географические словари (Буддея, Бейля, Мартиньера и др.) были полны пробелов и ошибок во всем, что касалось России; книги снабжены недостаточными указателями, и «для того многого сыскать не можно; а все книги читать времени не достанет»; многие книги напечатаны на языках, недоступных Татищеву, знавшему только немецкий и польский; переводы же на польский и немецкий часто неисправны; по содержанию сведения часто заимствованы из русских источников. Последнее обстоятельство побудило уже Брюса обратиться к русским материалам, «искать русской древней именуемой Несторовой летописи», которую Брюс и нашел в библиотеке Петра и отдал Татищеву. Взяв ее, рассказывает нам сам Татищев, я ее скоро списал и думал, что лучше ее и не надобно; но, будучи послан в 1720 г. в Сибирь для устройства горных заводов, «вскоре нашел другую того же Нестора летопись», оказавшуюся несходной с имевшимся у него списком. Эта разница текстов заставила Татищева искать других списков и заняться их сличением. Таким образом, ощупью Татищев добрался до главной своей задачи — составления летописного свода; занявшись ею, он, «оставя географию совсем, стал наиболее о собрании истории прилежать», тем более, что географические работы перешли со второй половины 1720-х годов в надежные руки Делил ей и Ив. Кириллова. Вместе с этой переменой цели начатого труда свой первый отдел — свод иностранных источников, вследствие практических затруднений, указанных выше, и вследствие недостатка переводчиков, Татищев решил сократить; в печатном издании этот отдел составляет две части первого тома «Истории российской». Центром тяжести сделался, таким образом, свод русских, и главным образом, летописных источников. При составлении этого свода Татищев опять-таки руководился требованиями времени. Первоначально он хотел дать историческое сочинение: «зачал, — по его словам, — историческим порядком, сводя из разных лет к одному делу, и наречием таким, как ныне наиболее в книгах употребляемо, сочинять». Но затем, «рассуди, что у нас из древних манускриптов… до днесь ни один не напечатан», что все списки летописей разнятся один от другого, что большая часть их находится в частных руках, «часто из рук в руки переходят и сыскать после неудобно», так что «ни на который, кроме находящихся в постоянной государственной книгохранительнице и в монастырях, сослаться нельзя», что поэтому менять в них «наречие и порядка» нельзя, не рискуя подорвать доверия к точности пересказа, — по всем этим причинам Татищев «рассудил за лучшее писать тем порядком и наречием, каковые в древних находятся, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написали, не переменяя, ни убавливая из них ничего». Через двадцать лет после начала работы этот труд был закончен; в 1739 г. Татищев привез свою рукопись в Петербург и передал ее Академии наук на хранение[7]. Но и после того он не переставал работать над своей «Историей». Так, он внес в нее новые источники, и в том числе знаменитую Иоакимовскую летопись. Но, главное, не встретив сочувствия к своему труду в Петербургской академии и подвергшись в столице даже нареканиям за свое религиозное и политическое вольнодумство, Татищев стал склоняться к мысли перевести свою «Историю» на иностранный язык и издать где-нибудь за границей; он даже пробовал завести переговоры об этом с Лондонским королевским обществом. Для этой цели он решился перередактировать весь текст «Истории»: заменить непонятные выражения более вразумительными, внести пояснения темных мест, — словом, говоря его словами, «всю ее в настоящее наречие преложить» и «от разных русских историй, яко степенных, хронографов, Миней и прологов изъяснить». Над этой второй редакцией и над продолжением «Истории» Татищев продолжал работать до самой смерти, не успев все-таки довести свой труд до предположенного конца и успев снабдить «примечаниями» только часть изготовленного текста (до 1238 г.). После смерти Татищева подлинные рукописи его труда, за исключением нескольких черновиков, погибли при пожаре его села Грибанова, и «История» была напечатана по спискам 2-й редакции[8].
К оценке научных приемов Татищева в его «Истории» нам еще предстоит вернуться; теперь прибавим только, что, возникшая из жизненных потребностей, эта «История» не составляла для автора главной жизненной задачи; ей он мог посвятить только время, свободное от служебных обязанностей; при частых переменах места службы и рода служебной деятельности такого времени у него оставалось, наверное, немного. Только что получив упомянутое выше поручение «сочинять обстоятельную российскую географию с ландкартами», Татищев был отправлен на Урал и о собирании географических сведений, по его собственным словам, «более не мыслил». С 1720 по начало 1722 гг. он деятельно занимался устройством уральских горных заводов; половину 1722 г. потерял в разъездах (в Москву, Петербург и обратно на Урал), оправдываясь от обвинений заводчика Демидова; затем до конца 1723 г. он опять объезжает заводы, устраивает школы, производит следствие о беспорядках, ведет деловую переписку и т. д. В конце 1723 г. он уже опять едет в Петербург и поступает в Сибирский берг-амт. Вероятно, это было сравнительно удобное время для работы. В это время (1724), по понуждению Петра, напомнившего Татищеву о его проектах относительно русского «землемерия», Татищев, действительно, снова принимается за собирание книг («особенно до географии принадлежащих историй») и подыскивание переводчиков. С декабря 1724 по апрель 1726 гг. мы видим Татищева в Швеции, исполняющим деликатное дипломатическое поручение. Здесь он успевает завести знакомство со шведскими учеными, заказывает секретарю «Коллегии древностей» Биорнеру выборку из скандинавских источников и усваивает его ученое мнение о приходе руссов в Новгород из Финляндии. С 1727 по 1734 гг. Татищев — член Монетной конторы. Можно было бы думать, что его ученая работа сильно подвинулась за эти годы, но он сам сообщает нам, что за все это время, оставив после смерти Петра занятия географией, он и для составления истории «времени не имел», так что, за исключением покупки книг и знакомств с учеными в Швеции, «все сие время как география, так и история лежали туне». С весны 1734 г. Татищева опять назначают главным начальником заводов в Перми и Сибири, и опять начинаются для него постоянные разъезды и административные хлопоты. Однако же, здесь он находит время «паки приняться за начатый труд», и о быстром ходе работы свидетельствуют, помимо рассылки вопросных бланков и геодезистов по городам и провинциям Сибирской губернии, — «несколько глав» «Сибирской географии», посланные в Академию в 1736 г. и лично доставленные туда же в 1739 г. ландкарты Сибири и первая редакция «Российской истории». Надо прибавить, что с 1737 г. Татищев из Екатеринбурга и с Урала был назначен на только что устраивавшуюся тогда военную окраину, в не построенный еще Оренбург, в тылу которого продолжали волноваться башкиры, а впереди которого приходилось возиться с покорившимися наполовину киргизами и калмыками, действуя на них попеременно то «лаской», то «жесточью», как выражались наши администраторы XVII в. В 1739 г. Татищев является в Петербург с объяснениями по поводу своей дипломатии и с рукописью своей «Истории» в первоначальной редакции. Вместо наград на него сыплются жалобы и обвинения, не совсем неосновательные; его отставляют от службы, лишают чинов, сажают даже в крепость. Этим неожиданным гонением Татищев был обязан личному нерасположению к нему Бирона; вскоре после падения Бирона правительство так же быстро, даже не исполнив над Татищевым судебного приговора, возвращает ему прежнее положение и немедленно посылает его в Царицын успокаивать калмыков. С осени 1741 г. Татищев вступает в управление Астраханской губернией и остается там, погруженный в хлопоты по внутренней администрации и по сношениям с инородцами, до 1745 г.; продолжая здесь работы над историей, он не забывает следить и за съемками и составлением ландкарт. В 1745 г. по новым жалобам Татищев был опять отставлен и послан для излечения болезни в деревню, где и прожил последние 5 лет своей жизни. За это время, оставив все другие занятия, он отдался исключительно истории[9]. Припоминая весь этот послужной список первого русского историка, мы видим, что из тех «тридцати лет», в течение которых, согласно заглавию Миллера, составлялась «История российская», надо сделать значительные вычеты. Татищев не имел бы времени сделаться специальным ученым по русской истории, если бы даже и имел для этого надлежащую предварительную подготовку. Зато в его исторических работах, как мы не раз замечали, нельзя не ценить одного: жизненного отношения к вопросам науки и связанной с этим широты ученого кругозора. Неподготовленный ни к какому специальному отделу, Татищев тем свободнее схватывает целое и всюду вносит в объяснения прошлого свой личный житейский опыт: какой-нибудь хорошо знакомый ему обычай судейской практики или свежее воспоминание о нравах того XVII в., концу которого принадлежит его детство и юность, дают ему возможность понять жизненный смысл нашего московского законодательства; личное знакомство с инородцами уясняет ему, как увидим, нашу древнюю этнографию, а в их живом языке он ищет объяснения древних имен и географических названий. Эта-то связь настоящего с прошлым объясняет нам, почему самые тяжелые занятия по службе не только не отвлекают Татищева от его основной задачи, но, напротив, расширяют и углубляют понимание им этой задачи. Здесь, конечно, надо искать и секрета того равномерного внимания и одинакового усердия, с какими Татищев хлопочет и о собирании русских летописей, и о выборке из северных писателей, и о переводе из классиков всего, относящегося к России, и об учреждении училища восточных языков для подготовки к занятиям русской историей, и о геодезических съемках для географического атласа: все это одинаково необходимо, потому что все это одинаково служит для объяснения единого жизненного итога, в котором сливаются география и этнография, прошлое и настоящее.
Как Татищев весь вылился в своем труде, так, наоборот, Ломоносова в его «Древней российской истории» мы вовсе не узнаем. Другое время — другие люди, или, точнее, и прежние люди должны служить для нового употребления. Петровский тип просвещенного человека, дельца и практика, был слишком тяжел и груб для времени Елизаветы. Императрица и ее окружающие были, правда, не менее, если только не более, далеки от цивилизующего влияния западной школы и литературы; но они с охотой перенимали красивые декорации западной культуры и усваивали себе европейские увеселения. Веселиться во время Петра — значило напиться до бесчувствия в наполненной табачным дымом комнате; веселиться во время Елизаветы — значило, под опасением денежного штрафа, присутствовать на придворном спектакле. Вино и табак уступили место картам и театру, балам и маскарадам. Двор Елизаветы представлял одно из тех неуклюжих и неудачных подражаний версальскому, какими полна была Европа в средине XVIII в. Дворец в стиле позднего ренессанса, со штукатурными подражаниями мрамору, при дворце — парк, в парке — пруды и фонтаны, «люстгаузы», декоративно-аляповатые Аполлоны и Венеры, во дворце — неумолкаемый праздник с замысловатыми эмблематическими и мифологическими затеями, — все это было обязательно для последнего владетельного князька Германской империи. При этом придворном празднике полагался по штату и литератор, как необходимая аксессуарная призо надлежность придворного торжества. Литератору заказывали на этот случай оду или трагедию в придворно-классическом вкусе; трагедия вызывала скуку, ода была непонятна; зато все было в порядке, как полагалось по новому чину официального веселья.
В этот обязательный обиход придворно-классической цивилизации входила по необходимости и русская история, и внести ее в эту сферу было официально приказано тому же придворному литератору: Ломоносов должен был писать русскую историю, как он написал «Темиру и Селима». Конечно, к исполнению этого заказа он не был вовсе подготовлен; конечно, эта работа отвлекала его от его любимых занятий. Но не в подготовке было и дело; дело было в том, чтобы «видеть российскую историю, его штилем написанную». Другими словами, Ломоносов должен был сделать русскую историю достойной внимания высшего общества; для этого нужно было только украсить старую материю новыми приемами изложения, приодеть русскую историю в приличный времени ложноклассический костюм. «Посему всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет; но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковыми греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности». Таким образом, на искусство, на язык обращено преимущественное внимание в «Древней российской истории», первая (и единственная) часть которой вышла в 1766 г., уже по смерти автора[10][11][12][13][14][15][16][17]. Весь почти рассказ идет кадансированной прозой. «Уже с восхождением зари город отворяется; выходят с отменною бодростью и скоростью за благонадежным своим предводителем и государем полки российские без остатку полыми везде к неприятелю воротами, которые по Святославлю повелению за ними затворены» и т. д. Или: «Уже его (Владимира) обращенное сердце жаждет как елень на водные источники святого крещения; однако, помня свое и предков в военном мужестве преимущество над греками, желание свое унамерился прикрыть важным предприятием: дабы греческие цари и греки не стали величаться ради российской уклонности в прошении крещения». Не слышатся ли уже в этой размеренной прозе знаменитые дактили Карамзина?
Впрочем, до Карамзина у Ломоносова оказались и другие последователи, пошедшие гораздо дальше его самого по пути литературной разработки истории: Эмин и Елагин. Эмин, поляк-католик, принявший в Турции магометанство, а в России — православие, ровесник Болтина (р. 1735 г.), исколесивший всю Европу и явившийся в 1761 г. в Петербург на службу в сухопутный шляхетский корпус (потом он служил переводчиком в Коллегии иностранных дел), к 1767—1769 гг. успел уже сочинить и напечатать свою «Российскую историю». В истории он остается авантюристом смелым и беззастенчивым, ссылается на несуществующие источники и развязно бранит не только таких исследователей, как Байер, но даже и самого Нестора[18]. По образцу древних, Эмин влагает в уста своих героев целые речи, о чем и предупреждает читателя. «Должен я всех уведомить, — говорит он, — что многие речи, которые в сей истории разные говорят лица, выдуманы, например, речь, которую говорит Гостомысл мятущемуся народу… Но если Гостомысл оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что-нибудь тому подобное, чтобы взволновавшийся, гордый и ничего не рассуждающий народ мог усмирить… Может статься, Гостомыслова речь была важнее и гораздо трогательнее той, которая в сей книге изображена; но я, соображаясь с тогдашним временем, в которое красноречие или, лучше сказать, протяженного и пухлого стиля не знали, старался говорить языком каждого человека состоянию сродным». Эмин полагает даже, что именно эта манера изложения «необходимо нужна для того, чтобы можно было историю различить от сказки», ибо ее «свойство состоит в том, дабы не только человеческое любопытство уведомлять о прошедших делах, но и важностью речей и разными полезными рассуждениями научать тех, кои довольного просвещения не имеют». Точно таких же взглядов на историю, как на художественное произведение, целью которого должно быть назидание, держится другой представитель того же направления — Елагин, екатерининский вельможа и масон, автор «Опыта любопытного и политического о государстве Российском повествования«[19]. Елагин посвящает свой труд «премудрости» и старается «украшать сочинение свое подражанием» древним образцам. «Пухлый стиль» в его рассказе продолжает прогрессировать. Чтобы наглядно показать, до чего довело это употребление литературных приемов Ломоносова и его последователей, приведем несколько примеров. Известен рассказ летописи о мести Ольги древлянам, которых она предварительно напоила допьяна, а потом велела избить. «Яко упишася деревляне, — говорится в летописи, — повеле (Ольга) отрокам своим идти на ня, а сама отъиде кроме и повеле дружине своей сечи деревляне». Теперь посмотрим, что делают из этой фразы летописи Ломоносов и Эмин:
Ломоносов. Веселящимся и даже до отягощения упившимся древлянам казалось, что уже в Киеве повелевают всем странам российским; и в буйстве поносили Игоря перед супругой его всякими хульными словами. Внезапно избранные проводники Ольгины, по данному знаку, с обнаженным оружием ударили на пьяных; надежду и наглость их пресекли смертью…
Или возьмем другой пример, не Ломоносов. Для вящшаго ободрения своих войск (Ольга) приемлет в участие сына своего Святослава, младостию и бодростию процветающаго… и как обоих сторон полки сошлись к сражению, Святослав кинул копье в неприятеля и пробил тем коня сквозь уши… Великаго стремления войск Ольгиных и Святославлих не стерпев, древляне устремились в бегство; оставшиеся от посечения меча российского в городах своих затворились.
Эмин. Яко разъяренные львы которые, долго время не имея пищи, нашед какого-либо зверя, в малыя оного терзают частицы; так киевцы, долгое время слушая древлян, поносящих бывшего их государя имя и за то отмстить времени ожидая, с чрезмерною на них бросились яростию и в мельчайшие мечами своими их рассекали частицы. Ольга, паки взошед на могилу своего супруга, прослезясь, сии молвила слова: «приими, любезный супруг, сию жертву и не думай, что она последняя. Сколько сил моих будет, стараться не премину о конечном убийцев твоих разорении».
менее яркий:
Елагин. Святослав, подобно юному льву, первое стадо овец гонящему, летает по рядам вражиим и лютая смерть пред пенящимся в ярости конем его парит. Все падает от мышц его размахов. Кони и всадники супостат пораженных бугристый творят за ним помост; а противостоящих ему ни броня, ни отважность, ни самый бег от смертоносных его ударов не спасают…
А в летописи вся эта сцена из «Илиады» описана в коротенькой фразе, в которой говорится, что копье, брошенное ребенком Святославом, скользнуло между ушей лошади и ударило ей в ноги: «снемшемася обема полиома на скупь, суну копьем Святослав на деревляны, и копье лете сквозе (между) уши коневи и удари в ноги коневи, бе бо детеск… И победита деревляны, деревляне же побегоша и затворишася в градех своих».
Риторическое направление, как назвал его С. М. Соловьев, явилось в нашей историографии результатом приложения к области истории ложноклассических теорий; в этом смысле оно было типичным продуктом времени Елизаветы. При Екатерине II это направление уже отживало свой век; не только Елагин, но и Эмин (умер в 1770 г.) уже не характеризуют господствующего настроения современной им историографии. Чтобы найти главное течение исторической мысли времен Екатерины II, мы должны обратиться к сочинениям Болтина и Щербатова.
Ко времени Екатерины II назревает новая метаморфоза русского литературного типа. Литератор-ремесленник, поставщик придворных изделий, заменяется литератором-любителем. Эта перемена сопровождается изменением в самом составе модной литературы. За ложноклассической литературой придворного версальского быта эпохи Людовика XIV проникает в Россию политическая и философская просветительная литература парижских салонов — эпохи Людовика XV. Академические рассуждения о литературном слоге уступают место жгучим вопросам религии, философии и политики; апостолы европейского отрицания, научного, религиозного и политического, становятся и у нас законодателями общественного мнения. Можно даже проследить в настроении этого общественного мнения у нас то же самое crescendo, которое с таким неподражаемым искусством отметил Тэн относительно интеллигентного общества дореволюционной Франции. И у нас Монтескьё и Вольтер сменяются Руссо и Гельвецием; и у нас отрицание из легкого аристократического скептицизма переходит мало-помалу в страстную революционную проповедь. Но для наших целей нам нет надобности следить за крайними демократическими и материалистическими увлечениями новым мировоззрением. Оба наших русских историка времени Екатерины, достигшие тридцатилетнего возраста уже в первые годы ее царствования, не подвергались опасности сделаться ни якобинцами, ни атеистами. Известно, что даже поколение более молодое, чем они, пережило увлечение Гельвецием только как тяжкую болезнь, и спешило успокоить встревоженную совесть раскаянием и переходом от неверия и кощунства к «доказательствам бытия Божия» и «рассуждениям о злоупотреблении разума новыми писателями»[20]. Однако же, влиянию более умеренных писателей просветительной литературы Щербатов и Болтин подверглись в весьма значительной степени. Читая сочинения Щербатова, мы на каждом шагу наталкиваемся на следы этих влияний и на более или менее близкие заимствования. В «Разных рассуждениях о правлении» он полными руками черпает из «Духа законов», в «Размышлениях о смертной казни» — одна из любимых тем просветительной литературы, — полемизирует с Беккариа, в «Размышлениях о смертном часе» он становится, хотя условно, на точку зрения человека, отрицающего бессмертие и признающего, что, умирая, мы «из бытия в небытие переходим»; еще в одном сочинении признает, что, согласно «всем естественным и народным правам», по прекращении династии «народ вступает в первобытные свои права» и т. д. Связь Болтина с французской литературой указывается постоянно им самим в его цитатах[21].
В содержании усвоенных воззрений обоих историков можно найти много общего; но, несмотря на все это общее, между взглядами обоих существует коренное и глубокое различие. По отношению к тогдашней русской жизни и образованности это различие можно было бы характеризовать как противоположность двух общественных типов: «вольтерианца» и «стародума». Для современников, опасавшихся, как бы «новое просвещение» не повело к «повреждению нравов», — выбор между этими типами сводился к решению спора о том, что лучше: развитой ум или добрая нравственность? С этой точки зрения, конечно, и Щербатов, и Болтин одинаково были «стародумами». Автор знаменитого памфлета «О повреждении нравов в России» точно так же требовал для России «нравственного просвещения»[22], как и его глубокомысленный противник. Но этической стороной дела, противоположением ума и сердца не исчерпывалось различие между нашими вольтерианцами и стародумами. Различие было и шире, и глубже; оно сводилось к различию двух мировоззрений, одинаково заимствованных из французского источника. Век рационализма, век фанатической веры в могущество разума, в возможность пересоздать человеческий род путем правильного воспитания и хороших законов, — этот век создал, вместе с тем, и основы современной науки, старался свести самые различные области знания к единому принципу механического мировоззрения. Но рационализм исходил из сознания свободы, тогда как научное мировоззрение всюду проводило принцип обусловленности, закономерности. Союзниками эти два мировоззрения, научное и рационалистическое, могли чувствовать себя только потому, что — и только до тех пор, пока продолжалась их совместная борьба против предания и внешнего авторитета. При иных условиях они должны были оказаться непримиримыми противниками.
В приложении к истории рационалистическая точка зрения есть по преимуществу индивидуалистическая. Личность, более или менее свободная, является с этой точки зрения творцом истории. Ход событий объясняется как результат сознательной деятельности личности, — из игры страстей, из политических и иных расчетов, из силы, хитрости, обмана, — словом, из действия личной воли на волю массы, с одной стороны, и из подчинения этой массовой воли, — по глупости, по суеверию и иным мотивам, — с другой стороны. В подборе такого рода объяснений и заключается прагматизм историка. Цель прагматического рассказа считается достигнутой, если историческое событие сведено к действию личной воли и если это действие объяснено из обычного механизма человеческой души. Прагматизм сводит, таким образом, историческое объяснение к психологической мотивировке. Специальную особенность прагматизма XVIII в. составляет то обстоятельство, что для психологической мотивировки берутся преимущественно своекорыстные побуждения человеческой натуры и что эти побуждения приписываются одинаково всем временам и народам, так что объяснение выходит совершенно лишенным местного колорита и исторической перспективы. Все указанные черты рационалистического прагматизма XVIII в. мы встречаем в изложении Щербатова. «Хотя, конечно, должность всякого государя есть — наиболее всего пользу и спокойствие своих народов наблюдать; но, к несчастию рода человеческого, история света нам часто показывает, что благо государства был только вид, прямая же причина деяний — или славолюбие, или собственное какое пристрастие государей». Так формулирует Щербатов одно из общих положений своей исторической теории. А вот пример применения этой теории к отдельным фактам. По известному рассказу летописи, император византийский сватается за семидесятилетнюю Ольгу. Позднейший историк-критик, усомнившись в этом факте, будет опровергать его или на основании внутренней невероятности, — как факт, не соответствующий ни положению действующих лиц, ни их возрасту, — или на основании сопоставления с противоречивыми фактами византийской истории (император был уже женат). Для историка-прагматика сомнения в факте не существует; является только затруднение в подборе психологической мотивировки. «Мню, что всего более воспламенилось сердце императора, — так выходит из затруднения Щербатов, — тем, что, взяв ее себе в жену, мнил наследством и всю пространную Россию иметь или, по крайней мере, заключить союз и дружбу с сыном Ольги, Святославом. Политические виды, конечно, могут и престарелому лицу красоту придать, которых не разумея, мню, тогдашние писатели к красоте Ольгиной приписали то, что единственно политика императора греческого была». Приведем другой пример, прагматическое объяснение более крупного исторического явления — покорения Руси монголами. Причину этого явления Щербатов находит в «духе неумеренной набожности». Оно произошло потому, что наши предки «переставали иметь попечение о том, что мирским и тленным называли, но единственно стремились к вечной жизни, якобы и самое защищение себя было противоборство воле Господней, и якобы защищение отечества не должность была христианского закона. Монахи же и духовный пол сии мысли паче утверждали, и, вкрадшись в мирское правление…, твердость и великодушие отовсюду прогнали, а на место того дух монашеский вселился. Рассмотри сии причины, неудивительно есть, что татары толь легко могли Россию покорить».
Совсем на других основных мыслях строится историческое мировоззрение Болтина. Мы уже противоположили это мировоззрение щербатовскому, как научное, основанное на идее закономерности, — идеалистическому, основанному на идее свободной личности. В приложении к историческим явлениям идея закономерности развилась в XVIII в. в форме учения о влиянии климата как совокупности всех естественных условий исторической жизни. Созданное еще в XVI в. Боденом, в его «Methodus ad facilem historiarum cognitionem», учение о климате было принято, как известно, Монтескьё. Болтину оно было известно из обоих источников[23]. В русском обществе знакомство с «Духом законов» было довольно распространено; любопытно, что и самое учение Бодена стало известным русской публике из французской переделки, переведенной на русский язык в 1794 г. под названием «Физика истории, или всеобщие рассуждения о первоначальных причинах телесного сложения и природного характера народов»[24]. Как видно из самого заглавия, «Физика истории» имеет целью поставить «природный характер» и «телесное сложение» различных народов в связь с физическими условиями их жизни. «Жизненные духи находятся, — по этой теории, — почти во всегдашней зависимости от различных качеств крови и желчи, в которых они, так сказать, плавают»; качества крови и желчи зависят от свойства принимаемой пищи, а пища соответствует «умерению (температуре) воздуха и размеряется по тепломеру той страны, в которой имеем наше пребывание». Таким образом, различные «темпераменты, нравы и склонности» разных стран сводятся к различию в их климате[25].
«Итак, влияние климата можно ли принять за такую причину, которая столь же необходима в своих следствиях, как и слепа в своем начале?» Другими словами, не вытекает ли роковым образом «народное умоначертание» из физических условий исторической жизни? «Без сомнения, — отвечает нам автор „Физики истории“, — без сомнения, ежели только (влияние физических условий) не умеряется или не усовершенствовается гражданскими и до веры касающимися законами. Сколь бы сильно ни было влияние физических причин на сложение и нравы человека, но владычество законов имеет несравненно большую пред ними силу. Воля, будучи по существу своему свободна в своих действиях, не может быть рабски принуждаема к удовлетворению всех пожеланий, внушаемых ей натурою». «Догматы религии» и «власть гражданских законов» дают достаточную силу разуму для победы над чувством. «Многие законодатели, исправив народное правление, содействовали к умножению человеческого рода и дали жизнь новым душам: следовательно, и сила законов может равномерно (как и сила религии) преимуществовать над физическими влияниями»[26].
Все эти рассуждения, которыми автор XVIII в. старается согласовать теорию Бодена с нравственностью, вводят нас в самую суть спора, возникшего между представителями научного и рационалистического толкования истории и лучше всего характеризующего разницу двух мировоззрений. «Нравы происходят от воспитания, а воспитание зависит от начал или формы правления», — говорит историк-рационалист Леклерк; буквально то же самое повторяет, прямо по Монтескьё, и наш Щербатов[27]. Болтин, представитель научного мировоззрения, с этим не может согласиться. Упомянув о двух крайних мнениях, одно из которых «все перемены в людях и государствах» выводило из климата, а другое, «напротив, все от него отняло», Болтин заявляет, что он последует тем, «кои держатся средней дороги, то есть, кои хотя и полагают климат первенственною причиной в устроении и образовании человеков, однако ж, и других содействующих ему причин не отрицают». В дальнейшем рассуждении, однако, Болтин доказывает, что это — причины «второстепенные», «не имеющие толикия силы, чтобы могли действие климата вовсе пресечь…; они только ослабляют действие его, а не уничтожают»; в результате своих рассуждений он приходит к тому выводу, «что главное влияние в человеческие нравы, в качества сердца и души имеет климат; прочие же побочные обстоятельства, яко форма правления, воспитание и проч., частию токмо содействуют ему или… действиям его препятие творят»[28].
Итак, «нравы» создаются естественными условиями исторической жизни. Сознательная деятельность человеческой воли может только до некоторой степени видоизменить действие этих условий, но не может парализовать его вовсе. Если так, то надо заключить, что и «просвещение» не может иметь большого влияния на «нравы». Полагать, «что добродетели зависят от просвещения, и что наши предки, будучи меньше нас просвещены, были нас порочнее», или, наоборот, соглашаться с противоположным мнением Руссо, что просвещение есть «корень всего зла» и «главная причина растления нашего сердца и повреждения наших нравов», — одинаково значит преувеличивать силу «просвещения» и игнорировать силу естественных законов, — «обижать природу», как выразился Болтин. Просвещение не создает ни добродетелей, ни пороков; «держась середины, можно за неопровергаемое правило поставить, что ни добродетели от просвещения, ни пороки от простоты нравов не зависят». Природа человеческая всегда остается одной и той же; «добродетели и пороки суть всех веков и всех народов»[29].
Исходя из этой аксиомы, этого «неопровергаемого правила», Болтин, естественно, должен отрицательно отнестись к психологическим мотивировкам событий у историков-рационалистов. Встретив объяснение, подобное приведенному выше объяснению татарского ига Щербатовым, Болтин не мог не возразить, что религиозное мировоззрение Средних веков не могло изменить народного характера. «О неумеренной набожности или, приличнее, о грубом суеверии князей сего времени, — говорит он[30], — нет никакого сомнения; но вопрос настоит: может ли суеверие и невежество привести в слабость и малодушие народ, по природе и воспитанию храбрый?» Еще менее может согласиться Болтин с рационалистическим взглядом на роль средневекового духовенства как сознательных обманщиков народа. «Монахи и попы, — говорит его противник Леклерк, — находя свои выгоды, чтобы народы оставались во мраке невежества, удерживали их в грубых суевериях». Болтин возражает: «Воображая глубочайшее невежество тогдашнего нашего духовенства, никак не можно бы, казалось, поверить, чтоб они для своих выгод умели или хотели удерживать народ в грубых суевериях; понеже потребно некоторое просвещение, чтобы из невежества других извлекать свою пользу»[31].
Как видим, точка зрения Болтина, устраняя из истории личные объяснения и отыскивая в основе событий действие одних и тех же, повсюду одинаковых законов «природы», стоит гораздо ближе к реальному и органическому пониманию исторического процесса, чем прагматизм и рационализм его противника, Щербатова. Отметив эту разницу в основных взглядах обоих историков, перейдем теперь к общей характеристике их специальной исторической работы.
В биографических условиях ученой деятельности Болтина и Щербатова можно отметить много общего. Оба принадлежали к очень зажиточному дворянству; оба воспитывались дома и там же получили первоначальное образование, — вероятно, такое же, какое получали обыкновенно помещичьи дети в деревенской усадьбе, т. е. очень плохое[32]. Оба старались затем пополнить пробелы первоначального образования самостоятельным чтением, т. е. были, что называется, самоучками. Наконец, оба начали свою карьеру с обязательной для знатного дворянства службы в гвардии и оба вышли в отставку, когда закон о вольности дворянства сделал это возможным[33]. Очевидно, ни тот, ни другой не имели к военной службе внутреннего влечения. Перейдя на гражданскую службу, тот и другой занимали должности, требовавшие специальных познаний политико-экономических и финансовых. Болтин сделался директором пограничной таможни в Василькове (Киевской губ.); пробыв в этом звании 10 лет (1769—1779), он был переведен, по протекции Потемкина, своего бывшего товарища по гвардейской службе, в Главную таможенную канцелярию. Но это учреждение вскоре закрылось (24 октября 1780 г.), и Болтин был определен прокурором Военной коллегии (15 марта 1781 г.). На службе Военной коллегии, сперва в звании прокурора, а с 1788 г. члена коллегии, Болтин и оставался до самой смерти; и здесь ему давали, помимо прокурорской службы, поручения административно-финансового характера: одно время он ревизовал дела Главной провиантской канцелярии, в звании члена заведовал денежной казной, в год присоединения Крыма сопровождал Потемкина в его поездке на юг и «исправлял по приказанию его разные порученное™», касавшиеся, вероятно, главным образом, «утверждения порядка и благоустройства в Крымской области» путем поднятия ее материального благосостояния[34]. К этому следует прибавить, что Болтин и лично занимался коммерческими предприятиями в довольно значительных размерах.
Щербатов по службе имел еще более возможности ознакомиться с современным положением России. В 1768 г. он был определен присутствовать в Комиссии о коммерции; через десять лет сделался президентом Камер-коллегии и в том же году (1778) определен присутствовать в Экспедиции винокуренных заводов; в следующем году (1779) он назначен был присутствовать в Сенате. Его знакомство с русской действительностью не ограничивалось, однако, обязательными столкновениями с ней в качестве члена всех этих государственных учреждений. Он старался расширить и объединить эти практические знания с помощью специального теоретического изучения. Уже в 1776— 1777 гг., т. е. до президентства в Камер-коллегии, он составляет замечательную для того времени работу по статистике России, первый опыт этого рода в русской литературе, если не считать Кирилова. Под «статистикой» Щербатов разумеет то, что разумели под ней Ахенвалль и его последователи, т. е. государствоведение в широком смысле. Можно думать, что такое понимание статистики, созданное в Германии и господствовавшее тогда в Европе, усвоено было у нас в 60-х годах XVIII в. при посредстве Бюшинга и Шлецера, впервые в Петербурге преподававшего статистику сыновьям гр. Кир. Разумовского[35]. Согласно пониманию школы Ахенвалля, «Статистика в рассуждении России», как назвал Щербатов свой обзор, должна была заключать следующие рубрики: 1) пространство, 2) границы, 3) плодородие (экономическое описание России по губерниям), 4) многонародие (статистика населения), 5) вера, 6) правление (описание центральных и областных учреждений), 7) сила, 8) доходы, 9) торговля, 10) мануфактуры, 11) характер народный, 12) расположение к ней соседей. К сожалению, в уцелевшей до нас части рукописи сохранился текст только первых шести рубрик.
В последующие годы интерес Щербатова к камеральным знаниям не только не слабеет, но, напротив, ведет к еще более глубокому специальному изучению. Так, по поводу голода 1787 г. Щербатов исследует его причины и предлагает меры помощи, основанные на приблизительном расчете, сколько могут дать хлеба не пострадавшие от урожая губернии, и на точных сведениях о размерах и стоимости русского винокурения. В качестве постоянных мер «для обновления упадшего у нас земледелия» он предлагает «продать все государственные и экономические земли дворянам» и учредить Коллегию земледелия, подробный план деятельности которой он тут же и набрасывает. В следующем 1788 г. Щербатов продолжает изучать «состояние России в отношении денег и хлеба», излагает историю кредитных денег в России и подвергает резкой критике банковую политику правительства. «Монета несть товар, но знак вещей, — говорит он, — а потому уменьшить настоящую цену монеты — се есть возвысить цену на вещи, а потому другой прибыли от сего не произойдет, как умножение цифр в счетах».
После всего сказанного не будет удивительно, что и занятия историей Щербатов, как и Татищев, считает прежде всего средством для расширения личного опыта, для лучшего понимания жизни и действительности, так сказать, вспомогательным средством отчизноведения. По собственным словам его, он писал свою историю «более для собственного своего удовольствия, дабы чрез оную научиться познать состояние России». И, однако, эти самые слова вызвали у Болтина ироническую отповедь. «Не видно, — пишет Болтин в 1789 г., — чтобы в намерении своем, состоящем в том единственно, чтоб, писав историю, научиться познать состояние России, поныне он стяжал желаемый успех; и сожалетельно, что такое намерение не ранее он принял, нежели начал ее писать, ибо, занят будучи столь многими трудами, едва ли достанет время на сие нужное для пишущего историю познание. В недостатке ж оного позволительно усомниться о исправности писанного им, ибо деяния исторические весьма тесно сопряжены с познанием той страны, в которой они происходили; равным образом, и то подвержено сомнению, чтоб история такая, которые сочинитель не имел оного познания, могла послужить помощью для тех, кои впредь историю нашего отечества писать предпримут»[36].
Мы знаем, однако же, что у Щербатова доставало времени на познание современной ему России. Если уж пришлось бы сравнивать степень знакомства с современностью обоих историков, то скорее Болтин, насколько мы его знаем по его сочинениям, должен бы был уступить Щербатову пальму первенства. И при всем том, в обвинениях Болтина нельзя не признать большой доли правды. Щербатов имел хорошие специальные знания, но не умел организовать их, не умел или не имел случая свести их в одну цельную систему, в которой, действительно, прошлое и настоящее стояли бы в тесной связи. Не один случай, конечно, а также и личные особенности обоих привели к тому, что в то время, как один неутомимо работал над грудой сырого материала, не имея ни сил, ни возможности над ним возвыситься, другой, с гораздо менее значительным научным багажом, сделался представителем первого цельного, органического взгляда на русскую историю.
Сообщение Малиновского, что Щербатов был рекомендован Екатерине II Миллером для составления истории[37], помогает нам определить время, с которого Щербатов принялся за свой исторический труд. Всего вероятнее, эта рекомендация могла быть сделана весной 1767 г. Весь этот год Екатерина прожила в Москве, следя за деятельностью комиссии для составления нового уложения. К Миллеру, два года перед тем переехавшему в Москву, она была особенно милостива; семь раз призывала, по его словам, для ученых бесед, открыла ему архивы Разрядного и Сибирского приказов и назначила его депутатом в комиссию об уложении[38]. По той же комиссии она должна была познакомиться лично с кн. Щербатовым, который присутствовал в комиссии в качестве депутата от ярославского дворянства. В духе данного ему избирателями наказа Щербатов энергично отстаивал в комиссии дворянские интересы и боролся, опираясь на значительную партию, с мнениями либеральных депутатов[39].
Показав, по его собственным словам, «охоту к познанию российской истории», Щербатов «через сие» получил от императрицы разрешение «брать потребные мне (для сочинения сей истории) списки из патриаршей и типографической библиотек». Поскольку дело шло о подборе летописных списков, обе эти библиотеки, действительно, были главным хранилищем: еще со времени Петра в них собраны были списки летописей, присланные по указу из разных монастырей. Выбрав четыре списка патриаршей библиотеки, восемь списков типографской и присоединив к ним семь списков собственных, Щербатов приобрел солидное основание для изложения древнейшего периода русской истории. О том, что, кроме «охоты», — для изучения летописей нужна еще и некоторая предварительная подготовка, в то время немногие думали. Щербатов сознавал только свою неподготовленность для разработки доисторического периода, и то только «за незнанием своим ученых языков». Так как язык летописи, казалось, был свой, знакомый, то здесь Щербатов храбро принялся за историческое изложение. Дело пошло быстро: начавши работу не раньше 1766—1767 гг., в средине 1769 г. он уже дописал два первых тома «Истории» (напечатаны в 1770— 1771 гг.) и дошел, таким образом, до татарского нашествия, до 1237 г.[40] Чтобы оценить всю поспешность этой работы, надо принять в расчет, что с 1768 г. Щербатов опять начал служить и, кроме того, получил от Екатерины поручение разобрать кабинетные бумаги Петра Великого; надо также прибавить, что с 1769 г. начинается его усиленная издательская деятельность: в этом году он печатает по списку патриаршей библиотеки Царственную книгу; в 1770 г. издает по повелению Екатерины II самый эффектный документ кабинетного архива, «Историю свейской войны», собственноручно исправленную Петром Великим. В 1771 г. издана «Летопись о многих мятежах»; в 1772 г. — Царственный летописец, полученный из библиотеки князя Голицына и признанный Щербатовым за начало Царственной книги. Издание Летописца Щербатов мотивирует тем, что медленность, происходимая от разных подлежащих учинить изысканий, принуждает меня медлительнее быть, нежели бы я хотел, в издании полного моего труда российской истории: то между сим временем я за нужное почитаю издавать в печать достойнейшие примечания российские летописцы[41]. Причина этой «медленности» заключалась в том, что для времени после татарского нашествия к летописным источникам присоединялись источники архивные, и необходимо было, прежде чем идти дальше, ознакомиться с их содержанием. Для этой цели Щербатов получил (22 янв. 1770 г.) разрешение пользоваться документами Московского архива Иностранной коллегии, где хранились духовные и договорные грамоты князей, начиная с половины XIII в., и памятники наших дипломатических сношений, начиная с последней четверти XV в.
К разработке этих документов Щербатовым мы вернемся впоследствии; теперь заметим только, что и эта разработка шла чрезвычайно быстро: третий том был написан к средине 1772 г. (напечатан 1774), четвертый — к 1774 (напечатан 1781)[42].
Издавая 3-й том, Щербатов совершенно основательно заметил, что допущение в архив Иностранной коллегии «наиболе послужило мне ко украшению сочиняемой мною истории». Действительно, некритический пересказ летописей, сделанный без всякой предварительной подготовки — каким были первые два тома, — мало подвигал вперед историческую науку после летописного свода Татищева. Но введение в исторический рассказ архивного материала, все более и более обильного, дало истории Щербатова исключительное положение среди исторических трудов прошлого столетия[43]. Это был уже не сводный текст летописи, как «Российская история» Татищева, не литературное произведение на мотивы русской истории Ломоносова и его последователей, не учебная книга по русской истории, как «Краткий летописец» Ломоносова или «Ядро» Манкиева; — это был первый опыт связного и полного прагматического изложения русской истории, основанный на всех главнейших источниках, сохранившихся от нашего прошлого. Он оставался единственным опытом вплоть до Карамзина, а чем обязан Карамзин Щербатову, — мы еще увидим. У современников «История».
Щербатова, однако же, приобрела дурную репутацию. Ее считали сухой и скучной; и, конечно, она была написана не для большой публики. Что гораздо хуже, — ее считали некритичной и полной ошибок; это было справедливо относительно первых томов, на которые обрушилась критика; но как общая оценка всех 15 томов — такой отзыв не может считаться справедливым. Наконец, ее считали непродуманной, не проникнутой общей идеей; и это было совершенно справедливо, так как рационалистические приемы толкования событий по самому своему свойству оставались слишком внешними и не могли дать внутренней связи изложению. Но можно поставить вопрос, в какой степени эта особенность труда Щербатова зависела от личных свойств историка и в какой степени она вытекала из самых свойств поставленной задачи. Екатерина II прямо решала вопрос в первом смысле, находя, что «голова его не. была создана для этой работы»[44]. Наверное, так думал и литературный противник Щербатова, Болтин; но ему должны были быть ясны и другие причины, которыми неудача «Русской истории» объяснялась и помимо личных особенностей Щербатова. «Весьма те ошибаются, — говорил Болтин по поводу Леклерка, — кои думают, что всякой тот, кто, по случаю, мог достать несколько древних летописей и собрать довольное количество исторических припасов, может сделаться историком; многого ему недостает, если, кроме сих, ничего больше не имеет. Припасы необходимы, но необходимо также и уменье располагать оными»[45]. Необходимо, другими словами, владеть материалом, чтобы дать историческому рассказу литературную форму; а чтобы овладеть материалом, необходима его предварительная ученая разработка. Пока эта разработка не произведена, — писать «историю» преждевременно.
Нигде не высказанная прямо, эта точка зрения решительно определила, однако же, характер собственной ученой деятельности Болтина. Вся его ученая работа сводится к предварительной разработке исторического материала, причем результаты этой разработки Болтин никогда не решается свести в законченное целое. Его излюбленная форма изложения — это или форма словаря, или форма «критических примечаний» к чужому тексту, или форма комментария к историческому памятнику. Большая свобода формы дает и большую свободу работе исследователя. Не стесняя себя никакими определенными сроками, не ставя даже себе в начале занятий никакой определенной темы, Болтин исподволь накопляет материал, постепенно, по мере чтения, делает выписки из прочитанного. Таким образом, совершенно незаметно составляется ученый арсенал, из которого можно черпать сведения и справки по всякому представляющемуся случаю. Ученость Болтина вырастает, так сказать, органически из его любознательности; этим и объясняется тот характер цельности, жизненности, продуманности, какими отличается ученый обиход Болтина. Этим же, надо прибавить, объясняется и его сравнительная несложность. «Мелочи» допускаются в этот обиход лишь как средство сделать «крупный» вывод или избежать «крупной погрешности»[46].
Вероятно, та же постепенность, с какой нарастала ученость Болтина, мешает нам уяснить себе, как и когда он приобрел свои исторические знания. Сведения, сообщаемые об этом в рукописном словаре сенатора Казадаева, приходится оставить в стороне, как сомнительные или безусловно неверные[47]. Остаются только собственные показания Болтина о его «привычке от юности, читая всякую книгу, замечать и выписывать достойные примечания места» и о «выписках, учиненных через многие лета, из древних летописей, грамот и других сочинений»[48].
Судя по результатам, подготовительные работы Болтина производились, главным образом, в двух направлениях. С одной стороны, он собирал материалы для истории языка: эти материалы, — «слова, выписанные из многих книг церковных, яко плоды долговременных трудов своих», — Болтин в 1784—1786 гг. передал в Российскую Академию, членом которой, сделался со времени ее открытия — с 21 октября 1783 г., вместе с Потемкиным[49]. С другой стороны, он составлял терминологический и историко-географический словарь для древнего периода русской истории. Копия с этого словаря, считавшегося до сих пор погибшим вместе с другими рукописями Болтина в 1812 г., в пожаре библиотеки Мусина-Пушкина, — только что отыскалась в рукописях библиотеки Московского общества истории и древностей российских. Благодаря этой находке мы можем теперь представить.
себе гораздо яснее, чем это возможно было до сих пор, ход подготовительной исторической работы Болтина. Как оказывается, словарь составлен исключительно по «Истории» Татищева, на которую делаются при каждом слове точные ссылки. Иногда Болтин передает своими словами и в своей группировке сведения Татищева, иногда он переносит к себе текст Татищева буквально, иногда просто выписывает заинтересовавшее его слово со ссылкой на соответствующее место «Истории» Татищева, например, «ересь, (примечание) 374». «Клязьма, р. II, 167», «погост, что значит у Т. пр. 127» и т. д. Как видим, выписки Болтина не ограничиваются географическим материалом; он выписывает и любопытный для него термин или слово (дворянин, волость, Подвойский, запрос и т. д.) и любопытную рубрику (закон, народ, науки), под которой Татищев сообщает какое-нибудь интересное для него сведение или по поводу которой делает собственное рассуждение. Словом, мы видим перед собой внимательного и добросовестного ученика, составляющего к преподавательскому тексту нечто среднее между конспектом и указателем. Очень редко Болтин позволяет себе не согласиться со взглядом Татищева (например, о местоположении Корсуни); большая часть выписанного материала усваивается вполне; почти весь он будет пущен в дело в последующих сочинениях Болтина.
Таким образом, словарь делает несомненным то, о чем мы и без его помощи могли бы догадаться. Секрет бесспорного и огромного влияния Татищева на Болтина заключается в том, что Болтин по Татищеву выучился русской истории. Когда же происходил этот процесс выучки, заложивший основание всей последующей ученой деятельности Болтина по древней истории? Словарь составлен по второму и третьему томам «Истории» Татищева, т. е. не ранее 1774 г., когда издан 3-й том, и не позже 1784 г., когда появился на свет четвертый, с которым Болтин своевременно познакомился[50], но которым уже не воспользовался для словаря. Далее, Болтин пользуется в словаре тем знанием топографии Киевской Руси, какое могла ему дать десятилетняя служба в Василькове[51], но о местностях, лежащих на восток от Днепра, говорит уже как о «сей стороне» (московской), т. е. пишет словарь не в Василькове, следовательно, после 1779 г. Любопытно также, что, говоря о местоположении Корсуни, Болтин еще не упоминает в словаре о своем посещении развалин Херсонеса в 1784 г., о чем упомянуто в «Примечаниях на Леклерка»[52]. Итак, всего вероятнее, что внимательное изучение Болтиным Татищева относится к 1779—1783 гг. Если так, то ученик, стало быть, был взрослый: Болтину в это время было 45—50 лет. Таков был, следовательно, ученый багаж Болтина к тому моменту, когда начала выходить в свет «История» Леклерка, которой суждено было положить начало ученой славе нашего историка.
Шеститомная «Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne» Леклерка, доведенная до смерти Елизаветы, печаталась в 1783—1792 гг. Автор, бывший домовый врач гетмана Кир. Разумовского, затем директор наук шляхетского корпуса, профессор и советник Академии искусств, даже почетный член Академии наук по протекции Разумовского, весьма плодовитый писатель по самым разнообразным отраслям знания, находился в России в 1759 и 1769— 1775 гг. Задумав уже тогда писать о русской истории, он обратился к члену Коллегии иностранных дел и главному судье мастерской Оружейной конторы, Мих. Гр. Собакину, который, с помощью двух подведомственных чиновников, сделал для Леклерка обширные извлечения из рукописей различных архивов (Коллегии иностранных дел и дворцового?) и Синодальной библиотеки и перевел эти извлечения на французский язык. Затем, он представился князю Щербатову, как будущий сочинитель русской истории, и от него получил «точное резюме национальной истории» от Рюрика до Федора Ивановича, проспект для истории русского законодательства и материалы по истории искусств и истории дворянства в России. Наконец, он очень сильно воспользовался «Опытом исторического словаря о российских писателях» Новикова (изд. в 1772 г.). С помощью этих и некоторых других русских источников, а также французской компиляции Левека, составленной по Щербатову, Леклерк и написал свою «Историю древней и новой России», введя в нее также и свои личные наблюдения, сделанные в России. Весь этот материал он подвергнул двойной порче: во-первых, благодаря своему полному или, что еще хуже, почти полному незнанию русского языка; во-вторых, благодаря тем литературным приемам, которые он серьезно считал новым способом писать историю. Разумеется, о «древней и новой России» французский писатель говорил снисходительно и свысока, как истинный представитель передовой нации; надо, впрочем, прибавить, что он и собственному правительству времен революции не стеснялся читать уроки политической мудрости[53]. Россия для Леклерка — страна невежества и деспотизма; народ пребывает в состоянии варварства, рабства и суеверия. «Государи могут все, что хотят, когда они благое в виду имеют; довольно им только пожелать, чтоб их государство было цветущим, а народы блаженными»; но до сих пор они желали только держать народ для собственного спокойствия в состоянии первобытной дикости и угнетения. В результате в России нет достаточных побуждений к размножению народонаселения; количество жителей не соответствует громадности страны, и все средства народа истощаются на потребности внешней защиты.
Задетый за живое в своем патриотическом чувстве, Болтин принялся, «по мере чтения», делать письменные замечания на сочинение Леклерка. Возражения на первые 5 томов, вышедшие в 1783—1785 гг., были готовы в 1786 г. Через два года, при посредстве Потемкина, Болтин издал их в двух томах, на собственные средства императрицы, которую «История» Леклерка должна была так же затронуть, как затронуло ее «Путешествие» аббата Шаппа. Для своих полемических целей Болтин не думал предпринимать каких-нибудь новых специальных изучений; он просто мобилизировал свой наличный запас сведений и отмечал, по его собственным словам, «только те (ошибки Леклерка), кои при простом чтении с памятью моею встречались»[54]. Главный арсенал, выдвинутый Болтиным против Леклерка, — это были его многочисленные выписки из словаря Бейля, из Вольтера, Мерсье и др. Наверное, более половины «Примечаний» заняты этой выставкой иностранной учености Болтина. Из другой, меньшей половины, справки, относящиеся к древней русской истории, занимают очень малую долю. Митр. Евгений был совершенно прав, говоря, что в этой части «Примечаний» Болтин «ничего не сказал ни нового, ни лишнего пред Татищевым, но он сблизил под один взгляд многие такие замечания, которые у Татищева рассеяны по разным местам». В сущности, это было продолжение той же работы, какую мы видели в «Словаре». Там, где Болтин хотел дать более обстоятельную справку, он присоединял к Татищеву два тогда напечатанных летописных текста: Несторову летопись по Кёнигсбергскому и по Никоновскому спискам; изредка он прибавлял к этим трем текстам справку в своем собственном рукописном экземпляре летописи[55]. Но суть дела от этого не меняется: основой всех сведений Болтина по древнерусской истории продолжает оставаться Татищев. После татарского нашествия, т. е. того периода, который был обстоятельно изучен Болтиным по 2-му и 3-му томам Татищева, исторические сведения, а вместе и поправки Болтина к Леклерку заметно оскудевают. Он, например, думает, что Стоглавый собор собран был Иваном IV в 1542 г. Главное внимание Болтина в XVI и XVII вв. обращено на памятники законодательства: Судебник с дополнительными статьями и Уложение. Припомним, что первый приготовлен был к изданию и комментирован тем же Татищевым: комментариями этими Болтин и пользуется очень широко[56]. Что же касается Уложения, оно во времена Болтина лежало в основе действующей юридической практики; следовательно, знакомство с ним не было делом одной только ученой любознательности. Далее, по отношению к новому периоду знакомство Болтина с источниками становится вполне отрывочным и случайным. Книжка Шафирова о причинах Северной войны, анекдоты Штелина, записки Манштейна — вот почти все источники Болтина для истории событий XVIII в. Документальное изучение событий, характерным для Болтина образом, заменяется здесь живой традицией. Один старик рассказал ему тридцать лет тому назад о битве под Нарвой; старые барыни, въезжие к царице Прасковье Федоровне, передавали ему про одного юродивого при дворе Анны Ивановны; от близкого свойственника жены он «изустно слышал» об ужасах бироновщины, и он описывает эти ужасы такими тацитовскими красками, что прежний владелец моего экземпляра «Примечаний», читавший книгу в начале века, не мог не приписать на полях: «хоть около правды, но уже слишком». В какой степени эти «изустные слухи» и личные воспоминания первенствуют у Болтина перед изучением источников, видно из того, что, ссылаясь на упомянутого старика по вопросу, сколько было русских войск под Нарвой, Болтин и не думает сделать самой простой справки об этом в основном, официальном источнике, «Журнале Петра Великого», изданном еще в 1770 г. Щербатовым. Точно так же, разбирая сведения Леклерка о русских писателях, Болтин и не подозревает о заимствовании этих сведений из словаря Новикова, изданного в 1772 г. Оба первостепенной важности источника остаются ему совершенно неизвестными[57].
Таким образом, определяя свою роль в «Республике письмен», Болтин не из одной скромности мог назвать себя «хотя и не приносящим ей пользы, яко пчела, но пользующимся трудами прочих, яко трутень»[58]. Не в «пчелиных» свойствах, однако же, следует искать значения «Примечаний на Леклерка». Значение это заключается, во-первых, в общей точке зрения Болтина на исторические явления; во-вторых, в приложении этой точки зрения к объяснению русского исторического процесса. Общая точка зрения Болтина была по существу противоположна рационализму Леклерка. Там, где Леклерк ограничивается отрицанием, Болтин ищет положительного объяснения; где Леклерк находит одно отсутствие или злоупотребление разума, Болтин предполагает действие исторического закона. Действие это всегда и везде одинаково: «правила природы повсюду суть единообразны»; «во всех временах и во всех местах человеки, находясь в одинаких обстоятельствах, имели одинакие нравы, сходные мнения и являлись под одинаким видом». Поэтому нельзя характеризовать русский народ как какое-то исключение из всего человечества. Если русский народ и одержим пороками, то «не больше, как и другие народы». Это не значит, однако же, чтобы Россия была вполне сходна с другими народами Европы; напротив, она «ни в чем на них непохожа». Несходство это есть естественное последствие особенностей как «физических местоположений» России, так и ее истории. Физические, т. е. географические, климатические и почвенные, условия обусловили разницу в плотности населения между различными частями России и поставили предел увеличению плотности в наиболее населенных частях ее. Те же условия создали отличия и в «нравах», в складе народного характера. Ход русской истории влиял в том же направлении: раздробление на части и татарское иго задержали увеличение народонаселения; то же самое «разделение народа на удельные княжения» произвело «различие в нравах, обычаях и богочтении». Но в России этой внутренней областной розни было гораздо менее, чем на Западе; менее было и «таких чувствительных и скорых перемен», как в Европе; «нравы, платье, язык, названия людей и стран остались те же, какие были прежде, исключая малые некоторые перемены в общежительных обрядах, поверьях и в нескольких словах языка, кои мы заимствовали от татар». После объединения Руси «и нравы, и обычаи сделались почти сходными», «народочислие» стало быстро увеличиваться. С переменами в условиях жизни изменятся и нравы; нужно только «терпение и время». Леклерк думает, правда, что это время можно сократить с помощью мудрого законодательства; но, по мнению Болтина, «не должно вводить насилием перемен в народных началах и образе умствования их, а оставлять времени и обстоятельствам их произвести». «Удобнее закон сообразить нравам, чем нравы законам, — повторяет он в другом месте, — последнего без насилия сделать не можно». Таким образом, «исправляя обычаи и нравы, должно быть весьма осторожну». «Делая перемены или вводя новости, нужно наблюдать, чтобы оные соответственны были нравам, обычаям, времени, местоположению, обстоятельствам, а паче климату; владычество его есть главнейшее из всех: всякое предписание, узаконение, устраняющееся его законов, будет бесполезно, тщетно, вредно». Так, например, «примечено многими, что с тех пор, как стали мы устраняться обычаев наших предков и начали жить, сообразуясь иностранным, сделались мы слабее, чаще подвержены стали быть болезненным припадкам» и стали менее долговечными. «Главными тому причинами, — заканчивает Болтин эту иллюстрацию, — полагаю уничтожение обычая ходить в бани и введение французской поварни»1.
1 Прим, на Леклерка. II. С. 162, 423, 242, 153, 160 141, 159, 295, 316; I. С. 316; II. С. 355, 339, 370.
Как видим, Болтин делает из своей схемы не совсем осторожное практическое употребление. Но нельзя не признать, что по самому своему свойству эта схема, признававшая непрерывность традиции и единство «нравов» на всем протяжении русской истории, была как нельзя более удобна для составления первого цельного взгляда на русскую историю. Она была ценна уже тем, что заставляла историка обращать преимущественное внимание на факты внутренней истории, и в фактах внутренней истории искать преемственности, внутренней связи. Основным фактом внутренней истории, доступным наблюдению тогдашнего историка, была прежде всего история законодательства. Все данные для такой истории были подготовлены Татищевым, но Болтин соединил их в одно целое с помощью своей идеи — зависимости «законов» от «нравов». «Нравы» народа оставались одинаковыми до раздробления на уделы; следовательно, и законы должны были быть одни и те же на всем протяжении исторической жизни, и до, и после Ярослава. Таким образом, Русская Правда есть исконное право древних руссов, несколько видоизмененное только при слиянии руссов со славянами, так как по «несходству нравов» тех и других пришлось приспособлять друг к другу и их «законы». Затем «по мере измены нравов должно было переменять и законы. Те законы, кои при единоначальстве были приличны, стали быть по разделении на уделы, а паче и под игом варваров, ненужными, неудобными». Поэтому появились новые удельные законы, в каждом уделе различные. Этот второй период в истории законодательства продолжался до восстановления единодержавия. После этого восстановления Иван III и Василий III делали новые попытки издать новые законы; но попытки эти не удались, так как не успела еще сгладиться разница нравов, произведенная удельным периодом. «Нельзя было согласить законов, не соглася прежде нравов, мнений и польз: время одно могло без насильства произвести сию перемену». «Время» это, «благоприятное» для перемены, наступило при Иване IV, «понеже почти все уже уделы присоединены были к единодержавию»; поэтому-то и удалось ему исправление старого Судебника, который Болтин считает тожественным с Русскою Правдой или, точнее, тожественным с тем древним правом, из которого Русская Правда сохранила отрывки. Таким образом, единство законов было восстановлено с восстановлением единства нравов. И позднее, с изданием Уложения, непрерывная юридическая традиция продолжала сохраняться. Конечно, «прибыли нужды, прибавлены и законы»; но восстановленное в Судебнике древнее русское право «даже и по сочинении Уложения не было отрешено, ибо и в нем во многих местах ссылка делается на Судебник и прежние уставы». В значительной степени старое право было, однако же, «отрешено», вопреки схеме Болтина; недовольный этим, он постоянно подчеркивает, что измененные и отмененные статьи «по прежним законам были лучше учреждены, рассмотрительнее и благорассуднее уложены, обстоятельнее и яснее истолкованы, нежели в Уложении»[59].
Зная и общую схему Болтина, и опыт приложения ее к русской истории, мы теперь лучше поймем, почему так неравномерно распределяется интерес Болтина к различным сторонам исторического изучения. Мы видели, как непростительно небрежно он относился к ознакомлению с внешней историей новой России и с историей новой литературы. Те и другие явления казались ему, очевидно, слишком случайными, слишком единичными с точки зрения его общей схемы. Напротив, где являлась возможность изучать постоянные, устойчивые явления, или где можно было проследить один из органических процессов истории, — любознательность Болтина берет верх над его дилетантизмом, он хлопочет о собирании материалов, совершенно независимо от Леклерка и от необходимости возражать ему; он добывает справки, забирается для этого даже в свой архив — Военной коллегии. Таковы его историкостатистические, историкоэтнографические и историко-географические работы, его этюды, по специальной истории, — преимущественно по истории крестьянства, разбросанные среди двух томов «Примечаний на Леклерка». По статистике населения он добывает цифры подушных переписей, более детальные цифры по отдельным наместничествам, справляется о количестве людей, взятых в рекруты за целое столетие, вычисляет общее количество народонаселения. По этнографии он дает списки древнего и нового населения России и Сибири. По географии он составляет описание наместничеств, дает общий очерк физической географии России и Сибири, набрасывает в общих чертах ход русских завоеваний и колонизации, наконец, не может устоять перед соблазном выписать, кстати или некстати, полное описание древней татарской дороги на Русь по «Книге Большому Чертежу». По социальной истории он пишет целый ряд любопытнейших экскурсов по истории развития крепостного права, по современному хозяйственному и юридическому положению крестьянства и т. д. Зараз и к этнографии, и к географии, и к социальной истории относятся значительные по объему отделы, посвященные истории казачества и Малороссии. Во всех этих этюдах и экскурсах он постоянно исходит от современности и постоянно к ней возвращается. Эта связь настоящего с прошлым в изучениях Болтина, его постоянные переходы от добытого специальной научной работой к тому, что получено путем живой исторической традиции, что «известно всем» современникам, — связь, трудно расчленимая, и переходы, часто совершенно неуловимые, — должны предостеречь нас от слишком поспешных заключений о том, какую роль во всей этой работе играло его личное творчество. Очень многое из высказанных им мнений высказывалось давно и помимо Болтина, и даже в литературной форме. Ограничиваясь одними сочинениями Щербатова, можно было бы указать ряд пунктов, по которым оба литературных противника держались одних и тех же мнений, — не потому, что эти мнения составляли общий умственный обиход мыслящих людей того времени. Таким образом, далеко не все то, что Болтин первый сказал печатно, — он первый и выдумал.
Как бы то ни было, собранные в один фокус екатерининского стародумства, все эти исторические объяснения и выводы сообщили «Примечаниям на Леклерка» значение крупного общественного события, — независимо от количества потраченной на них кабинетной ученой работы. Не писавши истории, Болтин сразу стал первым русским историком и занял место, никогда никому не принадлежавшее, — не то что философа русской истории, но, во всяком случае, — человека, впервые думавшего над русской историей и впервые понявшего ее как живой и цельный органический процесс.
В числе пособий, оставленных в стороне Болтиным, находилась и «История» Щербатова. «Начав делать возражения на Леклерка, — писал он позднее, — не имел я при себе истории Щербатова; и хотя бы мог ее испросить у приятелей моих на подержание, но я не признавал ее необходимою для моей работы, имея у себя Нестора, Татищева, одну старинную летопись и Левека; да и справки делал я редко с русскими книгами… Возражая места, находимые мною несправедливыми и сомнительными в истории Леклерковой, не входило мне в голову, что я, противореча им, воспротиворечу и князю Щербатову… Словом сказать, кончил я мои примечания на Леклерка, не заглянув ни единожды в его историю, и для того ни в одном месте на нее не ссылался… упомянул же единожды имя его при означении ошибки его в слове „гребля“ по памяти, читав прежде его историю». К этому упоминанию надо, впрочем, прибавить два других, не оставляющих сомнения в том, что Болтин и тогда считал Щербатова источником многих ошибок Левека и Леклерка[60]. Вызванный этими намеками, кн. Щербатов в следующем же году по выходе «Примечаний на Леклерка» напечатал «Письмо к одному приятелю, в оправдание на некоторые сокрытые и явные охуления, учиненные его истории от г. г.-м. Болтина». Болтин в том же (1789) году издал свой «Ответ», в котором, указавши уже прямо некоторые ошибки щербатовской «Истории», намекнул, что будет продолжать разбор ее. К этому разбору он и приступил немедленно; в 1792 г. он представил уже свои новые «Примечания» через Мусина-Пушкина императрице Екатерине II. Щербатов, в свою очередь, не выдержал: давши еще в «Письме» обещание не продолжать полемику, он, однако, написал толстый том «Примечаний» на «Ответ» Болтина. Полемике так и не суждено было кончиться при жизни авторов. Щербатов умер в 1790 г., Болтин в 1792 г.; примечания обоих были напечатаны уже после их смерти: щербатовские (анонимно) в 1792 г., болтинские — в 1793—1794 гг. в двух томах. Воспользоваться «Примечаниями» Щербатова Болтин уже не успел.
«Критические примечания» Болтина на первые два тома «Истории» Щербатова имеют совсем другое значение, чем «Примечания на Леклерка». История Леклерка дала ему повод высказать свое общее мировоззрение и общий взгляд на прошлое и настоящее России. Критика Щербатова служит ему поводом для дальнейшего специального изучения домонгольского периода русской истории, который и раньше был ему наиболее известен. Все возражения Болтина против Щербатова можно свести к двум категориям. С одной стороны, он пускает в дело свои специальные сведения по исторической географии и исторической этнографии Древней Руси и на каждом шагу показывает полнейшее незнакомство Щербатова с этими вспомогательными дисциплинами. Щербатов смешивает Владимир-Волынский с Владимиром Суздальским и большую часть событий, относящихся к первому, относит ко второму; точно так же он мешает Переяславль Южный с Переяславлем-Залесским, Литву с Польшей, вятичей передвигает с верховьев Оки на Вятку, народ зимеголов превращает в собственное имя какого-то «Зимегора», а из племени сосолов делает нарицательное существительное «соль»; не имеет никакого понятия о границах Руси и отдельных княжений и т. д. С другой стороны, он доказывает неумение Щербатова читать летописи, происходящее от незнакомства с летописным языком и терминологией, и неумение выбирать между летописными известиями и вариантами, происходящее от недостатка критики. Щербатов слово «стяг» превращает в «стог», из слов «вежа» и «стрелен» делает собственные имена, «идти по нем» (т. е. против него) переводит «идти на помощь к нему», из одного князя делает пятерых и т. д. В общем, Болтин доказал действительно, что кн. Щербатов «предприял быть историком, не читав прежде истории», что первые тома его истории показывают «крайнее небрежение и невнимание, незнание истории, географии и русского языка». Но, чтобы быть справедливым, надо прибавить, что и сам Болтин гипотезам Щербатова противопоставлял иногда собственные гипотезы, еще более далекие от истины: так, отвергая приурочение Тмутаракани к Азову, конечно, неверное, он упорно настаивал на отождествлении Тмутаракани сперва с Рязанью, где искал ее и Татищев, потом с одним городищем на Ворскле; нападая на почти верное чтение летописи «Шеренск», он предлагал заменить его небывалым городом «Ршенеском», заимствованным у Татищева, и т. д. Еще чаще постигают его неудачи, когда он принимается критиковать щербатовское пользование летописями. Мы видели, что Щербатов составляет свой текст по значительному количеству рукописных списков, преимущественно из Синодальной и патриаршей библиотек, и, как и следовало, совершенно независимо от свода Татищева. Для Болтина татищевский свод остается основным источником сведений; несколько раз он повторяет одно и то же утверждение: «не примечено, чтоб он (Татищев) единое слово, не только речь или целое бытие, от себя к тексту повествования где прибавил, но токмо исправлял погрешности и пополнял упущения из других летописей; свои ж мнения и рассуждения писал в примечаниях, а потому и повествование его достойно есть совершенные доверенности»[61]. Так ли это на самом деле, мы еще увидим впоследствии; теперь заметим только, что и сам Болтин должен был несколько раз предположить, что Татищев вводил в текст «свои догадки», «направляем будучи внимательным рассуждением»[62]. Эти догадки Болтину случается противопоставлять тексту Щербатова как подлинные свидетельства «наших летописей»[63]. Там, где справка с Татищевым разрешает недоумение, вызванное чтением щербатовской «Истории», Болтин обыкновенно этой справкой и ограничивается. Если необходимо дальнейшее сличение текстов, Болтин обращается к печатным изданиям Кёнигсбергского и Никоновского списков; наконец, последний его ресурс, к которому он прибегает, когда уже специально заинтересуется каким-нибудь отдельным местом, — это справки в рукописных списках его собственной библиотеки. Если и после всех этих справок Болтин находит у Щербатова чтонибудь лишнее или противоречащее известным ему спискам летописи, он уже без дальнейших колебаний обвиняет Щербатова в выдумках, искажениях и т. д. Таким образом, ему случается обозвать «бредом», «сказками» «баснями» и т. п. самые достоверные и подчас очень интересные данные древнейшей Новгородской летописи, Воскресенского списка и других, неизвестных ему, но известных Щербатову летописных текстов[64]. Насколько недостаточны бывают его ученые средства, когда он пытается восстановить историю летописного текста, лучше всего видно из того самого параграфа «Примечаний», который перепечатан М. И. Сухомлиновым как образец болтонской критики: факт, что в Переяславле была митрополия (по Болтину «пустота не стоящая возражения»), признается за несомненный новейшими историками церкви, а сообщающая об этом фраза, прибавленная, по мнению Болтина, позднейшими переписчиками, находится в древнейших списках летописи[65].
В последний год жизни Болтина напечатан был текст Русской Правды с его переводом и комментариями; в том же году, по поручению Екатерины II, Болтин написал примечания на ее драму «Историческое представление из жизни Рюрика»[66]. Обе работы, точно так же, как и «Примечания на Щербатова», показывают, что в последние годы жизни Болтин все более углублялся в изучение древнего периода русской истории. Успехи этого изучения нетрудно отметить, если сравнить объяснения Болтина к Русской Правде, какие он давал в «Примечаниях на Леклерка», с теми, которые он составил для издания 1792 г.; эти успехи видны также из все большей и большей самостоятельности, с какой он начал относиться к мнениям Татищева[67]. К сожалению, более цельных плодов от этой поздней специализации Болтину не пришлось дождаться; здоровье его в эти последние годы очень мешало его занятиям. Болтин умер, не успев подвести итога своей специальной работе; и если бы даже он прожил долее, мы получили бы этот итог не в виде какойнибудь цельной исторической работы по древней истории, а в виде осуществления его заветной мечты: составить словарь, первое начало которого было положено «выписками для уразумения древних летописей, с изъяснением древних слов, из употребления вышедших, и географических мест, упоминаемых в летописях»: так обозначает митр. Евгений содержание известного нам «Словаря географического (1772— 1783)». В последние годы жизни план этого словаря расширился, и словарь разделился на два. С одной стороны, Болтин принялся за составление географического словаря, или «Исторического и географического описания наместничеств», материалы для которого, по распоряжению Екатерины, доставлялись ему из губерний. Как видно из «Примечаний на Леклерка», некоторые материалы этого рода он получил уже к 1786 г. С другой стороны, он предложил Российской Академии план.
издания «Толкового словаря русского языка», в котором бы находилось «не только о всех вещах, теми речениями означаемых, достаточное истолкование, т. е. касательно слов и речений, извещение об их происхождении, знаменовании, употреблении и проч.; касательно вещей, теми речениями означаемых, — описание о их природе, свойстве, образе составления их, разнствия других тождеродных и проч.». Так как Академия отказалась от выполнения этого плана, то он, по-видимому, принялся за осуществление его сам: в его рукописях найдена была готовой буква, А «Толкового словеснороссийского словаря» и материалы для его продолжения. Географический словарь также остановился в самом начале.
По старой привычке, установившейся еще с прошлого века, сравнение между двумя современниками и противниками, Болтиным и Щербатовым, всегда делалось не в пользу последнего. Может быть, таково было, действительно, впечатление, произведенное на современников личностями обоих историков; конечно, это впечатление могло только закрепиться исходом литературного поединка, в котором все преимущества были на стороне нападающего. Личного впечатления современников мы не можем, конечно, проверить и должны до известной степени ему доверять, тем более, что преимущества ума и таланта Болтина доказываются его литературными произведениями. По отношению к общим историческим взглядам эти преимущества ставят Болтина, безусловно, вне всякого сравнения с Щербатовым. Но одних этих преимуществ мало для победы в специальной ученой полемике, и здесь победа далеко не была такой полной, как казалось современникам и многим из позднейших исследователей. Разрушить дело Щербатова или повести его дальше нельзя было, не овладев всем его материалом, а мы видели, как было далеко в этом отношении Болтину до Щербатова. И даже поскольку критика Болтина действительно разрушала «Историю» Щербатова, она, в большинстве случаев, не вела исследования дальше, а возвращала его к результатам, давно уже достигнутым Татищевым. Собственная исследовательская работа Болтина начата была слишком поздно, продолжалась слишком короткое время и — для этого промежутка времени — слишком разбрасывалась в разные стороны, чтобы дать сколько-нибудь крупные результаты. Бесспорно, видное место принадлежит Болтину в истории русской исторической мысли, но и здесь необходимо сделать оговорки. При всей своей оригинальности мысль Болтина двигалась, в сущности, как это увидим, в традиционных рамках исторической теории XVIII в. В ней было очень много своеобразного, характерного для настроения времени и кружка, к которому принадлежал Болтин; но все это своеобразное умерло вместе с автором и с веком, создавшим его убеждения. От Болтина нельзя вести никакой школы, никакого исторического направления; его историческая деятельность не создала никакого переворота в ходе русской историографии, а скорее сама была отголоском того подъема научных и теоретических требований, который становится заметным к концу столетия. Самое драгоценное свойство, дававшее основной тон его ученой работе — чутье реальности, широкое понимание явлений общественной и политической жизни, живая связь с исторической традицией и внесение опыта государственной деятельности в изучение прошлого, — словом, все то, что расширяло исследовательский кругозор наших историков-любителей прошлого века, — все это скоро после Болтина должно было надолго исчезнуть из ученого оборота нашей историографии. Перечитывая теперь, когда научный реализм снова сделался лозунгом исторического изучения, эти страницы, покрытые столетней пылью, иногда с удивлением замечаешь, что между ними и нами гораздо меньше расстояния, чем между нами и гораздо более близкими к нам предшественниками. И это совершенно понятно: под тяжеловесными, устаревшими фразами историков XVIII в. мы чувствуем биение настоящей жизни, надолго изгнанной из сферы исторического изучения их преемниками и замененной школьным пониманием истории; водворить вновь эту жизнь как необходимый и единственно возможный предмет научного анализа составляет нашу теперешнюю задачу. Но что же делали в промежутке наши предшественники? Какую задачу они выполняли? На эти вопросы мы поищем ответа впоследствии.
- [1] Журн. М-ва нар. проев. 1886, июнь, статья Н. А. Попова. «Разговор» см.: Чтенияв О-ве истории и древностей российских (ЧОИДР). 1887. Т. I. «Лексиконом» Вальхамы пользовались во 2-м издании (Philosophisches Lexicon hgb. v. Johann Georg Walch.Lpz., 1733); первое издание было в 1726 г. Особенно многочисленны и иногда буквальны заимствования из Вальха в первой, психологической части «Разговора». Междупрочим, из Вальха взято и приведенное выше деление наук (Phil. Lex, s. v. Studieren, 2474 c.: nothige, nutzliche, eitle и unniitzliche Wissen schaften).
- [2] Разговор двух приятелей. С. 4—5, 15—26, 29, 129, 133—134. Walch. Phil. Lex., s. w. Eigenliebe, Gesetz der Natur, Guter des Menschen, Neigungen des Gemuths, Wille desMenschen, Liebe gegen andere, Liebe gegen Gott, Thier.
- [3] Там же. С. 9,15,16, 65,131; Walch., s. w. Seelenbeschaffenheit, Vernunft. Judicium.
- [4] Там же. С. 2—3, 5, 75—78; Walch. Erkenntniss sein selbst, Studieren.
- [5] Разговор. C. 116—117. Cp. c. 11 об историках, у которых «память» преобладаетнад «смыслом».
- [6] Рукописное «предъизвещение» в рк. Академии наук. См.: Сенигов. Историко-критические исследования о новгородских летописях и о российской истории В. Н. Татищева // ЧОИДР. 1887. Т. IV. С. 209.
- [7] История татищевского труда рассказана им самим в «Предъизвещении» к «Истории российской» и в главе о географии вообще и о русской (1. С. 507—510). Для дополнений см.: Новые известия о В. Н. Татищеве (прил. к VI т. Зап. Акад. наук) П. П. Пекарского, где напечатан, между прочим, каталог библиотеки Татищева. Список источниковТатищева составлен И. П. Сениговым. Ист.-крит. исслед. etc. С. 170—193. К сожалению, автор не пытается выделить источники, непосредственно известные самому Татищеву, от таких, ссылки на которые заимствованы им из сочинений второй руки: таким образом, вся ученость Байера, исследования которого переведены в «Истории российской», Стрыйковского и др., смешаны с ученостью Татищева, хотя отделить то и другое быловесьма нетрудно. О первоначальной редакции 1739 г. см. у г-на Сенигова, с. 207 и след. О ходе географических работ после Петра см.: Свенске К. Ф.: Материалы для историисоставления атласа Рос. империи 1745 г. (прил. к IX т. Зап. Акад. наук).
- [8] На сношения с Лонд. обществом указал, кажется, впервые Шлецер. Nord. Geschichte 224. На связь новой редакции с мыслью о переводе «Истории» указано в «Предъизвещении». Две части первого тома изданы Миллером в Москвев 1768 и 1769 гг. под заглавием: «История российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором В. Н. Татищевым». Второй том издан в 1773 г.; О
- [9] Биографические сведения о Татищеве см. у Н. А. Попова «Татищев и его время» (М., 1861) и К. Н. Бестужева-Рюмина «Биографии и характеристики» (СПб., 1882). О службев Оренбурге см. также В. Н. Витевского «И. И. Неплюев и Оренб. край до 1758 г.» Казань, 1889—1891. Вып. 1—3.
- [10] Ход составления «Истории» виден из собственных отчетов Ломоносова (Пекарский.
- [11] История Акад. наук. Т. И). В 1751 г. он «читал книги для собрания материй к сочинению
- [12] российской истории: Нестора, законы Ярославли, большой летописец, Татищева первыйтом, Кромера, Вейселя, Гелмольда, Арнольда и другие, из которых брал нужные эксцепты,
- [13] или выписки и примечания, всех числом 653 статьи на 15 листах» (с. 466). В 1752 г. «для
- [14] собрания материалов в российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, Иор-
- [15] нанда, Прокопия, Павла Дьякона, Зонара, Феофана-исповедника и Леона-грамматика
- [16] и иных эксцептов нужных на трех листах в 161 статье (с. 488). В 1753 г. 1) „Запискииз упомянутых прежде авторов приводил под статьи числами“. 2) „Читал российские академические летописцы без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деянияхроссийских“ (с. 508). В 1754 г. „сочинен опыт истории словенского народа до Рюрика;дедикация, вступление, — глава I. О старобытных жителях в России; глава II. О величестве и поколениях российского народа; глава III. О древности словенского народа, всего
- [17] листов“ (с. 543). В 1755 г. „сделан опыт описаниям владения первых великих князейроссийских: Рюрика, Олега, Игоря. В том же году составлено похвальное слово Петру"(с. 569). В 1756 г. „собранные мною в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей библиотеки, пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдениясходств в деяниях российских“ (с. 591). В 1757 г. Ломоносов делал для Вольтера экстрактыо самозванцах, царствованиях Михаила, Алексея и Федора и о стрелецких бунтах (с. 618).С сентября 1758 г. началось печатание „Истории“, но к 1763 г. было напечатано толькотри листа. С 1763 г. печатание пошло скорее, и Ломоносов обещал в первом томе поместить события до Ивана III; но представленная им рукопись кончалась смертью Ярослава Мудрого. После донесения фактора академической типографии (через полтора годапо смерти Ломоносова), что оригинала более не имеется, напечатанная часть (до 1054 г.)была выпущена в продажу (с. 642, 791—792). Как видно из этих сведений, подготовкаи печатание „Истории“ шли крайне медленно.
- [18] Биографические сведения об Эмине см. в Словаре митр. Евгения. Т. I. С. 214—225, и у Старчевского в „Очерке исторической деятельности в России до Карамзина“. С. 178—188. Сочинение доведено до 1213 г. и издано Академией наук в 3 томах (1767—1769) под длинным заглавием: „Российская история, жизни всех древних от самогоначала России государей, все великие и вечной достойные памяти императора ПетраВеликого действия, его наследниц и наследников ему последования и описание в северезлатого века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая“.
- [19] „Опыт“ составлен в 1789 г., но напечатан только в 1803 г., после смерти автора (1796). См. у митр. Евгения. T. 1. С. 211—214, и Старчевского. С. 190—194 (Старчевскийповторяет, впрочем, сведения Евгения и об Эмине, и об Елагине).
- [20] Под первым заглавием Фонвизин перевел отрывки из книги Кларка, раскаявшись в своих атеистических увлечениях; составлением же „рассуждений“ Лопухин, впоследствии масон, хотел загладить свой грех — перевод заключения (code de la nature) из книги Гольбаха „Systeme de la Nature“ — перевод, надо прибавить, немедленносожженный автором (Его записки в ЧОИДР. 1860. Т. II. С. 14). Даже крайние радикалыЕкатерининского времени, Ушаков и Радищев, не решались согласиться с французскими материалистами и сенсуалистами: Ушаков („Письма о разуме“) полемизируетпротив Гельвеция; Радищев в разных местах своих сочинений высказывает противоречивые мнения по вопросу о бессмертии души и колеблется между деизмом и критицизмом, с одной стороны, и французскими философами, с другой (Т. I. С. 198; Т. II: О
- [21] Названные сочинения Щербатова см. в ЧОИДР. 1860. Т. I. Цитаты Болтинасобраны в „Истории Российской академии“ г-на Сухомлинова. Т. V. С. 135—164. Весьмазначительную часть их Болтин взял из словаря Бейля, не всегда указывая на этот источник; но, за вычетом всех сколько-нибудь сомнительных случаев, несомненно прямоеи близкое знакомство с самим словарем Бейля (который Болтин даже переводил), с Руссо, Монтескьё, Вольтером (особенно Essai sur les moeurs), с Рейналем и Мерсье.
- [22] Статья Щербатова под заглавием: Статистика в рассуждении России //ЧОИДР. 1859. Т. III. С. 95. Сочинение „О повреждении нравов“ напечатано в „Рус. старине“. 1870. Т. II и III.
- [23] Если только можно заключить о непосредственном знакомстве Болтина с книжкой Бодена из Прим, на Леклерка. II. С. 490. Из статьи о Бодене в словаре Бейля этассылка не заимствована.
- [24] Москва. 1794. II + 268 + I с. Переводчик, скрывший свое имя под буквами И. Г., посвятил книжку графу Алексею Григ. Орлову.
- [25] Физика истории. С. 29, 31—32, 141—142.
- [26] Физика истории. С. 34, 264, 268.
- [27] ЧОИДР. 1860. Т. I. С. 43. О правлении: „ничто более действия не имеет над нравами человеческими, как воспитание, и… воспитание разнствует по разным родамправления“. Ср.: Esprit des Lois. IV, 1.
- [28] Прим, на Леклерка. Т. I, II (С. 5—11).
- [29] Прим, на Щербатова. Т. И. С. 82—83.
- [30] Там же. С. 478. Невысокое мнение о набожности Древней Руси Болтин вполнеразделяет с Татищевым.
- [31] Прим, на Леклерка. Т. II. С. 248.
- [32] Явившись 16 лет в Петербург, Болтин показал (очевидно, сообразно манифесту 31 декабря 1736 г., установившему правила дворянских смотров), что он училсядома, „своим коштом, арифметике и по-французски“. О геометрии, „основательное"знание которой требовалось на этом смотре манифестом 1736 г., Болтин не упоминает. Правом дальнейшей отсрочки до 20 лет, для обучения географии, фортификациии истории, Болтин, стало быть, тоже не воспользовался, что и вполне понятно, так какего домашняя жизнь, при отчиме, заставлявшем его участвовать в попойках, была, очевидно, непривлекательна. (Сухомлинов. История Рос. Акад. Т. V. С. 66—67; Поли собр.законов. № 7142).
- [33] Щербатов получил отставку 29 марта 1762 г., т. е. немедленно после манифеста 18 февраля 1762 г., Болтин прослужил до 1768 г.; в своем прошении об отставкеон мотивирует ее „частыми болезненными припадками“ (Сухомлинов. С. 360).
- [34] Таковы, по крайней мере, были намерения Потемкина. (Сухомлинов. С. 82—83).
- [35] О „воспитательном институте Разумовского“ см. в автобиографии Шлецера (Сб. ОРЯС. Т. XIII. С. 100 и след.). Вернувшись за границу, Шлецер руководил занятиямирусских студентов в Геттингене, между прочим и у Ахенвалля (Там же. С. 330, 382, 386).Материалы для лекций по статистике доставлялись Шлецеру из разных государственных учреждений через посредство Тауберта, „знакомого с большею частью президентови членов Государственной коллегии“ (Там же. С. 121 и след.).
- [36] Ответ Болтина на письмо кн. Щербатова. С. 147—150.
- [37] О роли Миллера говорит сам Щербатов: „Он не токмо мне вложил охоту к познанию истории отечества моего, но, увидя мое прилежание, и побудил меня к сочинению оной“ (Ист. рос. Т. I, предисловие). О роли Екатерины см. там же. (Т. III, предисл.):"Я ее милосердием в труде сем одобрен; ее щедротами отверсты мне государственныекнигохранительницы и архивы“. В портфелях Миллера сохранилось около 50 писемЩербатова. О русской истории впервые говорится в письме от 1766 г. 29 авг., с которымЩербатов возвращает Миллеру Нестора. Если можно поставить в связь с этим возвращением другое письмо без даты, где Щербатов просит дать ему Нестора „на некотороевремя“, то надо будет заключить, что уже в 1766 г. Щербатов работал над началом своейистории — в этом письме без даты он выражается: „Je me remets a mon ouvrage… dansle regne б’Изяслав les noms propres sont extremement corrompus dans mes manuscrits“.
- [38] Пекарский. История Акад. наук. Т. I. С. 396.
- [39] О деятельном участии Щербатова в заседаниях комиссии и о его партийнойроли свидетельствуют протоколы заседаний и собственные заявления Щербатова, напечатанные в Сб. Ист. о-ва Т. IV, VIII, XXXII, XXXVI. Наказ ярославского дворянства см. в Т. IV. С. 297—313. Любопытно сопоставить с этими данными „Примечания“ Щербатова"на манифест“ 1785 г., напеч. в ЧОИДР. 1871. Т. IV. Смесь.
- [40] Портфель Миллера, 546. Письмо от 15 июня 1769 г.
- [41] Предисловие к Царств, летописцу. Опровержение мнения кн. Щербатова и последующих исследователей об отношении Царств, лет. к Царств, книге см. в интереснойброшюре А. Е. Преснякова „Царственная книга, ее состав и происхождение“. СПб., 1893.С. 20—27.
- [42] Письма к Миллеру от 11 июня 1772, 29 ноября 1773.
- [43] Обработка дальнейших томов „Истории“ продолжалась до самой смерти Щербатова: последние тома — 14-й и 15-й, в которых история доведена была до 1610 г., до свержения Шуйского, изданы в свет уже после смерти автора, в 1791 г.
- [44] Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. I, кн. 2. С. 268.
- [45] Прим, на Леклерка. I. С. 269.
- [46] Прим, на Щербатова. II. С. 375, 380.
- [47] „Вступая в службу л.-г. в конный полк, продолжав заниматься учением, постоянно слушал лекции в академической гимназии и сухопутном кадетском корпусе. По любви к отечественному слову коротко познакомился с знаменитыми нашимиписателями, Ломоносовым и Сумароковым; искал беседы с учеными; о древностяхроссийских рассуждал с Миллером и Тредиаковским; прочел все на отечественном, латинском, французском и немецком языках лучшие творения о географии и истории, древней и новейшей… (оставив службу в 1779 г.), совершенно предался любимому своему предмету — изысканию и исследованию российской истории. Два года употребилон на путешествие по России, особенно по южным ее пределам: посещал монастыри, хранилища многих исторических сокровищ, рылся в архивах, тщательно стараясь делатьвезде разыскания, относящиеся к отечественной истории и географии“ (Сухомлинов.История Рос. Акад. Т. V. С. 325—326). Как мы видели, Болтин учился дома; о пребывании его в корпусе и гимназии никаких данных нет; после оставления места директора Васильковской таможни Болтин служил в Петербурге и ездил в эти годы тольколетом 1781 г. в Сарепту для лечения.
- [48] Сухомлинов. С. 87—88. Последнее показание относится к году смерти Болтина (1792).
- [49] Сухомлинов. С. 275.
- [50] Прим, на Леклерка. Т. I. С. 296.
- [51] „Город сей (Красный) поблизости Василева, и мню, что тут был, где и понынена речке Бете между Киева и Василева, виден великий вал, немалое пространство окружающий, на месте высоком, скатистом и ровном, на берегу Беты с левой стороны подлесамой дороги, едучи от Киева“. Ср.: Щекатов. III. С. 846.
- [52] Прим, на Леклерка. Т. I. С. 87.
- [53] Биографические и библиографические данные о Леклерке см. у Сухомлинова"История Рос. Акад.» Т. V. С. 110—128, и прил. С. 377—394.
- [54] Прим, на Леклерка. I. С. 243; Ср. II. С. 481.
- [55] Прим, на Леклерка. Т. I. С. 57, 61, 70, 83, 88; 91—92, 93, 94, 244, 249, 250.
- [56] Там же. Т. I. С. 306, 318, 321, 313—337, 457—477; Т. II. С. 432, 441, 442, 443—444. Другие заимствования из Татищева, см.: 1. С. 130, 252, 296, 314, 450, 509; II. С. 48,51—52, 401—402, 475—476.
- [57] Прим, на Леклерка. Т. I. С. 527—528; II. С. 73, 467—468, 470, 505; ср. такжео причинах отступления Апраксина, «известных всему свету». I. С. 286; о содержанииписем Шетарди о Елизавете, «известном всем». И. С. 535; о уничтожении сечи, «памятном всем». I. С. 346. Любопытный пример предпочтения живой традиции источникамсм. в Ответе Болтина Щербатову, с. 75—76: «весьма сомнительно, чтобы Татищев могв сем сказании (о звании думных дворян) сделать ошибку, ибо при Петре Великом былуже он в совершенных летах и, следовательно, мог довольно наслышаться о сем от такихлюдей, кои сами были в думных дворянах и коих согласное ему сказание без сомнениявящую доверенность заслуживает, нежели чье-либо заключение, сделанное из краткихи темных слов книг разрядных».
- [58] Там же. Т. II. С. 151—152.
- [59] Прим, на Леклерка. I. С. 314—319, 322, 326, 450, 453, 323, 327, 466.
- [60] Ответ Болтина. С. 63—64. Прим. I. С. 265—266, 272 (об «ошибках и недостатках, встречающихся в писателях нынешних, кои г. Левеку были путеводителями» и «коизаимствовал он, Леклерк, от других поневоле»), 280.
- [61] Ответ Болтина. С. 62; Прим, на Щербатова. II. С. 128, 187, 326.
- [62] Ответ. С. 20; Прим, на Щербатова. II. С. 308.
- [63] Например, Прим, на Щербатова. II. С. 29, об убиении Глеба в Заволочье емью. Что емь жила в Заволочье (на Сев. Двине), это ошибочное предположение Татищева, внесенное им в свой свод.
- [64] Например, Прим, на Щербатова. II. С. 105—107, и Лавр. s. а; 160—161, 353—354 и ПСРЛ. III. С. 20; 427 и ПСРЛ. III. С. 429 и ПСРЛ. VI. С. 127; 431,441, и ПСРЛ. VII. С. 130;458 и ПСРЛ. I. С. 196, III. С. 48, VII, 138; 472 и ПСРЛ. I. С. 221; III. С. 50. Сюда же следуетотнести и ту «зимнюю стужу» при осаде летом Торческа, на которую трижды нападалБолтин, про источник которой забыл и сам Щербатов, между тем как этим источникомбыли, очевидно, слова летописи «зимою оцепляеми».
- [65] Голубинский. История рус. церкви. Т. I. С. 285—286, 565. Лавр. s. а. 1089. По Голубинскому и «строение банное» есть настоящая баня, а не баптистерий. То же.С. 565—566.
- [66] По сведениям А. Ф. Бычкова, Екатерина обращалась к Болтину также за объяснениями темных мест летописей для своих «Записок касательно российской истории"(вероятно, для отдельного издания, 1787—1795 гг., а не для издания в «Собеседнике"любителей рос. слова 1783—1784 гг.) (Сб. РИО. Т. XIII. С. X). Любопытно сопоставитьс этим одно обстоятельство: в Примечаниях на Леклерка Болтин делает выгоднуюхарактеристику князя Константина Всеволодовича; в Прим, на Щербатова он повторяет эту характеристику с прибавкой: «Одно только мне не нравится в сем государе, что он упражнялся в сочинении книг, ибо упражнение такое для государя неприлично, ниже для забавы, дабы со временем не обратилось в пристрастие». И. 423. Неужели Болтин решился бы написать эти строки в тексте, поднесенном государыне, после того, какполучал и исполнял ее поручения по ученой части? Разъяснения относительно участияБолтина в «Записках» должны заключаться в черновых материалах для этих «Записок», хранящихся в Гос. архиве (Иконников. I. С. 773).
- [67] Так, «вирника» он уже не считает более «помещиком», как в Прим, на Леклерка.(I. 232), а «уголовным судьей, производившим следствие и суд об убийстве». Исследование о «гривне» сделано гораздо обстоятельнее, чем в Прим, на Леклерка. I. С. 62—63.Мнения Татищева исправляются несколько раз: при объяснении слов: гридня, ключ, куна, рез, тиун, ябетник (см. эти слова в I т. «Указателя законов» Максимовича, оглавление, в котором перепечатаны примечания Болтина к РП).