Лекция 14 ПОЭЗИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА
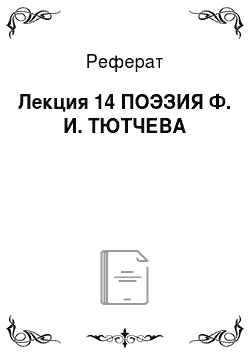
Примирение", от которого поэт образует эпитет «примирительный», здесь ничего общего не имеет с конформизмом художника или его безразличием к социальной несправедливости и людским страданиям. И тому и другому Тютчев как раз совершенно чужд. Противник революций, видящий в них лишь начало разрушения, убежденный монархист, он вместе с тем нравственно не мирился ни с крепостным правом… Читать ещё >
Лекция 14 ПОЭЗИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Жизнь Федора Ивановича Тютчева (1803— 1873) при небольшом разнообразии внешних событий исполнена глубокого внутреннего драматизма. Углубляясь возрастающим драматизмом современной поэту эпохи, он уже к середине 1830-х годов определит основное своеобразие его художественного мировосприятия.
«Даровитый от природы» воспитанник своего домашнего учителя С. Е. Раича, Тютчев, еще подростком переводивший «с замечательным успехом» оды Горация, после досрочного окончания Московского университета весной 1822 года зачисляется на службу в Государственную коллегию иностранных дел и в качестве сверхштатного сотрудника русской дипломатической миссии в Мюнхене уезжает за границу, где пробудет (в Германии, в Турине, затем снова в Мюнхене) до 1844 года, в котором вернется в Россию.
В 1826 году Тютчев женился на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон (в девичестве — графиня Ботмер), слабое здоровье которой было окончательно подорвано перенесенной ею катастрофой — ночным пожаром 1838 года на русском пассажирском пароходе «Николай I», шедшим из Петербурга в Германию. Оставшись после ее смерти вдовцом с тремя дочерьми, Тютчев в 1839 году женится на баронессе Эрнестине Дернберг, высоко ценившей поэтический дар мужа и изучавшей русский язык, чтобы читать его стихи.
Двадцать четыре из них, под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» с подписью «Ф. Т.», были впервые опубликованы А. Пушкиным (Современник. 1836. Т. 3,4), встретившим их с «изумлением» и «восторгом» от присущих им «глубины мыслей, яркости красок и силы языка». Новый подъем поэтического творчества Тютчева происходит в период с 1848 по 1849 год. В 1850 году Н. А. Некрасов печатает в «Современнике» статью «Русские второстепенные поэты», где, не зная настоящего имени Тютчева (оно по-прежнему скрывалось за инициалами), дает высочайшую оценку его поэзии. Наконец, в 1854 году в приложении к мартовскому тому «Современника» выходит отдельная книга стихов Тютчева, отредактированных И. С. Тургеневым (к ним добавятся еще 19 стихотворений, напечатанных в майской книжке «Современника»). Второе прижизненное издание сборника тютчевской поэзии, подготовленное И. С. Аксаковым, увидело свет в 1868 году.
С 1844 по 1849 годы Тютчев опубликовал в западноевропейских изданиях статьи «Россия и Германия», «Россия и революция», «Папство и Римский вопрос», отразившие его представления о международной миссии родной страны, одухотворенные глубокой любовью к ней и верой в ее высокое мировое предназначение. В переписке Тютчева с соотечественниками разных идеологических ориентаций (М.П. Погодиным, П. Я. Чаадаевым, П. А. Вяземским, С. С. Уваровым, А. М. Горчаковым, И. С. Аксаковым и Ю.Ф. Самариным), а также в его стихотворных откликах на западноевропейские революции 1848 года, Крымскую войну, Польское восстание 1863 года выразились гражданская и патриотическая позиции поэта и его панславистские чаяния, воплощенные, в частности, в поэтических посланиях «К Ганке», «Славянам» («Привет вам задушевный, братья…»), «Славянам» («Они кричат, они грозятся…»), «Чехам от московских славян», «А.Ф. Гильфердингу» и др.
Названная, в основе своей публицистическая поэзия Тютчева естественна ему как человеку с живым общественным темпераментом и широчайшим геополитическим кругозором. Вместе с тем очевидно, что свое целостное воплощение творческая личность Тютчева нашла в стихотворениях нс злободневно-актуальных, а онтологических.
Как великий поэт-лирик Тютчев конгениален его собратьям от Катулла и Овидия до Пушкина и Генриха Гейне, а в России 1840— 1860-х годов более всего Фету, который, напечатав в 1859 году о Тютчеве замечательную статью, в 1862-ом обратился к нему с посланием: «Мой обожаемый поэт, / К тебе я с просьбой и поклоном: / Пришли в письме мне твой портрет, / Что нарисован Аполлоном». В стихах же ответив Фету — «Тебе сердечный мой поклон / И мой, каков ни есть, портрет, И пусть, сочувственный поэт, / Тебе хоть молча скажет он, Как дорог был мне твой привет, / Как им в душе я умилен» (курсив мой. — В.Н.), — Тютчев, не ограничившись этой припиской к посылаемой фотографии, дополнил ее следующим сопоставлением своего поэтического дара с фетовским как в их творческой соразмерности, так и в индивидуальном своеобразии:
Иным достался от природы Инстинкт пророческо-слепой —.
Они им чуют, слышат воды И в темной глубине земной…
Великой Матерью любимый, Стократ завиден твой удел —.
Не раз под оболочкой зримой Ты самое ее узрел…
В помянутой статье 1859 года «О стихотворениях Тютчева» определение лирики своего «обожаемого поэта» дал, правда, через сравнение ее с собственной не прямо, а через пушкинскую, и Фет. Тютчев, совершенно верно отмечает он, — лирик особого рода, лирик -мыслитель.
Фет творил, по его собственному выражению, как бы «наперекор уму»; Тютчева же он обоснованно причисляет «к творческим натурам, у которых при первом взгляде на предмет ярко загорается мысль и выступает на первый план или непосредственно на второй, сливаясь с чувством или отодвигая его в глубину перспективы». Однако тютчевская поэтическая мысль, поясняет целым рядом ее примеров Фет (из стихотворений «Как над горячею золой…»; «Осенний вечер»; «В небе тают облака…» и др.), ничего общего не имеет с мыслью утилитарно-житейской или в прямом смысле слова философской, т. е. умозрительно-абстрактной. Это — «живая мысль», свойственная стихотворениям Тютчева потому, что «нет поэтического созерцания без поэтической мысли». Тютчевская поэтическая мысль, в унисон с Фетом подчеркивал и Тургенев, «никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им, и сама его проникает нераздельно и неразрывно». Согласно глубокому замечанию автора замечательных «Писем о Тютчеве» Б. М. Козырева, лирика Тютчева «есть орган не ума, а мудрости; задача ее — свидетельствовать, а не рассуждать» (см.: Федор Иванович Тютчев. «Литературное наследство». Книга первая. М.: Наука, 1988. С. 116).
В датируемом началом 1850-х годов стихотворении «Поэзия», имеющем программный характер, Тютчев так постулирует общественное назначение высокохудожественной лирики, в том числе, конечно, и собственной:
Среди громов, среди огней, Среди клокочущих страстей,.
В стихийном, пламенном раздоре,.
Она с небес слетает к нам —.
Небесная к земным сынам, С лазурной ясностью во взоре —.
И на бунтующее море Льет примирительный елей (курсив мой. — В.//.).
«Примирение», от которого поэт образует эпитет «примирительный», здесь ничего общего не имеет с конформизмом художника или его безразличием к социальной несправедливости и людским страданиям. И тому и другому Тютчев как раз совершенно чужд. Противник революций, видящий в них лишь начало разрушения, убежденный монархист, он вместе с тем нравственно не мирился ни с крепостным правом, ни с деспотизмом российского «самовластья», развращающего подданных (так он характеризует его в стихотворении «14 декабря 1825»), ни с эгоистической беспечностью петербургского высшего общества, ни с традиционным для российской внутренней политики «подавлением мысли». «В России канцелярия и казармы», «все движется около кнута и чина», — саркастически обобщает он, в частности, свои впечатления от последних лет царствования Александра I. А в год смерти Николая I пишет ему такую эпитафию-эпиграмму: «Не Богу ты служил и не России, / Служил лишь суете своей, / И все дела твои, и добрые и злые, — / Все было ложь в тебе, все призраки пустые: / Ты был не царь, а лицедей». Тютчеву же принадлежит один из самых сострадательных в русской классической поэзии стихотворных откликов на человеческое горе:
Слезы людские, о слезы людские, Льетесь вы ранней и поздней порой…
Льетесь безвестные, льетесь незримые, Неистощимые, неисчислимые, —.
Льетесь, как льются струи дождевые В осень глухую, порою ночной.
Примиряющее чувство, которое, по Тютчеву, дарует человеку поэзия (подлинное искусство в целом), порождается эстетическим идеалом поэта (художника), одухотворяющим любое из его созданий. Ведь, как мы помним из предшествующей лекции, этот идеал «есть гармония» (Л. Толстой). В совершенном художественном произведении она реализуется уже органичным единством его формы и смысла, отдельных частей и целого (в произведении стихотворном еще и мерностью речи, замкнутой рифмовкой и строфикой). И гармонизирующе воздействует на воспринимающего это произведение читателя (зрителя, слушателя) даже в том случае, когда его конкретное настроение вызвано, как в процитированном стихотворении о «слезах людских», и самым дисгармоничным состоянием автора и окружающей его жизни.
Своеобразие поэтического мира Тютчева определено тем, что в нем на равных правах сошлись и желанная художником гармония, и наличный «пламенный раздор». В этом его отличие от поэзии фетовской, сознательно уходившей, в интересах гармонических впечатлений, даже от душевного «страданья» («Когда, бесчинствами обиженный опять, / В груди заслышишь зов к рыданью, — / Я ради мук твоих не стану изменять / Свободы вечному призванью», — декларировал поэт, например, в стихотворении «Муза», написанном 8 мая 1887 года), хотя им все равно полны, в частности, покаянные стихи Фета, вызванные памятью о его решении расстаться (жертвуя в себе человеком) с Марией Лазич.
Здесь же и особенная созвучность тютчевской лирики эпохе всероссийского кризиса 1840—1860-х годов. Впрочем, для Тютчева современный ему жизненный «раздор» не замыкался ни одной Россией, ни указанным тридцатилетием. Вся Европа воспринималась им переживающей «минуты роковые» уже с начала 1820-х годов, когда, по словам Пушкина (из десятой главы «Евгения Онегина»), «Тряслися грозно Пиренеи, / Волкан Неаполя пылал, / Безрукий князь друзьям Морей / Из Кишинева уж мигал», т. е. когда произошли революции в Испании, Неаполе и началось Греческое национально-освободительное восстание под руководством Александра Ипсиланти (он потерял руку в сражении 1813 года под Дрезденом). А также — и российское восстание декабристов, получившее у Тютчева двойственную оценку. По существу глубоко кризисным для европейцев Тютчев считает все девятнадцатое столетие, в котором, по его словам,.
…мир осиротелый Неотразимый Рок настиг —.
И мы, в борьбе, с природой целой Покинуты на нас самих;
И наша жизнь стоит пред нами, Как призрак на краю земли, И с нашим веком и друзьями Бледнеет в сумрачной дали…
(«Бессонница». Курсив мой. — В.//.).
Отсюда и тютчевское именование своего времени (и в «Бессоннице» и в заглавии стихотворения от 10 июня 1851 года) «нашим веком». И — солидарность с Тютчевым такого проницательного наблюдателя эпохи всероссийского кризиса, как Ф. Достоевский, в свой черед расширившего ее (устами героя «Записок из подполья») до «нашего несчастного девятнадцатого столетия».
Еше важнее другой момент. Принесенный текущим веком «стихийный, пламенный раздор» в поэзии Тютчева вовсе не исчерпывается социально-политическими (международными и внутренними) коллизиями. В первую очередь это раздор-столкновение стихий бытийных — духовно-душевных и природно-космических, а также человека и мироздания. При этом раздорят они не столько вне лирического героя Тютчева, лишь созерцающего и сопереживающего этот процесс, сколько в его внутреннем мире, становящемся по этой причине средоточием «как бы двойного бытия».
Данное образное понятие мы встречаем в двух первых строфах (из общих трех) следующего обращения поэта к своим душе и сердцу:
О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги, О, как ты бьешься на пороге Как бы двойного бытия.
Так, ты — жилица двух миров,.
Твой день — болезненный и страстный, Твой сон — пророчески-неясный, Как откровение духов… (Курсив мой. — В.Н.).
Но в близких ему формулах «двойное бытие» присутствует и в более ранних стихах Тютчева — таковы «двойная бездна» в «Лебеде» и «две беспредельности» из «Сна на море» («Две беспредельности были во мне, / И мной своевольно играли оне»). На некую двойственность порой указывают даже названия тютчевских стихотворений: «Два голоса», «Два единства», «Две силы есть — две роковые силы…». Не случаен, думается, и такой факт: запечатлевшее названный образ стихотворение «О вещая душа моя!..» — одно из немногих, под которым стоит точная дата самого поэта, обычно к хронологии своих произведений равнодушного. И это — 1855 год, т. е. и средина творческого пути Тютчева, и начало шестидесятых годов в России, когда охвативший страну системный кризис превратит ее поистине в «бушующее море». Все это позволяет признать понятие (концепт) «двойного бытия» в тютчевской лирике одним из ключевых.
Действительно: поэтический мир Тютчева объединен (в отличие от фетовского или пушкинского) сущностями и устремлениями не однородными и согласными, а, напротив, полярно разными, восходящими к противоположным мировым началам. Остановимся на важнейших из них.
Вот первая их пара в стихотворении «Наш век» (нап. 10 июня 1851 г.), характеризующем духовное состояние и всего кризисного столетия, и его настоящих «дней»:
Не плоть, а дух растлился в наши дни, И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени И свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен, Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он, И жаждет веры — но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой, Как ни скорбит перед замкнутой дверью;
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..
(Курсив, кроме слов «не просит», мой. — В.Н.).
Как важнейшая черта эпохи зафиксирован глубочайший кризис традиционного религиозного сознания и чувства. Но это не «безверие» из одноименного стихотворения А. Пушкина 1817 года, когда «Ум ищет божества, а сердце не находит». Душа, сердце и ум тютчевского героя одновременно и хотят уверовать и отвергают Бога, находясь в так называемом антиномическом противоречии, при котором каждая из его частей не побеждает другую или соединяется с нею в высшем синтезе, а лишь сменяется ею и тут же возвращается вспять. Среди героев других русских авторов 1860-х годов такое противоречие свойственно прежде всего главному лицу романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» накануне задуманного им деяния. А в отношении к религии было некоторое время присуще и самому Достоевскому, свидетельствовавшему в письме 1854 года к Н. Д. Фонвизиной: «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне эта жажда верить, которая тем сильней в душе моей, чем более во мне доводов противных».
Другая крупномасштабная поэтическая двоица Тютчева образована разноречием Хаоса и Космоса, обретающим параллели в противоречивых же единствах Ночи нДня, Сна и Яви. Названные природно-космические и человеческие сущности организуют стихи «О чем ты веешь, ветр ночной?..», «Как сладко дремлет сад темнозеленый…», «Как океан объемлет шар земной…», «День и ночь», «Еще шумел веселый день…», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Как птичка, раннею зарей…» и др.
Уступая место друг другу то в разных стихотворениях, то в пределах одного, поименованные стихии порой получают у Тютчева прямо противоположную оценку. Так, в «Дне и ночи» день — есть «блистательный покров», наброшенный на страшный ночной «мир таинственный духов» «высокой волею богов»; он — «…земнородных оживленье, / Души болящей исцеленье, / Друг человеков и богов!». Но в стихотворении «Как птичка, раннею зарей…» поэту, напротив, «пронзительны» и «ненавистны» «Сей шум, движенье, говор, крики / Младого пламенного дня!..», и он взывает уже к ночи: «О ночь, ночь, где твои покровы, / Твой тихий сумрак и роса…». Самый Хаос с его «страхами и мглами», в одном случае только пугая и отталкивая поэта («День и ночь»), в другом может быть назван им и «родимым» человеку («О чем ты веешь ветр ночной?..»). Главной причиной таких перемен является, однако, не непоследовательность Тютчева или минутные прихоти его настроений, а тот «катастрофический характер» (Б. Козырев) его мировосприятия, при котором основные начала поэтической тютчевской вселенной, и поменявшись воздействием на лирического героя, остаются в ней на равных правах и в сущности при всем их несходстве неразлучными.
Таковы здесь Земля и Небо, Север и Юг, Дол и Высь, Суша и Вода, человеческая красота и ее быстротечность.
Сравним два стихотворения:
Над виноградными холмами Плывут златые облака.
Внизу зелеными волнами Шумит померкшая река.
Взор постепенно из долины, Подъемлясь, всходит к высотам И видит на краю вершины Круглообразный светлый храм.
Там, в горнем неземном жилище, Где смертной жизни места нет,.
И легче и пустынно-чище Струя воздушная течет.
Нет, моего к тебе пристрастья Я скрьггь не в силах, мать-3емля Духов бесплотных сладострастья, Твой верный сын, нс жажду я.
Что пред тобой утеха рая,.
Пора любви, пора весны, Цветущее блаженство мая, Румяный свет, златые сны?..
Весь день, в бездействии глубоком, Весенний, теплый воздух пить, На небе чистом и высоком Порою облака следить;
Туда взлетая, звук немеет, Лишь жизнь природы там слышна И нечто праздничное веет, Как дней воскресных тишина.
Бродить без дела и без цели И ненароком на лету Набресть на свежий дух синели Или на светлую мечту…
(Начало 30-х гг.) (Курсив мой. — В.Н.). (Курсив мой. — В.Н.).
Стихотворения одинаково построены (оба из двух октав), написаны одним размером (четырехстопный ямб), сходны ритмом и интонацией. Но взор лирического героя в первом обращен от земного дола к небесной выси как обители венных природно-космических начал (солнца, воздуха) и бессмертного Богочеловека, образ которого возникает по ассоциации с праздником Его Воскресения. Напротив, в стихотворении втором его герой от небесных «бесплотных духов» с их райскими усладами устремлен к Зелие, дарующей ему преходящие и все же несравненно более дорогие для него радости любви и очарования расцветающей весны.
Итак, в каждом из стихотворений в качестве желанной для человека сферы утверждается будто бы одно: либо Небо, либо Земля. Но так ли это? Разве апология Неба в первом стихотворении помешала его герою насладиться зрелищем и «виноградных холмов» с плывущими над ними «златыми облаками», и шумящей «зелеными волнами» реки, да и той долины, где он созерцает их? А ведь этим, совершенно земным «предметам» посвящена фактически вся начальная строфа произведения. И точно также в стихотворении с признанием лирического героя в страстной любви к «материЗемле» он в другом восьмистишии (здесь — последнем) воспевает явления в сущности небесные: «весенний, теплый воздух», самое «небо чистое и высокое», с облаками на нем, наконец, навеянную ими собственную «светлую мечту».
Вслед за стихиями Неверия и Веры, Хаоса и Космоса, Земля и Небо в поэтическом мире Тютчева, таким образом, существуют тоже не обособленно и порознь, а вместе и в единстве, хотя и сложном, — единстве противоречия-разлада. В известной степени сохраняется оно и в образной паре Север — Юг, большей частью принимающей у Тютчева вид уже прямой антитезы. Вот две картины Севера в стихотворениях, разделенных почти тремя десятилетиями:
Здесь, где так вяло свод небесный На землю тощую глядит, —.
Здесь, погрузившись в сон железный, Усталая природа спит…
Лишь кой-где бледные березы, Кустарник мелкий, мох седой, Как лихорадочные грезы, Смушают мертвенный покой.
(1830)
Родной ландшафт… Под дымчатым навесом Огромной тучи снеговой Синеет даль — с ее угрюмым лесом, Окутанным осенней мглой…
Все голо так — и пусто-необъятно В однообразии немом…
Местами лишь просвечивают пятна Стоячих вод, покрытых первым льдом.
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —.
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе, В каком-то забытьи изнеможенья, Здесь человек лишь снится сам себе.
октября 1859 г.
А вот образ Юга, например, из стихотворения «Вновь твои я вижу очи…» ():
Лавров стройных колыханье Зыблст воздух голубой, Моря тихое дыханье Провевает летний зной, Целый день на солнце зреет Золотистый виноград.
Баснословной былью веет Из-под мраморных аркад…
Сводом легким и прекрасным Светит небо надо мной.
Снова жадными очами Свет живительный я пью И под чистыми лучами Край волшебный узнаю ().
Явная контрастность третьей картины двум первым, как и художественных средств их создания, думается, очевидна без всяких комментариев.
Намного сложнее, однако, Север и Юг сопоставлены Тютчевым в стихотворении «Глядел я, стоя над Невою…», написанном 21 ноября 1844 года, т. е. по возвращении поэта после 22 лет пребывания в Европе в Россию. Здесь также есть контраст, но относительно частный: между белеющей «в мертвенном покое оледенелой рекой» (Невой) и пламенеющем на солнце «роскошным Генуи заливом». В последнем катрене зафиксировано и желание поэта, чтобы «мимолетный дух» его унес «скорее на теплый Юг». Но главный символ Севера, с которого начинается его образ, тут совсем иной, чем «бледные березы» или «огромная туча снеговая». Это «Исаак-великан» (Исакиевский собор в Петербурге), с его «куполом золотым», который светится (несет духовный свет) и «во мгле морозного тумана». В контексте этого символа вполне естественна следующая четвертая строфа произведения (из общих пяти):
О Север, Сеъер-чародейу Илья тобою околдован?
Илье самом деле я прикован К гранитной полосе твоей? (Курсив мой. — В.Н.).
Не чуждая наряду с сомнением автора в благодатности для него российского Севера и некоторого дифирамба ему, она тем самым совмещает этот Север в душе поэта с «теплым Югом» как второй мир в его «двойном бытии».
Ряд тютчевских стихотворений возникает как равно временное переживание полноты и красоты какого-то жизненного момента и его недолговечности или непрочности. Примером их могут служить «Сижу задумчив и один…», «Как дымный столп светлеет в вышине!..», но более всего знаменитое «Я помню время золотое…», обращенное к баронессе Амалии Крюдснер, которой поэт был увлечен в первые годы его пребывания в Баварии.
Стихотворение начинается гармоничным мажорным катреном («Я помню время золотое, / Я помню сердцу милый край. День вечерел; мы были двое; / Внизу, в тени, шумел Дунай»), воссоздающим атмосферу безоблачной молодости и взаимной сердечной симпатии, как будто умножаемой весенней природой вокруг участников свидания. Но уже в последних строках второй строфы — «Стояла ты, младая фея, / На мшистый опершись гранит» — возникает первый диссонанс. Ведь гранит, попираемый веселой красавицей, — это обломок руины «вековой», давно погибшего замка. Героиня стихотворения стоит на своеобразной могиле, о чем нс догадывается («Ты беззаботно в даль глядела…»). Между тем уже «Край неба дымно гас в лучах; / День догорал, звучнее пела / Река в померкших берегах»; словом, начальный диссонанс, усиливаясь, все больше сопрягается с жизнерадостным настроем первой строфы произведения. Что в его финале и фиксирует поэт:
И ты с веселостью беспечной Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень (курсив во всех цитатах мой. — В.Н.).
Не одним, а двойным итогом отмечено взаимоотношение лирического героя Тютчева с природой как частью (метонимией) мироздания.
Касаясь во вступительной лекции к данному курсу проблемы «человек — природа», мы отмечали такую же ее актуальность для русской литературы 1840—1860-х годов, как и поиск условий гармонической любви и семьи, основ чаемой «социальной гармонии» (Ф. Достоевский) и нового по сравнению с сословно-патриархальными людьми единения россиянина с Богом. Если его индивидуальное обособление от патриархальных норм и скреп обесценивало для него и прежнюю связь с природой, то формирование его в личность, напротив, побуждало настойчиво желать глубокого союза не только со своей нацией, человечеством, но и с безграничной природой.
Из ранее рассмотренных русских художников слова такая потребность в высшей степени отличает героев И. Тургенева и А. Фета. Пусть в разной степени, но оба эти автора вместе с тем обнажили и объективный драматизм ее итогов. У Тургенева он уходит корнями в изначальную «несоразмерность» человека и мироздания как явления конечного и смертного с — бесконечным и вечным. Ментально близким автору «Поездки в Полесье», прозаического стихотворения «Природа» героям остается лишь горько сетовать на это «коренное противоречие» их существования и на «равнодушие» к ним природного мира, лишь в редкие мгновения «ласково и величаво» принимающего их «в свое лоно» («Переписка»). Лирический герой Фета не просто сближен, но в своем душевном состоянии взаимно проникнут с природно-звездной стихией и обогащен ею. Однако достигает этого немалой ценой, так как предварительно жертвует своим этическим началом началу эстетическому.
Не согласием на каком-то условии, а безусловным разладом отношение природы (мироздания) и личности предстает у Тютчева. Например, в этом стихотворении от 11 мая 1865 года:
Певучесть есть в морских волнах,.
Гармония в стихийных спорах, И стройный мусикийский шорох Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,.
Созвучье полное в природе, —.
Лишь в нашей призрачной свободе Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре Душа поет не то, что море,
И ропщет мысгящий тростник?
И от земли до крайних звезд Все безответен и поныне Глас вопиющего в пустыне,.
Души отчаянный протест? (Курсив мой. — В.Н.).
Глубина изображенной несовместимости подчеркнута резким контрастом между величавостью согласного бытия природы (запечатленного, в частности, звуковой симфонией ассонансов и аллитераций) и смятением погруженного в безответные вопросы, одинокого в мироздании человека. Но каков же выход из нее?
Быть может, он в человеческом примирении с неизбежностью смерти, которое предлагает стихотворение «От жизни той, что бушевала здесь…», созданное Тютчевым за два года до кончины? Вечной природе, говорит здесь поэт, «чужды призрачные годы» людей, и она уже поэтому «равно приветствует» их «всепоглощающей и миротворной бездной». Причина несовместимости человека с природой понята тут, таким образом, по-тургеневски, что и не позволяет считать ее у Тютчева главной.
В большинстве тютчевских стихотворений на тему названного разлада он разрешается, как было сказано, опять-таки двойственно: лирический герой поэта мог одновременно и желать растворения своей индивидуальности в бесконечной природе (мироздании) и таким способом слияния с нею, и утверждать человеческую индивидуальность (личность) как явление самоценное и самодостаточное, одно из великих созданий всемирной истории.
Тенденция первая нашла наиболее прямое воплощение в стихотворениях «О чем ты воешь, ветр ночной…», «Тени сизые смесились…», «Весна» (Как ни гнетет рука судьбины…), «Смотри, как на ночном просторе…», где выразилась в афористических строках «Из смертной рвется он („мир души ночной“. — В.Н.) груди, / Он с беспредельным жаждет слиться!..»; «И жизни божеско-всемирной / Хотя на миг причастен будь!», «Все во мне, и я во всем»; «Дай вкусить уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!», а также в сравнении человеческого удела с участью речных льдин, неудержимо плывущих «во всеобъемлющее море», чтобы растаять в нем. «О нашей мысли обольщенье, / Ты, человеческое Я, / Не таково ль твое значенье, / Не такова ль твоя судьба?», — заканчивает это сравнение поэт.
Тенденция вторая ощутима в стихотворении, посвященном памяти И. В. Гете («На древе человечества высоком…»), где о великом немецком поэте сказано, что он «Пророчески беседовал с грозою / Иль весело с зефирами играл» и даже ушел из мира своей, а не внешней волей: «Не поздний вихрь, не бурный летний ливень / Тебя сорвал с родимого сучка: / Был многих краше, многих долголетней, И сам собою пал, как из венка!». Главенствует она и в стихах «Нет, моего к тебе пристрастья…», «Странник», «Живым сочувствием привета…», «Колумб», «Одним достался от природы…», «Silentium!», «Как он любил родные ели…», «Памяти В. А. Жуковского».
Наконец, обе тенденции нашли, на наш взгляд, совместное отражение в заключительной строфе процитированного ранее стихотворения «Певучесть есть в морских волнах…». В своих интереснейших «Письмах о Тютчеве» Б. Козырев увидел в ее последних строках («Глас вопиющего в пустыне, / Души отчаянный протест?») «протест против законов природы, против неизбежной смертности человека, против жестокой мудрости Анаксимандра» (т.е. древнегреческого философа, учившего о безликом и бесформенном Первоначале всего сущего во Вселенной и на Земле и неминуемом возмездии человеку за свое индивидуальное обособление из него). Толкование это вполне правомерно и подтверждается словом «ропщет» из предыдущей стихотворной строки («И ропщет мыслящий тростник?»), употребленном Тютчевым и в «Нашем веке», где поэт говорит о неспособности его современника уверовать. Но современник этот, как мы помним, в тот же момент «и жаждет веры». Так и в стихотворении «Певучесть есть…» ропотпротест отчаянной человеческой души может быть се протестом и против своего сиротства в мироздании.
Сиротство русского «современного человека» — один важнейших мотивов всей отечественной литературы обозреваемого периода. Оно могло предстать скитальчеством, жизненным (у Владимира Бельтова, Дмитрия Рудина) и духовно-нравственным (у «русских скитальцев» Ф. Достоевского), или одиночеством — как среди природы (у героя тургеневской «Поездки в Полесье»), так и в обезбоженной Вселенной, какой ее видит неверующий герой Достоевского.
В поэтическом мире Тютчева данный мотив, звучащий и в «Бессоннице» (написана) и в стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла…» (нап.), устойчив не меньше, чем у творца «Братьев Карамазовых», и равно относится к целому человеческому миру («Нам мнится: мир осиротелый / Неотразимый Рок настиг…») и к отдельному человеку («И человек, как сирота бездомный, / Стоит теперь, и немощен и гол…»). И хотя в обоих стихотворениях он непосредственно связан с ночным состоянием лирического героя, есть все основания считать его таким же лейтмотивом всей тютчевской поэзии, как и понятие «двойного бытия».
Несомненна и объективно-историческая предпосылка мотива сиротства у Тютчева. Это само кризисное тридцатилетие России, в особенности 1860-е годы, потрясшие традиционные сословнопатриархальные скрепы и религиозно-нравственные нормы россиян, вынуждая их отыскивать чаемые новые единолично и без всякого примера в прошлом. Или, говоря словами Тютчева, в ситуации, когда человеку, решающему эту сложнейшую задачу, «нет извне опоры, ни предела» и «на самого себя покинут он». То есть в положении, в глазах поэта, не просто драматическом, а трагическом, что подтверждает и увязка его с «неотразимым Роком». Но не станем записывать Тютчева на этом основании в унылые пессимисты.
Та же сверхчеловеческая сила действует и в стихотворении «Цицерон», созданном, полагают специалисты, в одно время с «Бессонницей», откуда мы взяли последнюю цитату. В нем воссоздана в свой черед острокризисная ситуация целой страны, здесь — античного Рима, охваченного «бурями гражданскими и тревогой». Знаменитый римский оратор, именем которого стихотворение озаглавлено, даже говорит о «ночи Рима». Но совсем иной поэтический вывод делает из нее сам Тютчев:
Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие Как собеседника на пир.
Он их высоких зрслиш зритель, Он в их совет допущен был —.
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил! (Курсив мой. — В.Н.).
Человеческая личность в эти «минуты» равновелика, по Тютчеву, самим античным богам, на равных участвует в их миродержавном.
совете и способна обретать их бессмертье. Все это, очевидно, оттого, что в такие исторические периоды ей не только дано страдать от одиночества, но и открыта возможность, подобно художнику, творить самое себя и весь окружающий ее общественный мир.
Обрисованный взгляд Тютчева на современную ему переходную эпоху придает его художественному миросозерцанию одновременно с трагизмом и мудрую мужественность, тем самым и жизнеутверждающий конечный эффект. В отличие от фетовского, оно лирически охватывает действительность в совокупности природно-космической и социально-практической ее сторон, делаясь в этом отношении сомасштабным творческим мировосприятиям Ф. Достоевского и Л. Толстого и предсказывая поэтическое миропонимание А. Блока, считавшего трагическое воззрение наиболее адекватным глубинной правде человеческого бытия, что ничуть не мешало автору «Двенадцати» обратиться к нему с мажорноторжественным «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! / И приветствую звоном щита!».
* * *.
Природа, нередко являющаяся у Тютчева метонимией Вселенной, все же намного чаще воспринимается им в ее собственных, земных, пределах. В этих случаях происходит ее особое поэтическое открытие, не менее оригинальное и глубокое, чем в «пейзажах» Фета.
Общий его смысл запечатлен Тютчевым в следующей начальной строфе знаменитой поэтической декларации, совместившей в себе дифирамб природе с инвективой по адресу ее, в глазах поэта, слепых и глухих толкователей — последователей философа -рационалиста Р. Декарта и материалистов Б. Спинозы, П. Г. Гольбаха:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —.
В ней есть душа, в ней есть свобода,.
В ней есть любовь, в ней есть язык… (Курсив мой. — В.Н.).
В то время как для них, говорит поэт, «и солнцы, знать, не дышат / И жизни нет в морских волнах», «Весна в груди их не цвела, / При них леса не говорили / И ночь в звездах нема была!», и «…языками неземными, Волнуя реки и леса, / В ночи не совещалась с ними / В беседе дружеской гроза!», — самому Тютчеву открыта, внятна и созвучна не внешняя, а именно эта, по его собственному слову, сокровенная, жизнь природы. И не важно, будут ли то ее общие и крупные стихии Весны, Леты, Осени, Зимы, Моря, Реки, Леса [как в стихотворениях «Весна» (примерно 1821—1822 года) и «Весна» (), а также в стихах «Сияет солнце, воды блещут…», «Есть в осени первоначальной…», «Зима недаром злится…», «Конь морской», «В небе тают облака», «Чародейкою Зимою…"] или, напротив, — отдельные и недолгие явления и состояния, как в стихах «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Первый лист», «Неохотно и несмело…», «Летний вечер», «Полдень», «Как весел грохот летних бурь…», «Тихой ночью, поздним летом…», «Что ты клонишь над водами…», «Осенний вечер», «Зима недаром хтится…».
В целом поэтическая концепция природы определена у Тютчева двумя началами: разделяемой им натурфилософией Ф. В. Шеллинга, видевшего в природе целостный организм с бессознательнодуховной творческой способностью и динамическим единством противоположностей, и собственным мифотворчеством поэта.
«Все полно богов», — утверждал, имея в виду окружающий человека природный мир, родоначальник античной философии древнегреческий мыслитель Фалес. По основательному мнению Б. Козырева, именно фалесовским безымянным («философическим») богам, а не персонажам народной греческой мифологии (Зевсу, Киприде, Гебе, Афине, Аполлону и другим Олимпийцам) у Тютчева подобны «вёсны, снежные горы, звезды, месяц», а также, продолжим перечень ученого, Река, Лес, Море, Зима, даже летние и вечерние Вечера, Полдни, Ветры (в частности, «ветр ночной» или «биза» из стихотворения «Утихла биза… Легче дышит…») Грозы и Дожди. Показательный факт: в автографах тютчевских стихов самые слова «Земля», «Небо», «Весна», «Зима», «Солнце», «Град» написаны, как и действительно мифический «Рок», с заглавной буквы.
«В мифологическом космосе Тютчева, — говорит С. М. Телегин, — природа — мать; она — „храм всех богов“ (пантеон), и „книгу Матери-природы“ древние народы читали свободно („А.Н. Муравьеву“)… Торжество природы — это веселый пир жизни, вечное веселье, любовь, свобода и красота („Весеннее приветствие стихотворцам“)…» (Телегин С.М. Ф. И. Тютчев и мифология. — Ф. И. Тютчев. Школьный энциклопедический словарь. М.: Просвещение, 2004. С. 228). Стихотворение «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины…») — «подлинно мифологическое произведение. Весна здесь персонифицируется, превращается в богиню, взор которой сияет бессмертием, а на совершенном лице нет ни морщинки, она, «как подобает божествам», блаженно-равно;
душна, светла и послушна лишь собственным надчеловеческим законам" (там же. С. 229).
Означает ли тютчевская мифологизация природы, что автор «Весенних вод» просто заимствовал ее восприятие у древних людей или сам был неким «архаическим эллином» (А. Белый)? Нет, Тютчев оставался в полной мере человеком девятнадцатого столетия, и речь может идти лишь о внутренней близости творческой интуиции поэта с мироощущением античного человека. В своей основе она связана «с глубокой тютчевской верой в одухотворенность природы, с анимистическим восприятием ее, как живой и внутренне-сложной» (Б. Козырев). А также со стремлением поэта вернуть своим современникам и потомкам утраченное ими чувство родства с природой и благотворный для них результат единения с нею.
Именно живой тютчевская природа предстает даже в этой, как бы снятой «с натуры» картине летней грозы, с точной временной пометой ее прихода — «6июня 1849 г.»:
Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,.
Принахмурилась земля.
Ветра теплого порывы, Дальний гром и дождь порой…
Зеленеющие нивы Зеленее под грозой.
Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя —.
Пламень белый и летучий Окаймил ее края.
Чаше капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей И раскаты громовые Все сердитей и смелей.
Солнце раз еше взглянуло Исподлобья на поля, И в сиянье потонуло Вся смятенная земля.
Здесь каждый жест солнца, тучи и земли человекоподобен, а сама Гроза, которую так и хочется написать как имя собственное, с большой буквы, олицетворена и напоминает добродушно играющего богатыря. В своеобразный игровой поединок превращается столкновение уходящей зимы и грядущей весны в стихотворении «Зима недаром злится…». Напротив, божественной величавостью впечатляет река («В небе тают облака…»), что свободно течет и искрится под солнцем в момент ее созерцания поэтом (2 августа 1868 г.) и будет, восхищенно сознает он, также искриться и течь спустя многие века.
Жизнь природы у Тютчева многообразна не меньше человеческой. Тютчевская природа, констатирует известная исследовательница поэта, «„дышит“: „Лениво дышит полдень мглистый“. Ночью она „спит“ или „дремлет“: „Как сладко дремлет сад темнозеленый…“. Природа „трепещет“ от прикосновения вечернего холода: „И сладкий трепет, как струя, По жилам пробежал природы“. Она в любовной „неге“: „Наш дольний мир, лишенный сил, / Проникнут негой благовонной, / Во мгле полуденной почил…“. Осенняя природа полна скрытого страдания, будто на ее устах „кроткая улыбка увяданья“. У природы есть свой язык: ночью в саду „говорит“ ключ, ветер в бурю „поет“ страшные песни, весенние воды „гласят“. Явления природы имеют свои характеры, входят в конфликты с другими ее персонажами: трепетная, неудовлетворенная ива ловит жадными устами беглую водную струю, а та „смеется“ над ней, убегая. Ночь — „как зверь стоокий“, Восток покрывается по ночам „холодной, сизой чешуей“, как животное с холодной кровью. Неживое оборачивается живым, принимает разные облики» (Касаткина В.Н. Тютчев. — Русские писатели XIX века. Биографический словарь. М.: Просвещение, 2007.
С. 499).
Величайшей ценностью жизни и поэтического мира Тютчева наряду с природой была любовь. Здесь Тютчев опять-таки человек своей эпохи в той же мере, как и А. Фет, Н. Некрасов, И. Гончаров, И. Тургенев, Л. Толстой, Ф. Достоевский, герои которых, не довольствуясь ни традиционными литературными (сентиментальным, романтическим) идеалами этого чувства, ни его патриархальными житейскими нормами, открывали для себя любовь с ее огромной притягательностью для личностно развитого «современного человека», однако и с присущим ей теперь внутренним драматизмом заново и по-новому.
Шедеврами любовной лирики Тютчева были стихотворения, обращенные к баронессе Аматии Крюденер, — «Я помню время золотое…» и «Я встретил вас — и все былое…», а также — посвященные памяти первой жены, Элеоноры Тютчевой («Еще томлюсь тоской желаний…»; «В часы, когда бывает…») и навеянные встречами с баронессой Эрнестиной Дернберг, («1 декабря 1837» и — «С какою негою, с какой тоской влюбленный…»), впоследствии второй женой поэта, ставшей адресатом или героиней стихов «Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…»; «Все отнял у меня казнящий бог…».
Но главным и крупнейшим явлением тютчевской поэзии любви стал цикл стихотворений, вызванный страстным увлечением сорокасемилетнего поэта Еленой Александровной Денисьевой, ответившей ему глубочайшей и самоотверженной взаимностью. Это своеобразный исповедально-психологический роман, конгениальный поэтическому циклу А. Фета о его несостоявшемся счастье с Марией Лазич и любовному циклу Н. Некрасова, отразившему сложные отношения его автора с Авдотьей Яковлевной Панаевой.
«Денисьевский» цикл составили следующие стихотворения, созданные с начала 1850-х по 1868 годы: «Как ни дышит полдень знойный…», «О, как убийственно мы любим…», «Не раз ты слышала признанье…», «Предопределение», «Не говори: меня он, как и прежде, любит…», «Чему молилась ты с любовью…», «Я очи знал, — о, эти очи!..», «Близнецы», «Сияетсолнце, воды блещут…», «Последняя любовь», «О, как на склоне наших дней…», «Пламя рдеет, пламя пышет…», «Утихла биза… Легче дышит…», «О, этот Юг, о, эта Ницца!..», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», «Сегодня, друг, пятнадцать дней минуло…», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.», «Нет дня, чтобы душа не ныла…», «Опять стою я над Невою…».
Именно в «денисьевском» цикле нашла свое воплощение тютчевская концепция любви. Ее общий смысл и тон — в трагической обреченности двух любящих сердец вместо чаемой ими гармонии на неизбежное взаимоборство и нераздельное с минутами счастья страдание.
В таком представлении о любви, значительно углублявшем ее фетовский и некрасовский драматизм, сказались, конечно, и крайне неблагоприятные для Тютчева и Денисьевой внешние обстоятельства их связи. Узнавшая поэта в бытность воспитанницей Смольного института («Воспитательного общества благородных девиц», располагавшегося в Смольном монастыре Петербурга), Елена Александровна была на 23 года моложе его, человека не только женатого и многодетного, но и душевно привязанного к своей второй супруге. Между тем за 14 лет их близости Денисьева родила Тютчеву троих детей и перед Богом считала себя состоящей в законном браке, что совершенно расходилось с «моралью» светского общества, преследовавшего Елену Александровну клеветой (ее «неравному бою» с «Судом людским» поэт посвятит стихотворение «Две силы есть — две роковые силы…»). Не всегда должным образом сознавал тяжелое положение и угнетенное душевное состояние Денисьевой и сам поэт. «Сколько раз, — признается он в связи с ее смертью от чахотки 4 августа 1864 года А. И Георгиевскому, — говорила она, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния… Я слушал — и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы — и на все ее вопли и стоны — отвечал ей этою глупою фразой: „Ты хочешь невозможного…“».
И все же… Если на тютчевский любовный трагизм и повлияли жесткие внешние условия, сопровождавшие самую сильную и драматичную из пережитых поэтом сердечных симпатий, то первопричина его была все-таки не в них. Вот как равно афористично и обобщенно сформулирована она в знаменитом «Предопределении»:
Любовь, любовь — гласит преданье —.
Союз души с душой родной —.
Их съелинснье, сочетанье, И роковое их слиянье, И… поединок роковой…
И чем одно из них нежнее В борьбе неравной двух сердец, Тем неизбежней и вернее, Любя, страдая, грустно млея, Оно изноет наконец… (Курсив мой. — В.И.).
Ключевое слово этого десятистишия, заданное уже его названием, — рок (фатум, судьба). С его неотвратимостью души, жаждущие гармонического союза друг с другом, соединяются, и он же превращает этот союз в их фатальную борьбу между собою вплоть до возможной гибели одной из них. Непосредственно такой исход запечатлен в другом стихотворении того же времени со следующей начальной и завершающей строфой:
О, как убийственно ми любим.
Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим,.
Что сердцу нашему милей! (Курен в мой. — В.Н.).
И здесь произошедшая драма возведена к року, судьбе, центральными в стихотворении даже по их местоположению. «Ты помнишь ли, при нашей встрече, / При первой встрече роковой. / Ее волшебный взор, и речи, / И смех младенчески-живой?», — спрашивает себя лирический герой стихотворения и сам же отвечает себе: «Судьбы ужасным приговором / Твоя любовь для ней была, / И незаслуженным позором / На жизнь ее она легла!».
Не раздельностью, а неразделимым сочетанием таких, казалось бы, несовместных чувств, как даруемое любовью «блаженство» и — се же «безнадежность», «искренность и пламенность» одного из любящих и — «досада ревнивая» другого отмечены тютчевские стихотворения «Последняя любовь», «О, не тревожь меня укорой справедливой!..». Наконец, в стихотворении «Близнецы» как равнозначные и, подобно идентичным братьям и сестрам, неразлучные сущности соединены жизнетворная Любовь и отнимающее жизнь Самоубийство. Больше того, согласно поэту, И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней Ей предающего сердца…
Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни Своей неразрешимой тайной Обворожают нас они (курсив мой. — В.Н.).
Самоубийство и Любовь (так, с заглавной буквы, их пишет сам поэт) Тютчев воспринимает, вслед за Космосом и Хаосом, Днем и Ночью, стремлением к своему личностному самоутверждению во Вселенной и — своей же жаждой «вкусить уничтоженье» в Беспредельности, также не порознь и поочередно, а вместе и одновременно. Это означает, что и самая Любовь у Тютчева есть не однородное, а «двойное бытие».
Не такова ли, в самом деле, она в этом знаменитом «обращении» поэта к умершей подруге, написанном накануне первой годовщины со дня ее смерти:
Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею —.
Улетел последний отблеск дня…
Вот тот мир, где жили мы с тобою,.
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали, Завтра память рокового дня…
Ангел мой, где б души ни витали,.
Ангел мой, ты видишь ли меня? (Курсив мой. — В.Н.).
«Большая дорога», по которой бредет душевно осиротевший шестидесятидвухлетний поэт (лирический герой), — это его, еще недавно совместная с Е. А. Денисьевой, земная жизнь. Но как-то незаметно в уходящем дне она смыкается с миром внеземным, где обитают лишь человеческие души, а отныне — и чистая душа его возлюбленной. И посюсторонняя формула «друг мой милый» естественно переходит в призывно-запредельное «ангел мой». С повтором в каждой строфе исполненного надежды вопроса «ты видишь ли меня?», объединяющего и все произведение и равно присутствующие в сознании лирического героя разные миры — его и ее, конечный (смертный) и бесконечный (вечный). Ведь этот герой и в данном случае — «на пороге» между ними.
Любовный трагизм Тютчева, и напоминающий «трагическое значение любви» в творчестве И. Тургенева и преодолевающий горький тургеневский скепсис относительно ее «бессмертных» возможностей, таким образом, заключает в себе ту же мудрую мужественность, которой одушевлено целостное миросозерцание этого выдающегося представителя русской и мировой лирической поэзии.