Устная история в СССР и современной России
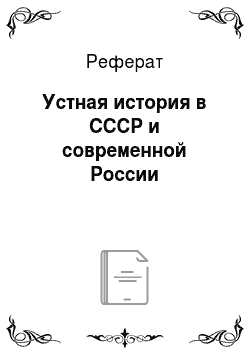
Отмеченный в этом рассказе феномен — стремление забыть, избавиться от памяти-травмы присутствует во многих трудах по устной истории. Люди начинают говорить о страшном, случившемся с ними, лишь по прошествии немалого времени. Память об этом остается на всю жизнь. В «Последних свидетелях» один из рассказчиков, в детстве переживший ужасы войны, говорил: «Я видел, как гнали через нашу деревню колонны… Читать ещё >
Устная история в СССР и современной России (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Возникновение устной истории произошло почти незаметно для советской историографии. Устная история появилась в нашей стране почти тогда же, когда и на Западе — в 70—80-х гг. XX в. Однако обстоятельства этого процесса существенно отличались. Если на Западе устная история возникла как самостоятельная отрасль историографии, то в СССР она стала частью литературного процесса.
Первыми устными историками у нас стали литераторы, посвятившие часть своего творчества сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Среди них такие авторы, как Сергей Смирнов, Даниил Гранин, Алесь Адамович, Светлана Алексиевич. Смирнов пытался восстановить правду о начальном этапе войны, в частности, о героической и трагической обороне Брестской крепости. Адамович, Я. Брыль и В. Колесник в книге «Я из огненной деревни…» обратились к трагедии Белоруссии, к трагедии тех, кто оказался в оккупации, и рассказали о страшной судьбе белорусской деревни Хатыни, жители которой были заживо сожжены захватчиками. По ее мотивам в середине 1980;х гг. Элем Климов снял фильм «Иди и смотри».
Гранин и Адамович «Блокадной книгой» пытались сохранить память о блокаде Ленинграда. Наконец, Алексиевич открыла, по существу, новый пласт памяти о войне, собрав в своей знаменитой книге «У войны не женское лицо» воспоминания женщин, сражавшихся и лечивших, оказавшихся на оккупированной территории, спасавших своих детей и чужих людей — бойцов. Это была во многом до того неизвестная женская память о войне. О последовательности и преемственности развития этого жанра Адамович писал так: «Хатынь — судьба деревни в тотальной войне — привела за собой в этот жанр литературный ленинградскую блокаду (судьбу города), вместе они открывали дорогу, прокладывали путь книге о женщине на войне, а эта, в свою очередь, воззвала к детской военной памяти. Что дальше, что впереди, если иметь в виду Отечественную войну? Действительно, последние свидетели? Если возраст имеется в виду или, как говорят в кино, „уходящая натура“, тогда, конечно, это так. Но у нового жанра столько скрытых возможностей, прорастаний в самом неожиданном направлении»[1].
Новый тип произведений о войне основывался на воспоминаниях о ней тех, кто ее пережил, и развивался параллельно с тем направлением литературы, которое было представлено сочинениями писателей-фронтовиков, таких как Виктор Некрасов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Виктор Астафьев.
Появление художественных произведений, основанных на устной истории, на рассказах живых свидетелей, было вызвано рядом факторов. Прежде всего, роль играл начавшийся естественный уход того поколения, которое вынесло всю тяжесть войны, в том числе, ее начального этапа. Как пишет известный российский социолог Л. Гудков, к настоящему времени «практически выпал, вытеснен из коллективной памяти (массового сознания) пласт переживаний будничной, беспросветной войны и послевоенного существования, подневольной работы, хронического голода и нищеты, принудительной скученности жизни. Они рассеялись так же, как память об искалеченных инвалидах (или, как их называли в послевоенное время, — «самоварах», человеческих обрубках на колесиках, бывших непременным атрибутом уличной суеты еще в первой половине 1950;х гг.). Эта жизнь оказалась тягостной и ненужной, как лишними были инвалиды в послевоенной жизни, брошенные на произвол судьбы (их стеснялись, от них отворачивались, с неприятным чувством вины и «безобразия жизни», их прятали, чтобы, не дай бог, они не попали в парадные официальные картинки мирной жизни).
От всего этого в общественной памяти остался лишь подсознательный страх, часто выражающийся как страх новой войны, мировой или гражданской, определивший собой дальнейший горизонт массовых оценок качества жизни, вялое сопротивление попыткам героизации всего, что выходит за рамки военной тематики, пассивность терпения — короче, все то, что в советское время выливалось в привычный вздох: «лишь бы не было войны». Но в качестве «коллективного бессознательного» эти компоненты массового сознания никуда уже не исчезают", хотя их значимость постепенно снижается[2].
Исследованиями социологов установлено, что на смену памяти о войне-трагедии пришло «предельно структурированное отношение к войне, воплощенное и закрепленное в главном символе, интегрирующем нацию: Победе в войне». Однако вытеснение памяти о войне как памяти-травмы произошло не вдруг, это был длительный процесс, протекавший параллельно с установлением официальной памяти о войне. Те писатели, которые в 70—80-х гг. стояли у истоков литературы воспоминаний о войне, остро ощутили его начало, почувствовали острую потребность сохранить память тех, кто были рядовыми участниками великой битвы и ее жертвами. Недаром книга Алексиевич, основанная на записях бесед с теми, кто рассказывал о своем военном детстве, называлась «Последние свидетели».
Длительное время сохранявшаяся память-травма лежала в основе этой литературы. Война была, пожалуй, единственной темой в трагической истории страны XX столетия, о которой было позволено говорить как о великой трагедии. В советском дискурсе ни Первая мировая война и Гражданская война, ни коллективизация и сталинские репрессии не могли конструироваться как настоящие трагедии. Первая мировая война, определявшаяся как «империалистическая», служила прологом к падению царизма, гражданская война в известной степени окрашивалась в романтические тона. Коллективизация и репрессии, если и содержали в себе известные ошибки и «перегибы», были частью курса, как бы сейчас сказали, на модернизацию и его инструментом. Понятно, что и дозволенная правда о трагической судьбе народа в Отечественной войне не была полной или бесцензурной. Однако, хотя бы в усеченном виде, она была доступна читающей публике.
Еще одним фактором, определившим то, что именно писателям принадлежит великая честь открытия устной истории войны, был официальный статус советской исторической науки. Ни этот статус, ни марксистско-ленинская методология не допускали в принципе, что в основу построения исторических трудов могут быть положены устные свидетельства.
Было ли знакомо литераторам понятие «устная история»? На этот вопрос можно ответить положительно. Обратим внимание на предисловие к изданию книги С. Алексиевич 1988 г., написанное А. Адамовичем и озаглавленное «Две книги одного жанра». Адамович писал о произведениях, основанных на голосах очевидцев: «Но как же все-таки определить этот жанр? Как его назвать? Один из ленинградцев при обсуждении „Блокадной книги“ поделился вот таким наблюдением: смотрите, мол, в первой книге как бы хор голосов, хоровое начало, а потом (во второй) из него выступили, укрупняясь, трое, три судьбы, три голоса и повели повествование… Так как же определить, назвать этот жанр? Жизнь, о себе повествующая? Эпически хоровая проза? А может, даже роман-оратория? Или соборный роман? Документальное самоисследование? Устная история? Магнитофонная литература?» Особое значение Адамович придавал понятию «самоисследование» и разъяснял это так: «В подобных книгах очень важный принцип — самоисследование. Хатыни, исследующие себя сами (через память, голоса жертв); блокада, сама о себе повествующая; ушедшая в города деревня, озирающаяся назад; женщины-фронтовички, удивленно спрашивающие себя и других: „Неужели это я, мы это там были, тогда?“ Многоголосое самоисследование жизни, когда объект и субъект повествования, как два зеркала, которые друг в друге отражаются, повторяясь многократно…»[3].
Есть еще важный момент, который подчеркивал Адамович: понимание, которое писатели находили у людей, с которыми встречались и чьи рассказы они записывали. Нам «знакомо ощущение, когда уже не ты сам ищешь, а как бы сама она, правда, ищет тебя, вас — через читательские письма блокадников или фронтовичек, телефонные звонки и т. п. Как по цепочке шли с невидимым проводником: от хатынской к хатынской судьбе, от блокадной к блокадной, от женской фронтовой, партизанской судьбы к женской военной судьбе, от детской к детской»[4].
Сила этой литературы — в жизненных деталях, создающих чувство правды, в эмоциональной остроте, не оставляющей читателя равнодушным. Можно открыть практически любую страницу книги «У войны не женское лицо» и найти описание человеческих страданий и боли, ужасной в своей обыденности, обыкновенности. Вот рассказ партизанки Феклы Струй: «Меня ранило в ноги, я потеряла сознание, а мороз был жгучий, у меня были отморожены руки. Теперь живые, хорошие руки, а тогда черные, потому что я ползла, и они были мокрые. И ноги, конечно, тоже были отморожены. Если бы не мороз, может быть, ноги тоже удалось бы спасти, но они были в крови, а я долго лежала. Положили меня вместе с другими ранеными, свезли в одно место много нас, а тут немцы снова окружают. Блокада… Нас как дрова на сани сложили. Некогда смотреть, как положили, что болит. Так отвозили и отвозили, а потом сообщили в Москву о моем ранении. Я ведь была депутатом Верховного Совета. — У Вас обе ноги были ранены? — Да, обе. У меня сейчас протезы. Ноги мне отрезали там же, в лесу. Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол оперировать, и даже йода не было, просто пилой пилили ноги, обе ноги… Положили на стол, а нет йода. За шесть километров в другой отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Наркоза не было. Без наркоза, без ничего». Описание диалога с ней Алексиевич завершала словами: «Я уходила из этого большого дома с чувством вины: вот живет человек, о котором надо писать книги, петь песни, а мы о нем ничего не слышали. И сколько же их таких? Как много рядом с нами истории, еще не прочувствованной, еще не осознанной как История». В этом заключении и доля героического пафоса, присущего литературе о войне, и внимание к «простому» человеку.
Один из ярких рассказов в книге — рассказ минской подпольщицы, затем участницы французского Сопротивления Людмилы Михайловны Кашичкиной. В этом случае, как сообщала Алексиевич, она записывала сразу два рассказа — матери и уже взрослой дочери, во время войны маленькой девочки. Писательница замечала: «И детская память часто совершенно с неожиданной стороны высвечивала события». В этой фразе есть неточность: речь идет о памяти взрослого человека, вспоминающего детство. Кроме того, важно помнить: присутствие во время интервью кого-то из родных иногда неизбежно, но не всегда целесообразно. Во всяком случае, Алексиевич не поясняет, по ее ли инициативе в интервью участвовала дочь. Для оценки собранного в интервью материала важно понимать контекст, в котором оно проводилось. Респондент — участница минского подполья — повествует о том, что она пережила в гитлеровских застенках: «Я знала, на что иду, но поняла, почувствовала все, когда меня забрали в СД. Били и сапогами, и плетками. Узнала, что такое фашистский „маникюр“. Руки твои кладут на стол, и какая-то такая машинка втыкает тебе под ногти иголки. Одномоментно под каждый ноготь. Это адская боль. Сразу теряешь сознание. Даже не помню, знаю, что боль страшная, а что не помню. Меня растягивали на бревнах, может, это не точно, может неправильно. Но я помню вот что: тут такое бревно, и тут, а тебя между ними кладут… И какая-то машинка. И ты слышишь, как у тебя хрустят-выворачиваются кости… Долго ли это? Тоже не помню. Меня пытали на электрическом стуле… Это когда я плюнула одному из палачей в лицо… Молодой, старый — ничего не помню. Они раздели меня догола, и этот подошел и взял меня за грудь… Я была бессильна… Я могла только плюнуть… И я плюнула ему в лицо. Они посадили меня на электрический стул… Я с тех пор очень плохо переношу электричество. Помню, что вот тебя начинает бросать… И теперь даже гладить не могу…» Потом Людмила Михайловна рассказала, что была приговорена, к смертной казни через повешение. Но она оказалась в лагере: «Нас, как мертвых собак, сбросили на землю, и комендант приказал ползти к баракам. Мы ползем, а он нас плеткой бьет, и мы оставляем кровавые следы». Заключенных разделили на две группы, одних не трогали, а других раздевали догола и отправляли в душегубку. Женщина вспоминала: «Стоит возле барака женщина и кормит грудью ребенка. И как-то знаете… И собаки здесь, и охрана, все остолбенели, стоят и не берут, она последняя осталась. Комендант увидел эту картину, что никто ее не трогает. Подбежал, схватил этого ребенка и прямо, знаете, о кран… (Плачет). Простите, я сейчас договорю… И от этого ребенка и кровь, и мозги по стене, а что осталось, он бросил в душегубку. Подходит к этой женщине, начинает срывать с нее одежду и вдруг увидел у нее во рту золотые зубы. Схватил какой-то твердый предмет и как ударил… и вытянул зубы вместе с кровью». В дальнейшем Кашичкину отправили на фашистскую каторгу в лагерь Кроазет на берегу Ла-Манша. Восемнадцатого марта, в день Парижской Коммуны, французы устроили побег, и она ушла в «маки». После войны все это хотелось забыть, только одно хотела помнить: первую остановку на нашей земле, когда «выскочили из вагонов, целовали землю, обнимали».
Конечно, описание наполнено истинным трагизмом, особенно в том, что касается памяти-травмы, памяти о гитлеровских застенках. Обращает внимание то, что Алексиевич стремится в этой части максимально точно следовать за респондентом, по возможности, передавая особенности речи и поведения. Трудно ожидать от женщины, перенесшей выпавшие на ее долю нечеловеческие страдания, абсолютной точности воспоминаний. Память-травма передает общее ощущение ужаса, автор воспоминаний сама твердит: не помню, снова не помню, хочу забыть. Собственный опыт переплетается с трагическим опытом многих. Недаром она сама говорит: «Вы, конечно, читали обо всем в книгах, а мы это видели. Пережили. Я даже сейчас не понимаю, почему люди не сходили с ума от того, что видели. И от того, что творили». Рассказ об участии в Сопротивлении практически остается «за кадром». Почему? Объяснению этому в тексте нет, но вопросы остаются. Возвращение на родину описано только одним символическим жестом целования родной земли.
Сегодня хорошо известно, что для сотен тысяч возвращавшихся из фашистской неволи освобождение обернулось новой неволей на родине. Как было в этом случае? Что было известно респонденту о судьбе других? Кто были те несчастные, свидетельницей гибели которых в душегубке была Людмила Михайловна? Были ли это жертвы Холокоста? Всегда ли карателями были немцы? Ответов на эти вопросы в книге нет. Видимо, отчасти потому, что на эти темы было наложено табу. Трудно судить о том, как проходило редактирование интервью. При всей важности этих воспоминаний, не столько с точки зрения раскрытия новых фактов из истории войны, сколько с точки зрения сохранения ее в памяти следующих поколений как трагедии, в полном смысле назвать их устной историей нельзя. Действительно, это литература, основанная на устных свидетельствах очевидцев, но как жанр допускающая большую свободу для писателя в редактировании их, чем позволит себе историк.
Есть еще один аспект, о котором в книге Алексиевич сказано лишь намеком, но замечательно само по себе, что сказано. Вот отрывок из рассказа Ольги Васильевны Подвышенской, служившей в годы войны на флоте: «Детям мы почему-то о войне не рассказывали. Я и орденские колодки не носила. Был случай, когда сорвала их и больше не прикалывала. Я работала директором хлебозавода. Прихожу на совещание, и начальник, тоже женщина, увидела мои колодки и при всех высказала, что ты, мол, нацепила колодки, что себя показываешь. У самой был трудовой орден, она его носила, а мои военные награды ей почемуто не понравились. Потом, когда мы остались одни, я ей все высказала по-морскому, ей было неудобно, но у меня-то пропала охота носить награды. И теперь не ношу. Хотя горжусь, что была на фронте, что это моя заслуга. Но после войны не сразу заговорили о фронтовиках. Внучка наша знает о нас все, она интересуется, мы ей рассказываем, ей сочинения в школе дают на эту тему. А вот детям мы не рассказывали, и они нас не расспрашивали… Мы, фронтовики, очень благодарны журналистке Вере Ткаченко, которая первая в газете „Правда“ подняла вопрос о том, что есть женщины-фронтовички, которые остались одинокими, не устроили свою жизнь и до сих пор не имеют квартир, что мы перед ними все виноваты. И тогда как-то понемножку стали на женщин-фронтовичек обращать внимание».
В наши дни есть немало свидетельств, что многие женщины, воевавшие в лихую годину, в послевоенные годы даже скрывали это, потому, что молва была часто безжалостна к ним. Возможно, что она не прощала им того, что они возложили на себя не свою гендерную роль. Как свидетельствует российский историк О. Никонова, «многие фронтовички оказались в этом (послевоенном. —М. С.) обществе нежданными гостями, „военно-полевыми женами“, боевые заслуги которых унизительно трансформировались в обывательском восприятии в „половые заслуги“[5]. Десятилетия прошли, прежде чем это изменилось. Алексиевич в ходе этой беседы с Ольгой Васильевной задала очень важный вопрос: „А почему вы не рассказывали о войне своим детям?“ Та промолчала, но ответил ее муж Саул Генрихович, тоже фронтовик: „Мы еще, наверное, тогда не понимали, не осознавали того, что сделали. Через десятки лет жизнь заставила задуматься о давно пережитом. А тогда война была слишком близко и слишком страшной, чтобы о ней вспоминать. Детей хотелось уберечь от этого ужаса“».
Отмеченный в этом рассказе феномен — стремление забыть, избавиться от памяти-травмы присутствует во многих трудах по устной истории. Люди начинают говорить о страшном, случившемся с ними, лишь по прошествии немалого времени. Память об этом остается на всю жизнь. В «Последних свидетелях» один из рассказчиков, в детстве переживший ужасы войны, говорил: «Я видел, как гнали через нашу деревню колонны военнопленных. Там, где они остановились, была обгрызена кора с деревьев. А тех, кто нагибался к земле, чтобы сорвать зеленой травы, расстреливали. Я видел, как ночью пошел под откос немецкий эшелон, а утром положили на рельсы всех тех, кто работал на железной дороге, и пустили паровоз… Я видел, как впрягали в брички людей с желтыми кругами на шее вместо хомутов и катались на них. Как их расстреливали с этими же желтыми кругами на шее и кричали „Юде!“ (здесь в книге отмечен один из немногих намеков на трагедию евреев. —М.С.). Я видел, как у матерей выбивали штыками из рук детей и бросали в огонь. Я видел, как плакала кошка. Она сидела на головешках сожженного дома, и только хвост у нее остался белый, а вся она была черная. Она хотела умыться и не могла, мне казалась, что шкурка на ней хрустела, как сухой лист». Этот человек закончил воспоминания следующими словами: «Вот почему мы не всегда понимаем наших детей, а они не понимают нас. Мы — другие люди. Забуду, живу, как все. А иногда проснешься ночью, вспомнишь — и кричать хочется…».
В конце 80-х — начале 90-х гг. интерес к устной истории в нашей стране возрос. Это, в частности, нашло отражение в историко-публицистической литературе в связи с открытием новых тем, не рассматривавшихся в советское время. В качестве примера можно назвать книгу Эдварда Радзинского о Сталине. Радзинский сам признавал, что в основе его версии о том, как умер Сталин, лежали воспоминания тех людей из охраны вождя, с которыми он сумел побеседовать. Другой пример — книги Ларисы Васильевой «Кремлевские жены» и «Дети Кремля», материалы для которых писательница накапливала преимущественно путем сбора устных свидетельств.
Однако главное в том, что устная история становится частью профессионально-исторического дискурса во многом под влиянием междисциплинарных подходов, в частности, из области социологии. Заметно расширился спектр тем, привлекших внимание исследователей.
Но и знакомые темы также подверглись переосмыслению на ином уровне. Например, О. Никонова ставит вопрос женской памяти о войне, основываясь, прежде всего, на воспоминаниях тех, кто прошел войну[6]. Советская литература (пример тому книга Алексиевич) исходила из традиционных представлений о взаимоотношениях полов, характерных для позднего сталинизма и послесталинского СССР. Женщина считалась неприспособленной для войны, прежде всего, в силу психобиологических особенностей. Это нашло выражение в названии книги Алексиевич.
В современной историографии этот подход подвергается критике, причем в некоторых случаях акцент делается на традиции участия российских женщин в защите Отечества, а в других — на формировании в советское время новой идентичности, что было связано и с преодолением традиционалистских гендерных представлений и репрезентаций. Так или иначе, по мнению Никоновой, особую трудность для исследователей представляют женщины-добровольцы, заставляющие их «доискиваться до причин, по которым они направлялись на фронт выполнять „мужскую работу“. Главным источником в этом случае становятся, как правило, эгодокументы и материалы, собранные методами устной истории. Научный анализ научных свидетельств осложняется тем, что в массе своей эти воспоминания возникли спустя много лет после завершения описываемых событий и потому нуждаются в особенно осторожном отношении и научной критике. Анализ мотивов женщин, добровольно отправившихся на фронт, демонстрирует трудно квалифицируемое разнообразие. Для некоторых двигателем было стремление отомстить за погибших родственников или мужа, для других — желание последовать примеру родителей и реализовать семейный этический кодекс, для третьих — патриотический этос, характерный для наиболее индоктринированной части советской молодежи. Иной комплекс мотивов конструируется исследователями на основе анализа воспоминаний женщин, воевавших в партизанских отрядах. Поступками женщин, оказавшихся на оккупируемых территориях, чаще всего руководили чувство самосохранения, стремление выжить, случай в образе советского командира и вспыхнувшего вопреки войне чувства»[7]. Как отмечалось выше, длинные корни имеет и устная история ленинградской блокады. Важную роль в сборе интервью переживших блокаду ленинградцев сыграл Центр устной истории Европейского университета в Петербурге. В частности, был опубликован труд, во многом подытоживший эту работу[8].
Современные исследования по устной истории позволяют взглянуть на историю Отечественной войны не так, как строго предписывал официальный дискурс. Примером является статья петербургских авторов, написанная на основе интервью, записанных в Гдовском районе Псковской области в 2000 и 2003 гг.[9] По их мнению, различия в оценке событий зависят главным образом от того, насколько информант вовлечен в продуцирование официального нарратива войны.
В официальном историческом нарративе преобладает тенденция репрезентировать войну как простое противостояние сторон, в котором сошлись «наши» и «они»: немцы, фашисты, палачи, оккупанты вкупе с предателями. По словам Корминой и Штыркова, «в отличие от текстов официального дискурса, в устных рассказах действуют не идеальные, деиндивидуализированные персонажи, обладающие какими-то характеристиками в силу своей принадлежности к одной из партий, а живые люди, поступающие тем или иным образом в силу собственной индивидуальности и создавшихся обстоятельств. Они бывают хорошими и плохими, слабыми и сильными, причем чужие могут быть хорошими, а свои плохими. Один из повторяющихся образов, возникающих в рассказах об оккупации, — плачущий немецкий солдат; он демонстрирует русской крестьянке его возраста фотографию своих детей или матери или показывает на ее детей, объясняя, что у него дома остались такие же. Иногда он осуждает Гитлера и Сталина за то, что они затеяли войну. Он, как и его собеседница или ее муж, жертва войны»[10]. Во многих рассказах хуже немцев полицейские-каратели, или «белорукавники», среди которых большинство — эстонцы. Антиподом полицейского в рассказах об оккупации часто выступает староста, ставший таковым, как правило, вопреки своей воле. Он — идеальный член крестьянского сообщества, защитник интересов своей деревни. Трудно допустить саму возможность «очеловечивания» немца в работах советского времени, и даже книга Алексиевич — тому подтверждение.
Объектом изучения в устной истории становятся социальные группы, вовсе не имевшие отношения к официальному нарративу о войне. Одной из них являются остарбайтеры, то есть лица, принудительно вывезенные для работы в Германию. Исследование такого рода проведено украинским историком Г. Гринчеинко на материалах о выходцах из Харьковской области[11]. По мнению автора статьи, в ее распоряжении оказался особый материал. Это определяется тем, что память о принудительном труде, в отличие, например, от памяти о блокаде Ленинграда, никогда не была составной частью официальной памяти советского общества о Великой Отечественной войне. Характерно, что многие респонденты, работавшие в домах немцев, сохранили память о них как о «хороших», о «добрых» хозяевах. Так, одна из рассказчиц сообщала: «Ну, короче говоря, мне повезло, я кушала с хозяевами, за одним столом сидела, у меня комнатка хороша. Удивляет то, что, понимаете, так хорошо встретили. Меня удивляет то, что меня так хорошо встретили: „Наша маленькая украинка приехала“, — говорят».
Теорией психологического времени автор статьи объясняла некоторые особенности интервью, в частности, сосредоточение внимания респондентов на «воспроизводстве опыта человеческих взаимоотношений: дружбы, любви, взаимовыручки и взаимопонимания, чему по определению не было места в нацистской системе подавления личности». Другая черта устных свидетельств бывших «восточных рабочих» заключается в стремлении обобщить, а не индивидуализировать собственный опыт — последнее преобладает, например, в устных рассказах ветеранов войны — участников боевых действий. «Остарбайтеры» постоянно прибегают к категории «мы», сливая собственный опыт с опытом других людей: «нас утоняли», «нас распределяли», «мы работали» и т. д.
Исследования устных историков затронули и другие трагические страницы в истории нашей страны. Это касается темы репрессий и ГУЛАГа. Автор многих работ по этой тематике И. Л. Щербакова проанализировала литературу воспоминаний о репрессиях и выделила ряд этапов в ее развитии. Что касается устной истории, это новое направление в гулаговской мемуаристике возникло в конце 80-х гг. Щербакова пишет: «Жанр записи использовался и в 70-е гг. неофициальными историками, однако, особое значение он приобрел именно в конце 80-х. Появилась возможность широко опросить тех, кто по разным причинам не написал мемуаров. Для тех, кто не мог и не умел писать сам, жанр устного рассказа оказался более спонтанным и естественным. В разговоре, как показала практика, человек мог коснуться болезненных и тяжелых тем, которых не решился бы передать на бумаге.
Кроме того, устная форма гораздо лучше фиксирует разговорную лексику, а социолингвистика дает ключ к пониманию гулаговской проблематики на более глубоком уровне. В устной речи человек более склонен передавать легенды и мифы лагерной жизни"[12]. Архивы устной истории по этой тематике сохранились, в частности, в таких общественных организациях, как общество «Мемориал», Международный фонд демократии (фонд Александра Николаевича Яковлева). «Народный архив», созданный в 1988 г. по инициативе историка Б. Илизарова, включает отдел устных мемуаров и свидетельств. В структуре общества «Мемориал» имеется «Центр устной истории и биографии», проводивший работу по ряду проектов в области устной истории. В центре его деятельности находится изучение судеб жертв тоталитарных режимов в СССР и Германии. В рамках этого направления собрано более 200 интервью по проектам «Женская память о ГУЛАГе» и «Дети АЛЖИРа» (аббревиатура АЛЖИР: Акмолинский лагерь жен изменников родины. — М. С.).
Частью этой работы являются также проекты «Принудительный труд в национал-социалистической Германии» и «Выжившие в Маутхаузене». В 2008 г. «Мемориал» осуществил проект «Последний свидетель», в рамках которого были собраны свидетельства раскулаченных, узников ГУЛАГа, детей репрессированных родителей, репрессированных по национальному принципу. Фонд А. Н. Яковлева собирал, в частности, воспоминания детей репрессированных.
Методы устной истории находят применение при создании истории семьи, в поиске семейных истоков. Примером такого рода может служить статья, посвященная семейной истории известного певца Олега Митяева[13]. Челябинский историк Игорь Нарский предпринял попытку обратиться к устной истории при написании очень необычной книги[14]. Автор определил жанр своего сочинения как «автобио-историо-графический роман». Отталкиваясь от собственной детской фотографии, он провел исследование истории своей семьи, в том числе методом интервьюирования ее членов. Усиление внимания к устной истории он выводил, в частности, из фактора методологического: «Признание субъективности историографического — как и всякого иного — творчества знаменует не капитуляцию историописания, а повышение требований к ученым-историкам по поводу саморефлексии и выработки более контролируемых процедур научного исследования. Сложности и некоторые сдвиги в овладении историками областью субъективного исторических актеров — восприятия, эмоций, репрезентаций, опыта, памяти — наглядно демонстрируется позицией членов историографического цеха относительно интервью как исследовательского метода и исторического источника»[15].
Нарский полагал, что российская устная история «родилась в политизированном контексте перестройки», причем, по его мнению, первоначально она была проникнута «духом наивного романтизма и некритического доверия к устным свидетельствам». В дальнейшем такое доверие уступило место более осторожным подходам. Тем не менее сегодня признано: индивид является носителем не только индивидуальной, но и культурной памяти, следовательно, интервью не только сообщает о рассказчике, но и «открывает сведения о культурной среде, мире переживаний и опыта интервьюируемого». Руководствуясь таким подходом, Нарский пишет не столько историю своей семьи, но стремится «разбудить», заставить заговорить культурную память советской эпохи, преимущественно 1960;х гг. В арсенале его средств не только устная история, хотя она занимает значительное место, но и другие инструменты современной историографии, такие как визуализация истории, концепции исторической памяти, детства, повседневности, социальной коммуникации, досуга и развлечений, гендерные теории. Нарский определил свою книгу как роман, и в этом определении есть глубокий смысл. В ней живые воспоминания автора, повествование о том, что с ним происходит, и как он работает как историк, переплетаются с научными очерками, посвященными отдельным аспектам современной историографии. Такая дискретность отражает присущие последней постмодернистские тенденции. Ценность работы Нарского состоит в том, что он сумел включить устную историю в единое пространство исследования и повествования и, сохранив ее специфику, «развернуть» ее в более широком историографическом дискурсе.
Задания и вопросы
Задание 1. В тексте этого раздела приводилось высказывание А. Адамовича, свидетельствующее о раздумьях писателя, как должен называться жанр литературы, основанный на воспоминаниях о войне. Кроме термина «устная история» он дал еще ряд определений: «жизнь, о себе повествующая»; «эпически-хоровая проза»; «роман-оратория»; «соборный роман»; «документальное самоисследование»; «магнитофонная литература». Адамович пояснял: «Раз столько вариантов, значит, все еще не прояснилось, не возникло, не найдено слово. А может быть, и не стоит поторапливать, спешить? Пусть жанр еще потрудится, наработает побольше, присмотрится к самому себе. Атам и найдется ктонибудь, окрестит. Был бы младенец жив-здоров».
Задумайтесь над этими определениями. Попробуйте сформулировать своими словами, какой смысл Адамович вкладывал в каждое из них. Как вы думаете: почему в конечном итоге термин «устная история» возобладал в гуманитарном знании?
Задание 2. В качестве домашнего задания студентам предлагается подготовить письменную работу (5—8 страниц), основанную на анализе свидетельства человека, ребенком пережившего блокаду Ленинграда. В качестве источника можно использовать интервью Виктора Николаевича (имя и отчество изменены), опубликованное в журнале «Неприкосновенный запас» (2005. № 2—3 (40—41)). Составьте примерный список вопросов для анализа, руководствуйтесь им. Допустимо использовать другие опубликованные интервью по аналогичной тематике или размещенные на вызывающих доверие сайтах Интернета.
Задание 3. Проведите самостоятельное исследование интернет-сайтов, содержащих материалы по устной истории. Для анализа можно выбрать следующие сайты: Общество «Мемориал»; фонд Александра Яковлева; Центр устной истории Европейского университета в Петербурге; Центр визуальной антропологии и устной истории Российского государственного гуманитарного университета или другие. Определите, по каким темам собираются архивы устной истории. Насколько доступны они исследователям? В чем важность этих архивов устной истории для исследователей и педагогов?
- [1] Адамович А. Две книги одного жанра // Алексиевич С. А. У войны не женскоелицо. Последние свидетели: Повести. М., 1988. С. 7.
- [2] Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. 2005. № 2—3 (40—41). С. 49.
- [3] Адамович А. Указ. соч. С. 4.
- [4] Там же. С. 7.
- [5] Никонова О. Женщины, война и «фигуры умолчания» // Неприкосновенныйзапас. 2005. № 2—3 (40—41). С. 286.
- [6] Никонова О. Указ. соч. Она, в частности, ссылалась на архив воспоминанийи интервью, размещенных по адресу: www.gender.ehu.by/memory/docs/interviews/.
- [7] Никонова О. Указ. соч. С. 284—285.
- [8] Память о блокаде: свидетельства о блокаде и историческое сознание общества. М" 2005.
- [9] Кормина Ж., Штырков С. Никто не забыт, ничто не забыто. История оккупациив устных свидетельствах // Неприкосновенный запас. 2005. № 2—3 (40—41). С. 123—133.
- [10] Кормина Ж., Штырков С. Никто не забыт, ничто не забыто. История оккупациив устных свидетельствах. С. 124—125.
- [11] Гринчеинко Г. Г. «Устные истории» и проблемы их интерпретации (на примере устных интервью с бывшими остарбайтерами Харьковской области) // Век памяти, памятьвека / под ред. И. В. Нарского [и др.]. Челябинск, 2004. С. 215—227.
- [12] Щербакова И. Л. Память ГУЛАГа. Опыт исследования мемуаристики и устных свидетельств бывших узников // Век памяти, память века / под ред. И. В. Нарского [и др.]. Челябинск, 2004. С. 182.
- [13] Хорлина Ю. А. Реконструкция «семейной истории»: источниковедческий аспект"биографического хрониката" рода Олега Митяева // Век памяти, память века / под ред.И. В. Нарского [и др.]. С. 242—258.
- [14] Нарский И. В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографическиепослания и советское детство (автобио-историо-графический роман). Челябинск, 2008.
- [15] Там же. С. 378.