Статьи 1840-х годов
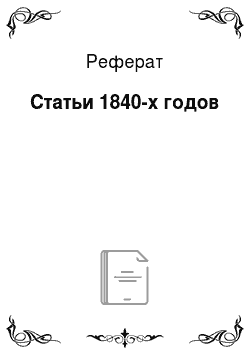
Но отчего выражения меланхолии мы не находим в поэзии древней и отчего им так изобильна поэзия христианская? Древние по той же причине не выражали меланхолий в идеальных произведениях поэзии и искусства, по которой они ее выгнали из своей действительной жизни. И мы видим, как все эти произведения чисты и далеки от всякой туманности, от всякой таинственности, придающей такую прелесть произведениям… Читать ещё >
Статьи 1840-х годов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
О ПОЭТЕ И СОВРЕМЕННОМ ЕГО ЗНАЧЕНИИ ПИСЬМО
Прекрасное, трогательное письмо твое застало меня за твоею книгою: я был занят прикреплением к бумаге некоторых мыслей, которые бродили в голове при чтении твоей статьи о том, что такое слово; твое письмо пришло кстати: оно дополняет печатную статью, а написанное мною на твое рассуждение о важности слова будет в то же время и ответом на письмо твое.
Стихи Державина:
За слова меня пусть гложет, За дела сатирик чтит, —.
служащие, так сказать, темою твоей статьи, не имеют, по моему мнению, никакого ясного смысла: ошибки писателя не извиняются его человеческими добродетелями; и самолюбие поэта, оскорбленное критикою, не утешится, когда он сам себе или его аристарх ему скажет: ты негодный поэт, но человек почтенный.
Но то, что сказал Пушкин о стихах Державина, весьма значительно — оно будет теперь главным предметом моей с тобою беседы. Прошу, однако, не пугаться, ибо я намерен, как говорится, начать с яиц Леды; хочу длинным обходом прийти с тобою к выражению Пушкина: слова поэта суть уже дела его.
Не имея возможности постигнуть существа духовного в нем самом и выразить материальным словом его неразделимости, его единства, мы дробим нашу душу на разные способности, делим ее, так сказать, на участки и к каждому из них приписываем особенную, отдельную ее способность. Говоря о теле, мы можем определенно означать и все его определенно в нем действующие члены; мы говорим голова, глаза, рука, нога и прочее; но говоря ум, воля и тому подобное, мы разными именами означаем одно и то же, то есть всю душу, в разных только образах ее действия; нет такой особенной части в душе, которая была бы только ум или воля, все это — вся душа, полная, всегда неразделимо действующая. Мы только для ясности принуждены прибегнуть к раздроблению единства на части. Душа мыслит, избирает (то есть отвергает или принимает), творит, верует; сии разные образы действия одной и той же души мы называем: ум, воля, творчество, вера.
Ум (говоря языком обыкновенным, то есть раздробляя наше духовное единство на способности отдельные) есть самая низшая, но в то же время и самая многообъемлющая, основная, все действия других способностей проникающая и определяющая способность души нашей. Он действует в пределах материального мира, определяет форму, измеряет движение, из вещественных форм извлекает понятия общие и из движения закон (го есть из того, что всегда бывает, то, что всегда должно быть), из неизменяющегося неизменное. Я назвал ум низшею способностью души потому, что он совершенно подчинен закону необходимости: первый пункт (le point de depart), передовое положение (Vordersatz) могут некоторым образом быть избраны произвольно; произвольность может быть также и в более или менее упорном пребывании на избранном пути, но самый этот путь (то есть весь ход ума, все сцепление выводов с их необходимым результатом) от ума независим — путь ума есть путь по железной дороге: здесь свободен только выбор места в вагоне, то есть выбор первого пункта отбытия; все остальное повинуется железной силе релей, раз скованных и к земле навсегда прикрепленных. Мы быстро и, по-видимому, произвольно движемся вперед; но эта произвольность мнимая: мы не властны ни переменить движения, ни управлять им; самая сила влекущего нас паровоза есть только сила, а не власть, и беда, если она хоть на миг покинет направление, в начале пути ею полученное. Во-вторых, наш ум есть способность низшая и потому, что он ничего из самого себя не извлекает, что все его создания, сколь ни кажутся они самобытными, извлечены из внешнего, вещественного мира, суть, так сказать, умственное потомство материальности в первом, десятом, двадцатом колене. Воля стоит степенью выше ума: она свободна; но объем ее действий гораздо ограниченнее: она только избирает или отвергает, руководствуясь законом нравственным (которого постижение и определение есть дело ума), но руководствуясь самобытно, то есть имея власть решить согласно или несогласно с сим законом. Она выражается в наших действиях, и ею только получаем мы характер существ нравственных. Третья способность души, творчество, потому должна быть поставлена степенью выше ума и воли, что ее действия не следуют никакому чуждому побуждению, а непосредственно из души истекают—в ней наиболее выражается божественность происхождения души человеческой, которого признак есть сие стремление творить из себя, себя выражать в своем создании, без всякого постороннего повода, по одному только вдохновению, которое не есть ни ум, ни воля, но и то и другое, соединенное с чем-то самобытным, так сказать, свыше, без ведома нашего, на нас налетающим, другому высшему порядку принадлежащим. Наконец, вера, то есть способность принимать божественное откровение. Она есть самобытнейшая способность души человеческой: здесь наш ум смиряется, воля властвует без произвола, творчество приобретает характер созерцания, словом, все сливается в одно, в веру, в свободное предание души непосредственно открывающемуся ей Богу.
Теперь мы дошли до крайней точки нашего обхода и можем, возвратясь назад, сказать что-нибудь путное о выражении Пушкина: слова поэта суть уже его дела. Для этого надобно, однако, еще предварительно объяснить: что такое дела поэта, что такое поэт или художник, что есть художество и где его источник?
Я позволяю себе здесь повторить то, что было мною сказано в другом месте: «Руссо говорит: II n’ya de beau que се qui n’est pas—прекрасно только то, чего нет. Это не значит: только то, что не существует; прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, нам является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказаться, оживить, обновить душу, но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем; оно не имеет ни имени, ни образа; оно посещает нас в лучшие минуты жизни — величественное зрелище природы, еще более величественное зрелище души человеческой, очарование счастья, вдохновение несчастья и проч. производят в нас сии живые ощущения прекрасного, и весьма понятно, почему почти всегда соединяется с ним грусть, но грусть, не приводящая в уныние, а животворная, сладкая, какое-то смутное стремление; это происходит от его скоротечности, от его невыразимости, от его необъятности. Прекрасно только то, чего нет,—в эти минуты тревожно-живого чувства стремишься не к тому, чем оно произведено и что перед тобою, но к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним соединяется и чего в нем нет, но что где-то и для одной души твоей существует. И это стремление есть одно из невыразимых доказательств бессмертия: иначе отчего бы в минуту наслаждения не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет! Эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь нс дома, что оно только мимопролетающий благовеститель лучшего; оно есть восхитительная тоска по отчизне, темная память об утраченном, искомом и со временем достижимом Эдеме; оно действует на нашу душу не одним присутственным настоящим, но и неясным, в одно мгновение слиянным воспоминанием всего прекрасного в прошедшем и тайным ожиданием лучшего в будущем.
А когда нас покидает, В дар любви у нас в виду В нашем небе зажигает Он прощальную звезду.
Эта прощальная, навсегда остающаяся в нашем небе звезда есть знак, что прекрасное было в нашей жизни, и вместе знак, что оно не к нашей жизни принадлежит! Звезда на темном небе — она не сойдет на землю, но утешительно сияет нам издали и некоторым образом сближает нас с тем небом, с которого неподвижно нам светит! Жизнь наша есть, так сказать, ночь под звездным небом — наша душа в минуты вдохновенные открывает новые звезды; эти звезды не дают и не должны давать нам полного света, но, украшая наше небо, знакомя с ним, служат в то же время и путеводителями по земле!
Это прекрасное, которого нет в окружающем нас вещественном мире, но которое в нем находит душа наша, пробуждает ее творческую силу. Душа беседует с созданием, и создание ей откликается. Но что же этот отзыв создания? Не голос ли самого Создателя? Все мелкие, разрозненные части видимого мира сливаются в одно гармоническое целое, в один, сам по себе несущественный, но ясно душою нашей видимый образ. Что же этот несущественный образ? Красота. Что же красота? Ощущение и слышание душою Бога в создании. И в ней, истекшей от Бога, живет стремление творить по образу и подобию Творца своего, то есть влагать самое себя в свое создание. Но Создатель всего извлек это все из самого себя: небытие стало бытием. Человек не может творить из ничего; он только может своими, заимствованными из создания средствами повторять то, что Бог создал своею всемогущею волею. Сей произвольный акт творения есть возвышенная жизнь души; целью его может быть не иное что, как осуществление того прекрасного, которого тайну душа открывает в творении Бога и которое стремится явно выразить в творении собственном. Сие ощущение и выражение прекрасного, сие пересоздание своими средствами создания Божия есть художество. Что же такое.
художник? Творец; и цель его не иное что, как самое это творение, свободное, вдохновенное, ни с каким посторонним видом не соединенное. В чем состоит акт творения? В осуществлении идеи Творца. Верховный художник в самом себе почерпнул и идею и материал создания; земной художник, творя, так же осуществляет свою идею, но материалы и для самой идеи и для ее осуществления он заимствует уже из существующего, ему подлежащего творения Божия; творит же он потому, что по натуре души своей ощущает в себе к тому неодолимое, врожденное стремление. Какие его способы и материалы? Способы: художество в разных видах, поэзия, живопись, музыка, ваяние; его материалы: слово, краска, согласие звуков, твердая масса. Самое высшее из произведений художества есть то, когда художник выражает не только собственную идею, но в своей идее и самого верховного Творца; самое низшее то, когда он с рабскою точностью повторяет видимое творение; между сими двумя крайностями оттенки бесчисленны, начиная от сходного во всех подробностях изображения насекомого до вдохновенного изображения Троицы. Красота художественного произведения состоит в истине выражения, то есть в ясности идеи и в ее гармоническом согласии с материальным художественным ее образом, который с своей стороны должен быть согласен с образцом, заимствованным из создания внешнего. Художество в тесном смысле довольствуется только этою относительною истиною; но художество в обширном, высшем значении имеет предметом красоту высшую. Переводя на свое второбытное создание то, что он находит вокруг себя в создании первобытном, художник, повторяю, должен выражать не одну собственную, человеческую идею, не одну свою душу, но в ней и идею Создателя, дух Божий, все созданное проникающий.
Оставив все прочие художества в стороне, обратимся теперь к тому, которого материал есть слово и которое между всеми должно занимать высшую степень, ибо оно непосредственнее всех из души истекает — к поэзии; материалы других заимствуются извне, материал поэта слово (образ, тело идеи) прямо из души переходит в форму материальную; прибавлю: все другие художества не иное что, как поэзия в разных видах.
Итак, слово. Основываясь на том, что выше сказано о художнике и художестве, мы должны согласиться, что выражение Пушкина: слова поэта суть уже его дела, заключает в себе смысл глубокий. Так, слова поэта—дела поэта. Не принадлежа к разряду дел, заключающихся в тесном кругу ежедневного, они могут быть рассматриваемы и в смысле художественного произведения (более тесном) и в смысле самого художника (более обширном). В первом отношении, если художественные произведения удовлетворяют всем требованиям искусства, то художник прав: он совершил свое дело, произведя прекрасное, которое одно есть предмет художества. В другом, обширнейшем смысле дела художника относятся не к одному его произведению, но к его особенному высшему призванию.
Обыкновенно, рассуждая о художествах, оставляют в стороне художника и творца рознят с его творением. Можно ли допускать или оправдывать такой разрыв, не знаю — по крайней мере не в теории, определяющей не то, что может быть и бывает, а то, что всегда должно быть. Поэт творит словом, и это творческое слово, вызванное вдохновением из идеи, могущественно владевшей душою поэта, стремительно переходя в другую душу, производит в ней такое же вдохновение и ее также могущественно объемлет; это действие не есть ни умственное, ни нравственное — оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка Отразить не можем. Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного: это не есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбуждение нравственного чувства, ни его утверждение положительным правилом; нет! — это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу охватывает и в ней оставляет следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художественного произведения, или, вернее, смотря по духу самого художника.
Если таково действие поэзии, то сила производить его, данная поэту, должна быть не иное что, как призвание от Бога, есть, так сказать, вызов от Создателя вступить с Ним в товарищество создания. Творец вложил свой дух в творение: поэт, его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия. Таков истинный смысл его призвания, его великого дара, который в то же время есть и страшное искушение, ибо в сей силе для полета высокого заключается и опасность падения глубокого.
Вопрос: исполнит ли поэт свое призвание, если, живя с откровенными очами посреди чудес творения, будет иметь предметом одну только роскошь этой внутренней поэтической жизни и то несказанное самонаслаждение, которое вполне объемлет и удовлетворяет душу в те минуты, когда она горит вдохновением творчества? Исполнит ли поэт свое призвание, когда, с одной стороны, будет иметь в виду одно только художественное совершенство произведений своих, а с другой—только успех, то есть гордое самоубеждение в своем превосходстве и чародейную сладость хвалы и славы? Есть что-то чувственное, что-то унизительное, есть какое-то эгоистическое сибаритство в этом самобоготворении, в этой оргии самолюбия, в этом упоении самонаслаждения, которое в своих действиях так же гибельно для души, как пьянство для силы телесной.
Спросят: кто же из поэтов вполне осуществил идеал поэта? Ответ самый простой: никто. Еще ни один ангел не сходил с неба играть перед людьми на лире и печатать свои стихотворения у Дидота или Глазунова. Но здесь главное не в достижении, а в стремлении достигнуть. В произведениях художества мы наслаждаемся красотою создания, прелестию частей, гармониею целого и тому подобное, но все это есть одна низшая, так сказать, материальная сторона нашего наслаждения: мы можем дать себе отчет в том, что нас увлекает, можем указать на возвышенность или приятность содержания, на точность, живость, необыкновенность выражения, на музыку слов; но то, что безотчетно и неуловимо и что, однако, всему этому дает жизнь, это есть дух поэта, в создании его тайно соприсутственный! И если он есть дух чистоты, если художественное создание (какой бы, впрочем, ни был предмет его) проникнуто им так же, как образец его, Божие создание, духом Создателя, то и действие его (дело поэта, заключенное в его слове) будет благодатно, как действие неизглаголанного мироздания на душу, отверстую его святыне. Не в том, что составляет содержание поэтического произведения, заключается его нравственно-образовательное на нас влияние, а в том, что есть сам поэт (сколько бы, повторяю, его личность ни далека была от избранного им предмета): увлекаемые прелестью его создания, мы нечувствительно проникаемся его верою, его любовью, его возвышенностью и чистотою, и они по тайному сродству остаются в слиянии с нами как последний результат поэтического наслаждения.
Что же, спросят, неужели поэт должен ограничиться одними гимнами Богу и всякое другое поэтическое создание считать за грех против божества и человечества? Ответ простой: не произноси имени Бога, но знай Его, верь Ему, иди к Нему, веди к Нему — тогда, что бы ни встретилось на пути твоем откровенному оку и что бы ни было это встреченное — высокое или мелкое, прекрасное или безобразное, многозначащее или легкое, забавное или мрачное, — все оно, прошед через твою душу, приобретает ее характер, не изменив в то же время и собственного. Поэт в выборе предмета не подвержен никакому обязующему направлению. Поэзия живет свободою; утратив непринужденность (похожую часто на причудливость и своевольство), она теряет прелесть; всякое намерение произвести то или другое определенное, постороннее действие, нравственное, поучительное или (как нынче мода) политическое, дает движениям фантазии какую-то неповоротливость и неловкость, тогда как она должна легкокрылою ласточкою, с криками радости, летать между небом и землею, все посещать климаты и уносить за собою нашу душу в этот чистый эфир высоты, на освежительную, беззаботную прогулку по всему поднебесью.
Но поэт, свободный в выборе предмета, не свободен отделить от него самого себя: что скрыто внутри его души, то будет вложено тайно, безнамеренно и даже противонамеренно и в его создание. Если он чист, то и мы не осквернимся, какие бы образы нечистые или чудовищные ни представлял он нам как художник; но и самое святое подействует на нас как отрава, когда оно нам выльется из сосуда души отравленной. С благодарностью сердца укажу на нашего современника Вальтера Скотта. Поэт в прямом значении сего звания, он будет жить во все времена благотворителем души человеческой. Какой разнообразный мир обхвачен его гением! Он до всего коснулся, от самого низкого и безобразного до самого возвышенного и божественного, и все изобразил с простодушною верностью, нигде не нарушил с намерением истины, нигде не оскорбил красоты, во всем удовлетворил требованиям искусства. Но посреди этого очарованного мира самое очаровательное есть он сам — его светлая, чистая, младенчески верующая душа; ее присутствие разлито в его творениях, как воздух на высотах горных, где дышится так легко, освежительно и целебно. Его поэзии предаешься без всякой тревоги, с ним вместе веруешь святому, любишь добро, постигаешь красоту и знаешь, какое назначение души твоей; он представляет тебе во всей наготе и зло и разврат, но ты ими не заражаешься, с тобою сквозь толпу очумленную идет проводник, заразе ее недоступный и тебя сопутствием своим берегущий. Цель художественного произведения достигнута: ты был поражен, приведен в ужас, смеялся., плакал, словом, ты насладился красотою создания поэтического; но в то же время душа твоя проникнута довольством другого рода: она вполне спокойна, как будто более утвержденная в том, что все ее лучшее верно.' С такою же благодарностью сердца укажу на Карамзина, которого непорочная душа прошла по земле как ангел света и от которого осталось отечеству в созданной им его «Истории» вечное завещание на веру в Бога, на любовь ко благу и правде, на благоговение пред всем высоким и прекрасным.
С другой стороны, обратим взор на Байрона—дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения. Его гений имеет прелесть Мильтонова Сатаны, столь поражающего своим помраченным величием; но у Мильтона эта прелесть не иное что, как поэтический образ, только увеселяющий воображение; а в Байроне она есть сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения. Но Байрон сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувственность, его гений все имеет высокость необычайную (может быть, оттого еще и губительнее сила его поэзии): мы чувствуем, что рука судьбы опрокинула создание благородное и что он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти — перед нами титан Прометей, прикованный к скале Кавказа и гордо клянущий Зевеса, которого коршун рвет его внутренности.
Но что сказать о… (я не назову его, но тем для него хуже, если он будет тобою угадан в моем воображении), что сказать об этом хулителе всякой святыни, которой откровение так напрасно было ему ниспослано в его поэтическом даровании и в том чародейном могуществе слова, которого, может быть, ни один из писателей Германии не имел в такой силе! Это уже не судьба, разрушившая бедствиями душу высокую и произведшая в ней бунт против испытующего Бога, это не падший ангел света, в упоении гордости отрицающий то, что знает и чему не может не верить, — это свободный собиратель и провозгласитель всего низкого, отвратительного и развратного, это полное отсутствие чистоты, нахальное ругательство над поэтическою красотою и даже над собственным дарованием ее угадывать и выражать словом, это презрение всякой святыни и циническое, бесстыдно дерзкое противу нее богохульство, дабы, оскорбив всех, кому она драгоценна, угодить всем поклонникам разврата, это вызов на буйство, на неверие, на угождение чувственности, на разнуздание всех страстей, на отрицание всякой власти — это не падший ангел света, но темный демон, насмешливо являющийся в образе светлом, чтобы прелестью красоты заманить нас в свою грязную бездну. Не произнося анафемы над человеком, нельзя не предать проклятию такого злоупотребления лучших даров Создателя. Сколько непорочных душ растлила эта демоническая поэзия, обезобразившая перед ними Божий лик, напечатленный в творении, и загрязнившая в самом источнике жизнь их, предав ее одной грубой чувственности.
Из всего сказанного выше легко определить, что такое дело поэта — как в тесном, так и в обширном его значении. С одной стороны, то есть в тесном смысле художественного произведения, оно состоит в одном исполнении, более или менее совершенном, условий искусства; с другой, то есть в обширном смысле самого художества, оно заключает в себе и действие, производимое духом поэта. Подтверждая здесь то, что так прекрасно и справедливо сказал ты в письме своем, назвав искусство примирением с жизнью, спрашиваю: поэзия в наше время соответствует ли этому определению? Нет! Поэзия нашего времени имеет и весь его характер — характер вулканической разрушительности в корифеях и материальной плоскости в их последователях. Уже нет той поэзии, которая некогда была возвеличением, убранством и утехою жизни, которая, с одной стороны, стремила душу к высокому, идеальному и благородствовала жизнь, украшая ее строгую, часто печальную существенность лилейным венком надежды, а с другой — беззаботно играла с жизнью, забавляя ее, как младенца, фантастическими созданиями, светлыми видениями, подобными в красоте своей минутным цветам луга, радующим взор и претворяющим в благовоние воздух. Такое беззаботное наслаждение поэзиею теперь называется ребячеством. Меланхолическая разочарованность Байрона, столь очаровательная в его изображениях и столь пленяющая глубокою (хотя иногда и вымышленною) грустью поэта, истощившись в приторных подражаниях, уступила место равнодушию, которое уже не презрение и не богохульный бунт гордости (в них есть еще что-то поэтическое, потому что есть сила), а пошлая расслабленность души, произведенная не бурею страстей и не бедствиями жизни, а просто неспособностью верить, любить, постигать высокое, неспособностью предаваться какому бы то ни было очарованию. Это самодельное равнодушие, которым так кокетствуют в наше время поэты, относится к мрачной разочарованности Байрона, как мелкая, искусственная развалина небывалого замка к огромным обломкам Колизея, сокрушенного силою веков, набегами народов и молниями неба. Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и, променяв таинственное святилище своего храма (к которому доступ бывал отворен одним только посвященным) на шумную торговую площадь, поет возмутительные песни толпящимся на ней партиям.
Не должно ли, смотря с унынием и тревогою на то, что кругом нас происходит, терять веру в поэзию и в ее великое земное назначение? Нет! И посреди судорог нашего времени, не заботясь о славе, ныне уже нежеланной и даже невозможной (поелику она раздается всем и каждому на площади подкупными судьями в отрепьях), не думая о корысти, которая всех очумила, поэт, верный своему призванию, скрываясь от толпы, исповедует своему гению:
Не счастия, не славы здесь Ищу я — быть хочу крылом могучим, Подъемлющим родные мне сердца На высоту, — зарей, победу дня Предвозвещающей, великих дум Воспламенителем, глаголом правды, Лекарством душ, безверием крушимых, И сторожем нетленной той завесы, Которою пред нами горний мир Задернут, чтоб порой для смертных глаз Ее приподымать и святость жизни Являть во всей ее красе небесной,—.
Вот долг поэта, вот мое призванье!
Он не впадает в разочарованность, видя, как торжествуют разочарователи; он думает про себя:
Что мне до них, Бесчувственных жильцов земли иль дерзких Губителей всего святого! Мне Они чужие. Для чего Творец Такой им жалкий жребий избрал, это Известно одному Ему; Он благ И справедлив; обителей есть много В дому Отца — всем будет воздаянье.
Но для чего сюда Он их послал —.
О, это мне понятно. Здесь без них Была ли бы для душ, покорных Богу, Возможна та святая брань, в которой Мы на земле для неба созреваем?
Мы не затем ли здесь, чтобы средь тяжких Скорбей, гонений, видя торжество Порока, силу зла и слыша хохот Бесстыдного разврата иль насмешку Безверия, из этой бездны вынесть В душе неоскверненной веру в Бога?..
Поэзия религии небесной Сестра земная, светлолучезарный Маяк, самим создателем зажженный.
Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились С пути. Поэт, на пламени его Свой факел зажигай! Твои все братья С тобою заодно засветят каждый Хранительный свой огнь, и будут здесь Они во всех странах и временах Для всех племен звездами путевыми;
При блеске их, что б труженик земной Ни испытал—душой он не падет, И вера в лучшее в нем не погибнет.
И пусть разрушено земное счастье, Обмануты ласкавшие надежды И чистые обруганы мечты…—.
Об них ли сетовать? Таков удел Всего, всего прекрасного земного!..
Но не умрет живая песнь твоя;
Во всех веках и поколеньях будут Ей отвечать возвышенные души…
Поэт, будь тверд! душою не дремли!
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.
О МЕЛАНХОЛИИ В жизни и в поэзии.
1. ОТРЫВОК ПИСЬМА В «Москвитянине» было напечатано мое письмо о переводе Гомеровой «Одиссеи». В нем между прочим сказано следующее:
«…Какое очарование в этой работе, в этом подслушивании первых вздохов Анадиомены, рождающейся из пены моря (ибо она есть символ Гомеровой поэзии), в этом простодушии слова, в этой первобытности нравов, в этой смеси дикого с высоким, вдохновенным и прелестным, в этой живописности без излишества, в этой незатейливости и непорочности выражения, в этой болтовне, часто чересчур изобильной, но принадлежащей характеру безыскусственности и простоты, и особенно в этой меланхолии, которая нечувствительно, без ведома поэта, кипящего и живущего с окружающим его миром, все проникает, ибо эта меланхолия не есть дело фантазии, созидающей произвольно грустные, беспричинные сетования, а заключается в самой природе вещей тогдашнего мира, в котором все имело жизнь, пластически могучую в настоящем, но и все было ничтожно, ибо душа не имела за границей мира своего будущего и улетала с земли безжизненным призраком; и вера в бессмертие посреди этого кипения жизни настоящей никому не шептала своих великих, всеоживляющих утешений. Кажется, что г-жа Сталь первая произнесла, что с религиею христианскою вошла в поэзию и вообще в литературу меланхолия. Не думаю, чтобы это было справедливо. Что такое меланхолия? Грустное чувство, объемлющее душу при виде изменяемости и неверности благ житейских, чувство или предчувствие утраты невозвратимой и неизбежной. Таким чувством была проникнута светлая жизнь языческой древности, светлая, как украшенная жертва, ведомая с музыкою, пением и пляскою на заклание. Эта незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, есть характер древности и ее поэзии; эта незаменяемость есть источник глубокой меланхолии, никогда не выражающейся в жизни, но всегда соприсутственной тайно, зато весьма часто выражающейся в поэзии. Кто из новейших имеет более меланхолии Горация? Но Горациева меланхолия понятна; она его естественная, неискусственная физиономия, тогда как меланхолия новейших поэтов бывает часто одно кривляние. Христианство и в этом отношении, как и во всяком другом, произвело решительный переворот: там, где есть Евангелие, не может уже быть той меланхолии, о которой я говорил выше, которою все запечатлено в доевангельском мире; теперь лучшее, верховное, всё заменяющее благо — то, что одно неизменно, одно существенно, дано один раз навсегда душе человеческой Евангелием. Правда, мы можем и теперь, как и древние, говорить: земное на минуту, все изменяется, все гибнет; но мы говорим так о погибели одних внешних, чуждых нам призраков, заменяемых для нас верным, негибнущим, существенным, внутренним, нашим; а древние говорили о гибели того, что, раз погибнув, уже ничем заменяемо не было.
2. ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМО На эту статью были сделаны весьма остроумные замечания; прилагаю их здесь с моим на них ответом:
«С большим удовольствием читал я в „Москвитянине“ твои стихи и письмо, твою поэтическую исповедь. Что же касается до меланхолии, то прав и ты, права г-жа Сталь. Впрочем, так и быть должно: нет ничего безусловного и отдельно целого. Конечно, в Горации есть уныние, но это уныние ведет к тому, что надобно торопиться жить, петь и веселиться; а новейшее или. христианское уныние ведет к тому, что уныние есть обязанность, душа жизни. Ты говоришь: там, где есть Евангелие, не может уже быть той меланхолии, которою все запечатлено в доевангельском мире. Нет, где есть Евангелие, там не может или по крайней мере не должно быть отчаяния, а унынию есть место, и большое. Верую, Господи, помоги моему неверию, разве эта молитва не есть вопль уныния? А когда Христос молил, чтобы пронеслася мимо чаша, а когда с него падал кровавый пот, а когда он воскликнул: „прискорбна есть душа моя до смерти“ — разве это не уныние? Религия древности есть наслаждение; ему строили алтари и вся жизнь древняя была служением ему. Религия наша — страдание; страдание есть первое и последнее слово христианства на земле. Следовательно, с Евангелием должно было войти уныние в поэзию — стихия, совершенно чуждая древнему миру, по крайней мере в этом отношении. Не будь бессмертия души, не будет и сомнения и тоски. Смерть тогда сон без пробуждения, и прекрасно! О чем тут тосковать? Все уныние, вся тоска о том, что, засыпая, не знаешь, где и как проснешься; тоска в том, что на жизнь смотришь, как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынется. Незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, в виду чего-то, в виду живого чувства было бы грустно, но в виду бесчувствия, ничтожества она, разумеется, и сама ничто. Кажется, Сенека сказал: „Чего бояться смерти? При нас ее нет, при ней нас уже нет“. Вот вероисповедание древнего мира. А у нас напротив: „Смерть начало всего“. Тут поневоле призадумаешься».
3. ОТВЕТ НА ЗАМЕЧАНИЯ.
… Жаль, что перед глазами моими нет моего письма, напечатанного в «Москвитянине» без моего ведома. Я не помню, что и как в нем сказано; следственно, не могу защищать своих выражений, может быть и ошибочных, ибо письмо написано наскоро. Я, правда, перечитал его и про себя, и потом с Гоголем, но теперь ни слова не помню, и, конечно, многое в нем сказано неопределенно и многие выражения неточны. Мне остается возражать на твои мысли и на твои слова. Мне кажется, что ты в своих положениях ошибаешься, и ошибаешься оттого, что не сделал для себя ясной дефиниции главного предмета, о котором говоришь. Ты смешиваешь два понятия, совершенно разные: меланхолию и печаль, или скорбь (а не уныние, как ты выражаешься; уныние есть только следствие печали, овладевшей душою и преодолевшей силу ее).
Что такое меланхолия? Грустное состояние души, происходящее от невозвратной утраты, или уже совершившейся, или ожидаемой и неизбежной. Причины меланхолии суть причины внешние, истекающие из всего того, что нас окружает и что на нас извне действует. Скорбь или печаль есть состояние души, томимой внутренней болезнию, из самой души истекающею; и хотя причины скорби могут быть внешние, но они, поразив душу, не дают ее ей самой, и скорбь в ней тогда так же присутственна, как и сама жизнь. Меланхолия питается извне; без внешнего влияния она исчезает. Скорбь питается извнутри, и если душа, ею томимая, не одолеет ее, то она обращается в уныние, ведущее наконец к отчаянию; если же, напротив, душа с нею сладит, то враг обращается в друга союзника, и из расслабляющей душу силы (то есть из силы этой скорби, ее гнетущей) вдруг рождается великое могущество, удвоивающее жизнь. Меланхолия есть ленивая нега, есть, так сказать, грустная роскошь, мало-помалу изнуряющая и наконец губящая душу. Скорбь, напротив, есть деятельность, столько же для победившей ее души образовательная и животворная, сколько она может быть разрушительна и убийственна для души, ею побежденной. Из всего сказанного ясно, что никак не должно смешивать понятия меланхолии с понятием скорби. Напоследок главное, существенное различие между меланхолиею и скорбию (я говорю здесь в смысле христианина, для которого в сем отношении нет ничего сомнительного, который все строит на твердом пункте Откровения) — главное различие состоит в том, что меланхолия, грустное чувство, извлекаемое из неверности, непрочности и ничтожности всего житейского, ничем не заменяемого по утрате его, не может быть свойством, внутреннею принадлежностию души, по природе своей бессмертной, а потому и чувствующей явно или тайно свое бессмертие, несовместное с чувством ничтожества, но что она входит в душу извне, из окружающего ее рыхлого мира, как нечто ей постороннее, и к ней прилипает, как нарост, как корка, ей чуждая; тогда как скорбь есть неотъемлемое свойство души, бессмертной по своей природе, божественной по своему происхождению.
но падшей и носящей в себе, явно или тайно, грустное чувство сего падения, соединенное, однако, с чувством возможности вступить в первобытное свое величие. Откровение дает деятельную жизнь сему темному врожденному чувству, приводя его в ясность и указывая на средства исцелить недуг падения. Пока души не преобразовало Откровение, до тех пор она, обретая в себе эту, ей еще неясную скорбь, стремится к чему-то высшему, но ей неизвестному, и чем сильнее внутренняя жизнь ее, тем сильнее и это стремление и тем глубже проникается она этой тайною скорбью. Но как скоро Откровение осветило душу и вера сошла в нее, скорбь ее, не переменяя природы своей, обращается в высокую деятельность, благородствует душу и, не произведя в ней раздора с окружающим миром, оценивает его блага, ничтожные сами по себе, но существенные, когда они подчинены благам вышним, которые их заменяют, не уничтожая временной их значительности в здешнем мире. Эта скорбь есть душа христианского мира. Пока она не оперлась на веру и Откровение, она может повергнуть в уныние и безнадежность, ибо тогда врожденное стремление души не имеет предмета. С верою же (под словом вера я разумею одну только веру в Христа) она ведет к глубокому миру и наконец принимает на себя светлый образ этого мира, при котором все земное становится ясным и все наше драгоценнейшее верным! Это состояние души не есть знание, ибо человек не создан знать, но более, нежели знание: это вера, самый возвышенный, самый свободный и самобытный акт души человеческой, вера—дитя скорби. Блаженный Августин, кажется, говорит: «Мне не нужно знать, чтобы верить, но верить, чтобы знать».
Покажется парадоксам, если сказать, что меланхолия есть элемент мира древнего (здесь под миром древним разумеется классический мир греков и римлян), но оцо так! Я говорю элемент, то есть состав, входящий в образование внутреннего характера жизни древних. Они имели вполне развитую гражданскую материальную жизнь, но не имели дополнения, необходимого этой жизни, того именно, что ее упрочивает и благородствует; их религия принадлежала тесным пределам этой материальной жизни; она не входила во внутренность души, напротив, извлекала ее из самой себя, наполняя внешний мир, ее окружающий, своими поэтическими созданиями, повторявшими в другом только размере все события ежедневной материальной жизни. Но в замене земным утратам ничто не представляла. Отец богов, Юпитер, сам был великий развратник; утешить и подкрепить в бедах он не был способен, принимал экатомбы, но не мог ничего против слепого, безжалостного фатума. Все сокровища были на земле; все заключалось в земных радостях, и все с ними исчезало. Итак, естественно, что душа, ничего, кроме сих изменчивых благ, не имея, к ним с жадностию прилипала и предавалась их наслаждению, отвратив глаза от Парки, во всякое время с ним неразлучной. У каждого на пиру жизни висел над головою, на тонком волоске, меч Дамоклесов; но потому именно, что он у каждого висел над головою, все общею толпою шумели весело на пиру и спешили насытиться по горло. Каждый сам про себя, ясно или неясно, чувствовал, что, когда соберут со стола, уже другого ему не накроют; но, увлеченный общим шумным порывом, не обращал внимания на это чувство или вопреки ему удвоивал свои подвиги на всемирной оргии. Иногда какой-нибудь Гораций, но и тот только для того, чтобы подстрекнуть наслаждение, восклицал посреди этой суматохи:
Лови, лови летящий час!
Он, улетев, не возвратится!
Эти слова меланхолически высказывают печальную истину; но только для того, чтобы сильнее прилепить к милому заблуждению, чтобы наложить новый блестящий покров на скелет жизни. Но этот скелет во всей своей отвратительности выскакивал из цветов, на него набрасываемых беспечностию, когда какой-нибудь простодушный Гомер, совсем не мысля щеголять меланхолическими картинами, приводил своего Одиссея к вратам Аида и заставлял тени умерших высказывать ему тайну жизни. Все это доказывает, что в мире древнем меланхолия (в том смысле, который я к сему слову привязываю), будучи печальным, постоянным элементом самой жизни, потому именно не могла быть высказываема, а только временем бывала ощутительна в ее внешних проявлениях. Древние брали жизнь целиком: спешили вполне ею воспользоваться; наслаждение было их единственною целью; далее здешней жизни ничто им не представлялось. И они умели употреблять ее по-своему; и это искусство употребления жизни особенно выражается в поэзии и в скульптуре; какая верность, свежесть, полнота форм, какое пластическое совершенство! И если что-нибудь меланхолическое проскакивает в этих пленительных, светлых образах, то это как будто ненароком; это тайна, невольно проговорившаяся; это колодник, заключенный в темном подвале под чертогом пиршественным, на минуту вырвавшийся из затвора и пробежавший перед толпою пирующих, чтобы снова попасть в руки тюремщиков и возвратиться в свое темное заключение. Христианство своим явлением все преобразило. И если велик переворот, в жизни общественной им произведенный, то переворот, произведенный во внутренней жизни, гораздо обширнее и глубже. Откровение разоблачило перед человеком его высокую природу и возвеличило человеческую душу, указав ей ее падедие и вместе с ним ее права на утраченное совершенство и блаженство, возвращенные ей искуплением. Из внешнего мира материальной жизни, где все прельщает и гибнет, оно обратило нас во внутренний мир души нашей; легкомысленное, ребяческое наслаждение внешним уступило место созерцанию внутреннему; за всякое заблуждение надежды, ласкавшейся обресть верное существенное в изменяющем внешнем, нашлось вознаграждение в сокровищнице веры, которая все наше драгоценное, все, существенно душе нашей принадлежащее, застраховала на уплату после смерти, в ином мире. Какое же место в этом христианском мире может найти меланхолия, которая не иное что, как тоска посреди разрушения и утрат, ничем не заменяемых, тогда как в христианском мире, понастоящему, нет утрат! Гибнет только то, что не наше; все же, что составляет верное достояние и сокровище нашей души, упрочено ей на всю вечность. До христианства душа, еще не воздвигнутая искуплением, была преисполнена темным чувством падения, тайною, часто неощутительною печалию (эта печаль относительно внешнего есть то, что я называю меланхолиею). Христианство, победив смерть и ничтожество, изменило и характер этой внутренней, врожденной печали. Из уныния, в которое она повергла и которое или приводило к безнадежности, губящей всякую внутреннюю деятельность, или насильственно влекло душу в заглушавшую ее материальность и в шум внешней жизни, оно образовало эту животворную скорбь, о которой я говорил выше и которая есть для души источник самобытной, победоносной деятельности.
Но отчего выражения меланхолии мы не находим в поэзии древней и отчего им так изобильна поэзия христианская? Древние по той же причине не выражали меланхолий в идеальных произведениях поэзии и искусства, по которой они ее выгнали из своей действительной жизни. И мы видим, как все эти произведения чисты и далеки от всякой туманности, от всякой таинственности, придающей такую прелесть произведениям поэтов и артистов неклассических. Жизнь древних отразилась перед ними в созданиях искусства, во всей ее пластической определенности. (Ибо что иное искусство, как не слепок жизни и мира, сделанный таким точно, каким видит и понимает его душа наша?) Как же очутилось выражение меланхолии в поэзии христианской? Сперва надобно сделать в этом вопросе маленькую поправку: не в поэзии христианской, а в поэзии по распространении христианства. Великая разница. Поэт, наполненный духом Евангелия, поэт-христианин не может ни сам предаваться той меланхолии, о которой говорено выше, ни передавать ее поэзии. Его вдохновение имеет иной характер. В Данте нет меланхолии; в Шекспире ее нет; в Вальтер Скотте ее не найдешь. Но между тем она одна из самых звучных струн романтической лиры (то есть лиры, настроенной после распространения христианства). Этот феномен изъяснить не трудно: христианство открыло нам глубину нашей души, увлекло нас в духовное созерцание, соединило с миром внешним мир таинственный, усилило в нас все душевное — это отразилось в жизни действительной: страсти сделались глубже, геройство сделалось рыцарством, любовь — самоотвержением; все получило характер какой-то духовности. Это равномерно отразилось и в поэзии: и точно, как древний поэт схватывает живо, свежо и резко окружающие его материальные образы, и только поверхностно, но с удивительною верностью изображает страсти, столь же поверхностные, как и их изображения; поэт романтический, менее заботясь о верности своих очерков, менее заботясь о красоте пластической (в изображении которой, впрочем, и не сравнился бы он с древними, успевшими прежде его схватить все главные черты), углубляется в выражение таинственного, внутреннего, преследует душу во всех ее движениях и высказывает подробно все ее тайны. Теперь пускай поэт романтический, введенный христианством во все тайны души человеческой, не будет в собственной душе своей иметь христианского элемента; пусть будет он по своему вероисповеданию язычник (а язычник- романтик гораздо более язычник, нежели язычник- классик; сей последний — язычник по незнанию, а тот язычник по отрицанию), пусть будет он христианин только по эпохе, в которую живет, и неверующий по своему образу мнения и чувствования — в какую бездну меланхолии должна погрузиться душа его, обогащенная всеми сокровищами отрицаемого им христианства! В этом арсенале, то есть в арсенале меланхолии, найдет он самое сильное свое оружие, древним неизвестное, и тем сильнейшее, что оно будет в противоположности с окружающим его миром и что он сам от оппозиции с этим миром присоединит к сильному меланхолическому чувству силу негодования и презрения. Пример Байрон: конечно, обстоятельства жизни помогли освирепеть его гордому гению; но главный источник его меланхолического негодования есть скептицизм. Как поэтическая краска, меланхолия из всех поэтических красок самая сильная; поэзия живет контрастами. Самые привлекательные характеры-{то есть поэтически привлекательные) в поэзии суть те, которые наиболее возбуждают чувство меланхолическое: Сатана в Мильтоновом «Раю», Аббадона у Клопштока. В христианском мире, где все ясно и прочно, картины меланхолические никого не пугают; мы наслаждаемся ими, как человек, сидящий на берегу, наслаждается зрелищем бури. И поэты романтические до излишества пользуются сим действительным способом производить поэтические впечатления. Но их меланхолические жалобы, несовместные ни с христианскою скорбью, ни с христианским покоем, из этой скорби истекающим, могут быть трогательны и действительны только тогда, когда выражают не вымышленные, а действительные страдания души, томимой чувством собственного ничтожества и неверности всего, что мило ей на свете, тем более резким, что они сами бежали с отвергнутого ими неба или не имели силы войти в его врата, отворенные христианством, и плачут о нем, в виду его света, как Аббадона, или негодуют на него, как Сатана, его оттолкнувший. Самый меланхолический образ представляет нам Сатана. Он пал произвольно; он все отверг по гордости; он все отрицает, зная наверное, что отрицаемое им есть истина. Итак, божественное ему ведомо, и оно было его собственностию, и он, зная его, произвольно свое знание отрицает… неверие с ясным убеждением, что предмет его есть верховная истина и что эта истина есть верховное благо, — что может быть ужаснее такого состояния души и в то же время что грустнее, когда представишь себе, что сей произвольный отрицатель был некогда светлый ангел?
Надобно кончить. Но я написал свое длинное рассуждение (короче написать не умел) по поводу твоих возражений, а, собственно, в ответ на твои слова не сказал ничего. Следует на минуту и к ним обратиться. «Конечно, — говоришь ты, — в Горации есть уныние, но это уныние ведет к тому, что надобно торопиться жить, пить и веселиться». И я то же говорю; и эта поспешная жадность хватать наслаждение есть признак боязни, что оно быстро уйдет и навеки. «Христианское уныние ведет к тому, что уныние есть обязанность, душа жизни». Христианского уныния нет, а есть христианская скорбь; она не есть обязанность; она истекает из самой природы падшего и чувствующего свое падение человека; и потому она может назваться душою жизни; но она не парализует, не расслабляет и не мрачит жизни, а животворит ее, дает ей сильную деятельность и стремит ее к свету. Без веры сия скорбь могла бы привести к унынию и отчаянию; с верою она ведет к светлому миру и смирению. «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Эту молитву я слишком знаю, но она есть крик не уныния, а скорби, и если этот крик вырывается из глубины сердца, то на него будет ответ несомненный, ибо сердце знает, к кому вопиет; знает, что этот им призываемый ему внемлет, что вера есть величайший дар его благодати и что он дает ее, когда произвольно и покорно протянешь руку для принятия его дара. Спаситель на горе скорбел, как человек, но он не унывал, и в эту минуту предпоследнего его земного поприща выразился в нем весь им преобразованный человек, во всей силе своего земного страдания (душа моя прискорбна до смерти; да пройдет чаша мимо) и во всей божественности своего ведущего к небу смирения (не яко же Аз хочу, но яко же Ты). Страдание и молитва на горе Елеонской есть верховное изображение жизни христианина, которая. вся выражается в одном слове: смирение. «Религия древних есть наслаждение; ему строили алтари и вся жизнь древних была ему служением». Это совершенная правда, но это говорю и я. «Религия наша есть страдание; оно первое и последнее слово христианина на земле». Вернее сказать, религия наша есть утешение; страдание есть принадлежность жизни. Ни мы сами не найдем, ни постановления гражданские не создадут для нас такого счастия земного, которое было бы без утрат, и никто не выгонит из жизни испытующего или губящего ее несчастий, из нас самих или из обстоятельств внешних истекающего. Одна религия — и религия христианская (ибо другой быть не может) — заговорила несчастие, заменила высшими, прочными благами блага минутные, и страдание, столь противное безверию, превратилось в драгоценнейшее земное сокровище. Что перед этим наслаждение (то есть наслаждение, взятое как главная пружина жизни)? Чувственное раздражение души, повергающее ее наконец в такое же состояние, в какое излишнее употребление опиума повергает тело. И что должно таиться в глубине той жизни, которая этому идолу строит алтари и ему одному себя покоряет? «С Евангелием должно было войти уныние в поэзию». Правда! То же говорю и я; но это уныние, вошедшее вместе с Евангелием в поэзию, не из Евангелия вышло. Это объяснено выше.
Последняя твоя фраза весьма замечательна, как остроумное злоупотребление слова: «Не будь бессмертия души, не будет сомнения и тоски; смерть тогда сон без пробуждения, и прекрасно! О чем тут тосковать? Все уныние, вся тоека в том, что, засыпая, не знаешь, где и как проснешься; тоска в том, что на жизнь смотришь как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынешь. Незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, в виду чего-то, в виду живого чувства была бы грустью; но в виду бесчувствия, ничтожества она и сама ничто. Кажется, Сенека сказал: „Чего бояться смерти? При нас ее нет, при ней нас уже нет!“ Вот вероисповедание древнего мира. А у нас напротив: смерть начало всего! Тут поневоле призадумаешься». Читая это, подумаешь, что оно написано не живым, а мертвецом, заснувшим тем непробудным сном, который так приятен и роскошен, когда он уже наступил и когда начал нежить усталые члены сибарита, им улелеянного и вбирающего в себя всю сладость усыпления, всю роскошь бесчувствия и самозабвения; подумаешь, что полупробужденный на минуту каким-нибудь гальваническим процессом, этот мертвец высказал, без своего ведома, свою могильную тайну живущим, из которой следует, что сон ничтожности покоен. Хорошо для мертвых; но какая польза от этой тайны живущим, пока они живы, пока они действуют, любят, замышляют великое, страдают, терпят гонение и проч. и проч. Хорошо же твое вероисповедание древнего мира! Если оно подлинно таково, то что безнадежнее и мрачнее? Если оно подлинно таково, то поневоле, как говоришь ты, призадумаешься; поневоле примешься потом плясать, пить, веселиться и петь, чтобы как-нибудь докружиться до этого сна беспробудного, столь сладкого, как мгновенное последнее событие, и столь печального, как цель долговременной целой жизни. Чтобы отвечать ясно на твою последнюю фразу, надобно просто ее переписать, с некоторыми только вставками. Не будь бессмертия души, не будет и сомнения, а будет, напротив, полное убеждение, что жизнь есть дело случая, преданная во власть слепой необходимости, без ободрительного будущего, с прошедшим, навеки утраченным, с одною мечтательною минутою настоящего, которую скорее надлежит заклеймить наслаждением, чтобы хоть что-нибудь урвать (без надежды его сохранить) у мимолетящего призрака жизни; не будет и тоски, то есть не будет стремления ни к чему, обещаемому надеждою, упроченному верою, ни к чему еще не нашему, но верному и заменяющему с лихвою наше здешнее неверное; смерть тогда сон без пробуждения, и это совсем не прекрасно! И есть о чем тут тосковать тому, перед кем мерещится вдали один только этот сон как итог, как последний результат жизни; эта вся тоска особенно состоит в том, что, засыпая, он не знает, где и как проснется; не знает потому, что смотрит на жизнь сквозь черное стекло скептицизма, а не при свете истины Спасителя, который говорит: «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте; в дому Отца Моего обители многи суть; иду уготовить место ваше, да и вы там будете, где Я буду». Вся тоска в том, что он смотрит на жизнь как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынется; и смотрит так потому, что, заключив эту жизнь в тесных пределах здешнего праха, хочет ее разгадать своим умом, строящим свои доказательства из того же праха, по закону необходимости, признаваемой гордостью его за свободу, и не спрашивается с вечным откровением, которое на всё даст ответ удовлетворительный, которое в мнимом лоскутке показало бы ему вечное целое, истолковало бы ему непонятую им программу, в которой все содержание жизни с ее начала до вечности подробно означено, и убедило бы его, что жизнь не билет лотерейный, вынимаемый Паркою из урны фатума, а вечный жребий, благодатно даруемый свободной душе любовию и правосудием спасающего Бога. Следующих строк я не совсем понимаю, почему и прохожу их мимо. А Сенека, по своему обыкновению, сумничал: мысль его в переводе на здравый смысл можно выразить так: пока мы живы, то еще не умерли; а когда умерли, то уже не живы. Нужно было играть словами, чтобы сказать такую великую истину! Наконец, последнее: «а у нас напротив: смерть начало всего! Тут поневоле призадумаешься». Подумаешь, что, поставив эту смерть в противоположность с вероисповеданием древних, ты хочешь тем сказать, что у них всему начало жизнь. Правда, у древних все жизнь, но жизнь, заключенная в земных пределах; и далее ничего: с нею всему конец. У христиан всё смерть, то есть всё земное, заключенное в тесных пределах мира, ничтожно, и всё, что душа, — нетленно, всё жизнь вечная. И всё это оттого, что у них есть Один, Который смертию смерть попра и сущим в гробех живот дарова!