История.
Риторика
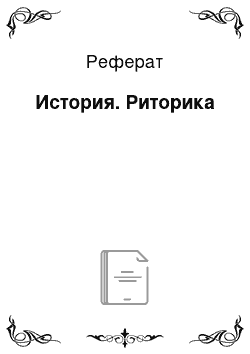
А расправа с Новиковым, «просветителем», типичным «культурником» (если употребить позднейшую терминологию революционного движения), расправа с человеком, главную цель жизни видевшим в организации издательства полезных книг, в борьбе против варварских понятий, против предрассудков, против умственного мрака, эта гибель человека, который был одним из умеренных масонов, показывала, что раздражение… Читать ещё >
История. Риторика (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Симптоматично, что первая фраза лекции выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского (1841—1911) построена с употреблением градации. Стилистическими приемами наполнен весь текст. Прежде чем приступить к изложению «преданий старины глубокой», Ключевский талантливо характеризует предмет своей речи — историю России XVIII в. — при помощи доступных воображению слушателей образов. Вся противоречивость исторических событий, представляющаяся неискушенному уму, исчезнет перед вдумчивым исследователем — вот мысль, которая внедрятся лектором в сознание слушателей, создавая у них ощущение таинства, обещая радость открытий, настраивая на серьезное изучение материала.
«История России в XVIII в. производит впечатление каприза, неустойчивости, непоследовательности. По крайней мере, такое впечатление выносили многие, начинавшие изучать ее. Им казалось, что направление дел в России этого времени зависело только от усмотрения людей, руководивших делами, что у этих людей не было никаких ясных целей, а сами дела не следовали никакому обдуманному порядку, лишены были определенных принципов. Недаром этот век нашей истории долго считался у нас временем случайных людей и неожиданных дел. Сколько переворотов и народных мятежей испытала тогда Россия! Сколько раз правительство меняло направление своей деятельности! Сидела на престоле императрица Анна, мало заботившаяся о просвещении, и время ее представляется эпохой мрака и невежества. Но вступила на тот же престол ревнительница наук и искусств Екатерина Вторая, и просвещение разлилось по России. Петр Третий освободил дворянство от тяжкого бремени обязательной службы, и дворянская гвардия свергла Петра III с престола.
Верно ли это впечатление? Едва ли; по крайней мере, оно маловероятно. Во внешней природе чем больше, массивнее тело, тем его труднее поворачивать и передвигать; то же самое и в исторической жизни; а в Европе XVIII в. не было политического тела более массивного и менее подвижного, чем была Российская империя по своей обширности, по своему этнографическому составу, наконец, по своему политическому складу. Такие массивные тела как в природе, так и в истории движутся или покоятся больше, но инерции, чем по воле своих двигателей. Отчего же происходит впечатление, производимое на многих жизнью русского общества XV—XVIII вв. — того общества, которое до этого времени двигалось, по-видимому, с такой обдуманной медлительностью, с такой закономерной неповоротливостью, повинуясь своим инстинктам и привычкам, заветным дедовским преданиям?
Позвольте мне ответить на этот вопрос простеньким сравнением. Железнодорожный поезд, конечно, представляет собою прибор более массивный, чем простая русская телега, и в нем строже соблюдены законы механики, чем в этом экипаже. Между тем на зрителя наивного, мало знакомого с машинным делом, тот и другой прибор передвижения производит впечатление, совсем не соответствующее их составу. В движении телеги он не видит ничего капризного, неожиданного, потому что весь несложный механизм ее открыт, доступен его наблюдению и пониманию. Наблюдатель видит, что возница дергает вожжами, как лошадь напирает грудью на хомут и ставит ноги в наклонное положение, как вслед за ее шагами начинают вертеться все четыре колеса. Наивный наблюдатель видит и понимает, какие силы и в какой последовательности приводятся в движение, чтобы тронуть с места пару седоков, и он не находит в этом движении ничего капризного.
Совсем другое дело железнодорожный поезд: раздастся третий звонок, машинист повернет там что-то, взлетит со свистом струйка белого дыма и десятка два больших ящиков с целым уездным городом пассажиров тронутся и побегут на своих шестидесяти парах колес. Каким волшебником должен показаться наивному зрителю этот машинист, одним поворотом винтика или рычажка производящий такое механическое чудо!
…Дело в том, что жизнь русского общества в XVIII в. стала гораздо сложнее, чем была прежде. Не все ее пружины с их тонкими связями заметны при первом взгляде; вот почему ход этой жизни кажется поверхностному наблюдателю капризным и неожиданным: этот ход кажется ему капризным потому, что он ему непонятен, неожиданным потому, что его труднее было предвидеть"[1].
Фрагмент лекции выдающегося советского историка Евгения Викторовича Тарле (1874—1955) иллюстрирует умелое использование средств выразительности, в особенности повторов и эпитетов. Прекрасно использована фразеология {"Шемякин суд") и прецедентные феномены («Скотинин в генеральском мундире»). Прямая речь персонажей создает у слушателей ощущение вовлеченности в историческое действо.
«Когда Екатерину разгневал и встревожил Радищев, виновный, главным образом, в том, что он ненавидел самодержавный произвол и крепостное право, она засадила его в крепость и «препоручила» его, как выразился в своем «Дневнике» от 2 июля 1790 г. ее секретарь Храповицкий, Шешковскому, тому самому, который на вопрос Потемкина: «Что, Степан Иванович, как кнутобойничаешь?» отвечал без ложной скромности: «Помаленьку, ваше сиятельство, помаленьку!».
В течение нескольких дней с 26 июня 1790 г., когда Екатерина впервые заговорила о книге Радищева, и вплоть до 7 июля она не переставала изучать эту книгу и возмущаться автором, «который бунтовщик хуже Пугачева». И все это было Храповицкому «говорено с жаром и чувствительностью».
Эта «чувствительность» императрицы привела к тому, что уже с 30 июня Радищев сидел в Петропавловской крепости и допрашивался Шешковским.
…Следствие и судопроизводство поведены были очень быстро, за правосудием уголовной палаты дело не стало, и уже 24 июля (1790 г.) Радищев был приговорен к смертной казни.
А расправа с Новиковым, «просветителем», типичным «культурником» (если употребить позднейшую терминологию революционного движения), расправа с человеком, главную цель жизни видевшим в организации издательства полезных книг, в борьбе против варварских понятий, против предрассудков, против умственного мрака, эта гибель человека, который был одним из умеренных масонов, показывала, что раздражение и испуг Екатерины в годы французской революционной бури превзошли всякие пределы. Долгое палачество над Новиковым — одно из многих (и наиболее позорных) черных пятен на исторической репутации Екатерины, и личная отвратительная роль императрицы в беспощадном преследовании ни в чем неповинного даже с точки зрения тогдашних законов человека не подлежит ни малейшему сомнению. Догадки, будто Екатерина всерьез поверила одному из обвинений, выдвинутых против Новикова, и решила, что он — друг п агент прусского двора, что он участвует в немецкой интриге в пользу Павла Петровича, — эти догадки, выдвинутые некоторыми исследователями, конечно, могут (если даже признать, что она во все это верила) лишь отчасти объяснить ярость императрицы. Заговор «мартинистов», выдуманный Екатериной и полуграмотным солдатом князем Прозоровским, следователем по делу Новикова, представился ей чем-то вроде якобинского заговора. Приговор императрицы по делу Новикова смело конкурирует по своей гнусности, по своей циничной и наглой бессовестности и по лицемерию с приговором по делу Радищева. Быть может, взвешивая все обстоятельства, приговор о Новикове субъективно даже еще гнуснее, так как сама Екатерина явно не верила в возможность что-либо твердо установить о «преступлениях» Новикова: она его даже не решилась отдать под суд, под Шемякин суд своей уголовной палаты, а предпочла покончить [с ним] личным своим указом.
1 августа 1792 года был подписан этот позорный акт, кончающийся словами: «Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровенных своих замыслов, по вышеупомянутые обнаруженные и собственно им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однакож, в сем случае, следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили его от оной и повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость». Если Новиков просидел в Шлиссельбурге не пятнадцать лет, а всего четыре года, то это случилось потому, что Павел I тотчас после вступления на престол освободил его.
Таковы эти черные деяния императрицы. Она ведь была достаточно умна, умнее всех своих самых умных приближенных, чтобы понять всю справедливость слов Потемкина по поводу этого злобного и грубого Скотинина в генеральском мундире, князя Прозоровского, которому она отдала бесконтрольную власть над Москвой (и которому поручила раскрытие «заговора» Новикова и мартинистов). Вот что писал ей князь Григорий Александрович о назначении Прозоровского в Москву: «Ваше величество выдвинули из вашего арсенала самую старую пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому, что своей собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества».
Но на этот раз славолюбивая императрица, очень и очень заботившаяся о своей «гуманной» репутации, не обратила на слова любимого и почитаемого его человека ни малейшего внимания.
«Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит», — написала Екатерина в своем «Наказе». За двадцать два с лишком года, прошедшие между изданием «Наказа» и жестоким преследованием Радищева и Новикова, Россия сделалась гораздо более «пространным государством», чем была, и, по логике рассуждения Екатерины, самодержавная власть русской императрицы должна была ограждаться еще бдительнее, чем раньше. В успехах своей внешней политики она усматривает полное оправдание своих безобразных действий в расправе с предполагаемым противником ее самодержавной власти"[2].