Религиозно-цивилизационный фундамент и особенности развития стран Дальнего Востока
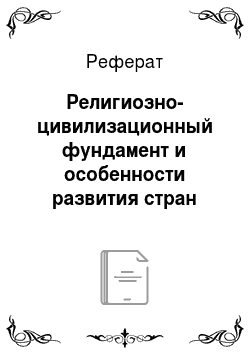
Словом, начиная с середины XIX в., традиционный Китай не был закрыт для перемен. Напротив, несмотря на мощный пласт традиционного фундамента, он был открыт для трансформации, которая и составляла едва ли не главное внутреннее содержание развития страны за последние теперь уже почти полтора века. В отличие от Японии, даже от пореформенной России, Китай был не столько сильнее скован традицией… Читать ещё >
Религиозно-цивилизационный фундамент и особенности развития стран Дальнего Востока (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Цивилизационным фундаментом всего Дальнего Востока, включая Китай, Японию и Корею, следует считать китайское конфуцианство. Наряду с ним с первых веков нашей эры здесь стал играть активную роль и появившийся из Индии буддизм, который в Японии и Корее порой становился идеологически господствующим. Параллельно здесь существовали также местные религии типа даосизма и синтоизма. Но именно конфуцианство всегда составляло основу. В чем это проявлялось и как это сказалось на развитии стран Дальнего Востока, особенно Китая и Японии?
Конфуцианство в Китае в XX в.
Во второй половине XIX и особенно в начале XX в. традиционное китайское конфуцианство постепенно теряло свое значение. Конечно, оно во многом по-прежнему определяло систему ценностей страны и народа, принципы жизни китайцев, основы их мировоззрения и менталитета. В этом смысле каждый китаец оставался, даже если он не сознавал этого, конфуцианцем. И все же конфуцианство как господствующая доктрина, генеральный принцип жизни под ударами извне давало трещины, сквозь которые в империю проникали новые веяния — от христианства, под знаком которого формировались идеи тайпинов, до различных европейских социополитических идей, как либерально-демократических, так и радикальных, включая различные формы социализма, анархизма и коммунизма. Таким образом, проблема для стран, о которых идет речь, сводилась к тому, чтобы оптимально сочетать традиционные и заимствованные идеи и институты и на этой синтетической основе создать определенный фундамент для строительства на нем нового Китая.
Что же внесла в создание этого фундамента традиция, прежде всего конфуцианская, и что в нем появилось нового? Собственно, к ответу на этот весьма важный вопрос и должен привести предлагаемый анализ. Сначала несколько слов о традиции, религиозно-цивилизационном фундаменте старого Китая, о его ценностях, ориентированных в первую очередь на ценности конфуцианства. В самом сжатом виде это можно изложить в форме нескольких тезисов.
> Китай в принципе не религиозен и в отличие от индобуддийской либо исламской цивилизации считает наивысшим смыслом существования людей достижение этической нормы и социальной гармонии в рамках мудро управляемого государства. К этому призывали Конфуций и конфуцианцы, и это было основной заботой достойных правителей еще доконфуцианского прошлого (от легендарных Яо, Шуня и Юя до вполне реальных Вэнь-вана и Чжоу-гуна), на мудрость которых не уставал ссылаться Конфуций.
> Мудрость разумного правления, обеспечивающего социальную гармонию, отрабатывалась веками и закреплялась в социальном генотипе, на страже которого и стояли конфуцианцы. Неудивительно, что единственно достойной, заслуживающей внимания мудростью в Китае всегда считалась именно она, так как только она способна научить людей жить по правилам, как-то и подобает цивилизованному человеку, т. е. китайцу. Отсюда логичный вывод: лишенные этой мудрости народы суть жалкие варвары, у которых китайцам нечему учиться и которые, войдя в соприкосновение с жителями Поднебесной, сами рано или поздно китаизируются и конфуцианизируются, чему немало примеров дает давняя история взаимоотношений Китая с его соседями, включая и завоевывавшие Китай народы.
> Но коль скоро мудрость известна и истина познана, причем именно китайскими мудрецами, то любое новое слово заслуживает внимания лишь постольку, поскольку оно сочетается с конфуцианской традицией и камуфлируется в ее одежды. Разумеется, новизна его от этого тускнеет, а сущность может всерьез трансформироваться, но традиционная мудрость от этого лишь выиграет, окрепнет, обрастет новыми идеями, которые позволят ей выжить и даже расцвести в новых условиях существования. Для этого конфуцианская мудрость имеет надежный механизм самосохранения и самосовершенствования, который сводится главным образом к мобилизации умных и способных, т. е. к концентрации мозговых усилий всех тех, кто на это способен (речь прежде всего о тройном сите конкурсного отбора, в результате которого к власти в бюрократической иерархии империи приходят лучшие знатоки конфуцианства).
> Система в целом бдительно следит за престижем мудрости и священного канона, в котором она запечатлена, за строгим стандартом конфуцианского ученого-чиновника, в котором она воплощена. Конечно, чиновник — не идеал цзюньцзы. Но он обязан ориентироваться на этот идеал, и именно потому публичное уличение его во взятке, в коррупции важно не столько с точки зрения правосудия и правовой нормы, сколько с позиций этической нормы. «Потеря лица» в традиционном Китае всегда означала гражданскую смерть для чиновника, для любого образованного интеллектуала.
> Стремление к постоянному постижению мудрости древних, к самоусовершенствованию на основе выработанных ими предначертаний, к примату высокой морали, с которой не идет ни в какое сравнение низменная материальная выгода (хотя при этом всегда имеется в виду, что высокая мораль в статусе чиновника очень неплохо материально вознаграждается), — таков эталон поведения в Китае. Этот эталон, выработанный для тех, кто встал над обществом, был известен всем, кто учился, с юности (да и остальным, но в меньшем объеме), воспет в литературе, всегда высоко почитался в реальной жизни и приносил немалую практическую пользу каждому, кто добивался успеха в карьере. Не богатый и знатный, но следующий мудрости древних конфуцианский ученый-чиновник всегда стоял на вершине престижных ценностей в старом Китае.
> Успех на этом пути дается избранным —умным и способным — нелегко и только трудом и старанием. Готовый к карьере должен с раннего детства постоянно и упорно трудиться, и лишь в этом случае он может достигнуть цели. Вообще культура и высокая дисциплина труда, как умственного, так и физического, — важнейший элемент конфуцианской цивилизации.
> Форма, ритуал, церемониал — основные способы закрепления и сохранения нормы, консервации социального порядка, обеспечения строгой организации общества, дисциплины и послушания. Общество в целом, как и его части, социальные корпорации (включая семью), всегда стояли и должны стоять на страже формы, главной сутью которой является строгий принцип патернализма. Почтение к старшим, забота о младших, культ предков и патернализм взрослых по отношению к детям — вот основа порядка в семье и обществе, а долг как социальная категория намного выше чувства, особенно личностного, зачастую диктуемого неконтролируемыми эмоциями, включая низменные суеверия.
В этом пункте конфуцианство всегда соприкасалось с противостоявшим ему полюсом в биполярной системе идейнодоктринального фундамента китайской традиции, т. е. с мистикой и метафизикой даосов и буддистов, во многом ориентированных на чувства крестьянской массы, особенно в критические периоды истории страны. Система, о которой идет речь, всегда находилась в состоянии неустойчивого баланса. В длительные периоды функционирования крепкой центральной власти конфуцианский полюс преобладал, порой абсолютно. В сравнительно краткие, но бурные периоды кризиса на передний план выходил даосско-буддийский полюс с его бунтарскими эгалитарноутопическими идеями, магией и мистикой. Впрочем, за эгалитаризмом всегда легко просматривалась все та же конфуцианская в основе идея, так как восставшие стремились к регенерации нарушенной кризисом нормы, т. е. в конечном счете к возрождению сильного централизованного государства, в котором традиционно управляли бы все те же ученые-конфуцианцы, знатоки великой мудрости древних, отстаивавшие генеральный для китайской цивилизации принцип социальной гармони и справедливости, равенства жребия для каждого, кто обладает соответствующими потенциями и стремлениями.
Таким образом, конфуцианская в своей основе религиозноцивилизационная традиция старого Китая во многом определяла судьбы этой страны в XIX и XX вв. Открытая для заимствований и даже достаточно охотно перенимавшая чужие идеи традиционная китайская мудрость тем не менее имела определенный предел, потолок заимствований, не говоря уже о практике переработки чужих идей до неузнаваемости. Выработанная веками практика трансформации чуждого интеллектуального потенциала создала определенные стереотипы, согласно которым перенималось прежде всего то, что как-то созвучно своему, привычному, и поэтому может укрепить хорошо известное свое, придав ему новые возможности. Именно это было продемонстрировано в случае с тайпинами, а позже стало лозунгом в официальной политике самоусиления. Это же определило отношение к европейским идеям и институтам, от демократии и либерализма до социализма и коммунизма, после крушения империи.
Идеи равенства и справедливости, поиск социальной гармонии и ориентация на стремящегося к ней, ищущего ее авторитетного лидера-мудреца — в крови китайской традиции. Отсюда с легкостью воспринятая Китаем идея революции с ее ориентацией на лозунги Сунь Ят-сена. Отсюда же и взлет влияния компартии во главе с Мао. Идея о ведущей роли государства и аппарата власти с его бюрократической иерархией опять-таки в крови китайской традиции с ее неизменной ставкой на централизованное регулирование хозяйства. Именно это проявило себя в период самоусиления, равно как и в годы весьма успешных экспериментов гоминьдановского правительства до Второй мировой войны, и наконец, в период экспериментов Мао в КНР. Привычное отношение к частному предпринимательству как к поискам низменной выгоды, наносящим вред обществу в целом, определило и жалкое положение частного китайского капитала в годы самоусиления, немногим лучший его статус в период власти в стране гоминьдановцев, особенно до Нанкинского десятилетия, и тем более его ликвидацию при Мао.
И еще одно, очень существенное. Китаем всегда должны править мудрые правители, опирающиеся на хорошо знающих господствующую доктрину помощников. В свое время это были императоры с их конфуцианскими чиновниками, рекрутировавшимися посредством системы экзаменов, а также с многочисленными шэньши, составлявшими их опору на местах. При гоминьдановцах во главе страны стояли лидеры этой партии, опиравшиеся на хорошо знакомых с теорией Сунь Ят-сена функционеров, включая и военных. При Мао их место заняли активисты КПК, которые получили сводное наименование ганьбу, кадровые работники-профессионалы. В этой генеральной схеме, как легко заметить, практически не было места тем институтам, которые не вписывались в традицию либо решительно противоречили ей. Нет слов, колониальный капитал немало сделал для того, чтобы разложить изнутри традиционную хозяйственную, а затем и социополитическую структуру империи. Промышленное и торгово-экономическое развитие Китая в XX в. создало благоприятные условия для становления частного предпринимательства и проникновения в Китай соответствующих западных принципов и институтов. Однако приспособление мощной традиционной структуры к этим новшествам шло столь замедленными темпами и встречало столь яростное сопротивление (речь не только о восстании ихэтуаней, хотя оно говорит само за себя), что успехов в данном направлении было немного, даже несмотря на порой официальное поощрение со стороны государства, особенно гоминьдановского. Парадоксальный факт: те самые китайцы (хуацяо), которые во всей Юго-Восточной Азии, да и во многих других районах мира, вплоть до Америки, столь успешно проявляли себя на протяжении веков в качестве весьма динамичной и активной группы торговцев, а затем и удачливых предпринимателей, у себя дома оказывались совсем другими. И если задаться вопросом, что же им мешало, то ответ будет один: мощная государственная машина, т. е. бюрократический аппарат, опиравшийся на веками апробированную конфуцианскую традицию.
Формально эта традиция в XX в. уже как бы не признавалась, а китайский парламент вскоре после синьхайского политического переворота даже принял на этот счет (правда, крайне мизерным большинством) официальное решение, отвергнув конфуцианство как государственную идеологию.
Но реально традиция продолжала функционировать, время от времени даже весьма активно и демонстративно. Именно она лежала в основе поведения китайского крестьянства — того самого, которое накладывало свой заметный отпечаток на весь ход событий в Китае в первой половине XX в. и в частности привело к победе КПК. И когда мир с удивлением следил за гигантскими социальными экспериментами Мао, стремившегося загнать огромную страну в коммунистическую казарму, в самом Китае этот процесс воспринимался несколько иначе. Пусть не во всем, но в целом он вписывался в привычные нормы поиска социальной справедливости, государства высшей гармонии, управляемого обладающим харизматическим авторитетом великим мудрецом. Иными словами, традиция и здесь если формально и не вышла на передний план, то подспудно оказывала едва ли не решающее воздействие, причем традиция в ее полном объеме, включая не только конфуцианство, но и даосско-буддийский полюс со всей свойственной ему мистикой и магией, столь хорошо заметными на примере культа самого Мао.
Но, учитывая все сказанное, нельзя не видеть и другого. В ходе длительного и болезненного приспособления старого Китая к новым, условиям существования в стране многое менялось. Новые, в том числе заимствованные извне институты, нормы, стереотипы поведения постепенно усваивались, пусть в весьма трансформированном виде. Менялась традиционная система образования, ориентированная теперь на европейские стандарты. Это влекло за собой изменения в образе жизни и мышления новых поколений грамотного и образованного слоя людей, по-прежнему традиционно управлявших страной. Развивались города, превращаясь в центры современной промышленности и культуры. Экономика Китая, несмотря на все потрясавшие ее войны и восстания, деструктивные социальные катаклизмы и эксперименты, не только не разваливалась, но даже постепенно укреплялась, что во многом достигалось за счет упорства и трудолюбия, организованности и дисциплины, традиционной культуры труда населения. Развивалась инфраструктура современного типа. В общем, традиционно практичный и прагматичный Китай как бы интуитивно, порой вопреки его признанным лидерам, усваивал все то полезное, что могло пригодиться для последующего процветания страны. И пусть этот процесс усвоения был непоследовательным и противоречивым, пусть он то и дело встречал яростное сопротивление как со стороны традиции, так и в лице экспериментаторов вроде Мао, тенденция все же ощущалась.
Словом, начиная с середины XIX в., традиционный Китай не был закрыт для перемен. Напротив, несмотря на мощный пласт традиционного фундамента, он был открыт для трансформации, которая и составляла едва ли не главное внутреннее содержание развития страны за последние теперь уже почти полтора века. В отличие от Японии, даже от пореформенной России, Китай был не столько сильнее скован традицией, сколько просто по-другому ориентирован и ограничен ею. Сила государства и бюрократической власти, помноженная на веками отработанную технику управления, опирающаяся на многотысячелетнюю общепризнанную традицию, не могла быть сломлена с легкостью, тем более что речь шла не столько о ломке одряхлевших институтов, сколько о крушении привычных стандартов бытия, о радикальной трансформации веками воспитывавшегося социального сознания. Но при всем том прагматичный Китай воспринимал, причем весьма избирательно, из потока нахлынувшего в страну нового именно то, что было ему наиболее близко и понятно, что хоть как-то вписывалось в хорошо знакомые ему нормы, порядки и ценности. Неудивительно и то, что все новое в китайских условиях привычно трансформировалось и приспосабливалось, обретая несколько иные формы, а порой и иное содержание, будь то промышленное развитие или идеи социализма.
Существенно и еще одно обстоятельство. Китай не стал, да и не мог стать легкой добычей колониального капитала. Вовсе не случайно также и то, что в отличие от Индии эта страна оказалась не по зубам державам, включая и агрессивную Японию. Здесь вновь сказалась сила традиции. Можно, иногда даже сравнительно легко, завоевать эту империю, но практически невозможно быстро и с легкостью трансформировать ее. Китай не раз был завоеван, но при этом всегда оставался Китаем, тогда как его завоеватели неизменно «окитаивались». Практически это значит, что колониальные державы не могли рассчитывать на превращение Китая в колонию, в чем с наибольшей определенностью убедились японцы в 1930—1940;е гг. Тем не менее столетие колониальной экспансии дорого обошлось Китаю. Конечно, страна многое получила за счет навязанных ей едва ли не силой идей и институтов и в конечном счете стала ориентироваться на европейские стандарты в экономическом и социополитическом развитии. Однако все это шло не просто на фоне яростного внутреннего сопротивления традиционной структуры, а в условиях почти непрерывной борьбы, в том числе вооруженной, ослаблявшей Китай и то и дело вновь ввергавшей его в состояние глубокого кризиса.
Все вышесказанное — от состояния перманентного кризиса, который длился едва ли не столетие, до потрясших гигантскую страну социальных экспериментов Мао, стоивших ей столь дорого, — было в некотором смысле той весьма высокой ценой, которую Китай был вынужден заплатить за процесс вестернизации, структурной трансформации и приспособления. Процесс болезненный, но жизненно необходимый ради самосохранения страны и народа в новых условиях существования. Что же касается внутренних потенций для подобного рода трансформации, то именно в Китае, как и во всей ориентированной на Китай зоне дальневосточной цивилизации, они реально существовали едва ли не в большей степени, чем в любом из других неевропейских регионов, не исключая, пожалуй, и Латинскую Америку. Подробнее об их сути речь пойдет в следующей главе. Пока же весьма целесообразно продемонстрировать аналогичные и во многом родственные им потенции на примере соседней с Китаем и дочерней по отношению к нему в цивилизационном плане Японии.