«Магический реализм» (Г. Э. Носеак, Г. Казак) в эпоху «часа ноль» немецкой литературы
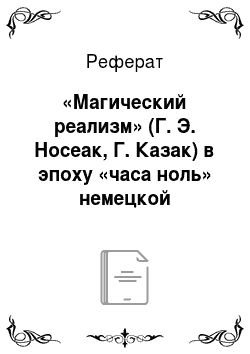
Идейный пафос этого произведения в духе «магического реализма» воспринимался отечественным литературоведением настороженно, поскольку критика нацистского режима шла в этом произведении опосредованно и содержала аналогии с любыми тоталитарными режимами. Роман Казака принадлежит к интересным образцам немецкой интеллектуальной прозы. В традициях жанра романа воспитания автор обращается к самым… Читать ещё >
«Магический реализм» (Г. Э. Носеак, Г. Казак) в эпоху «часа ноль» немецкой литературы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Трагизм исторического пути Германии в XX в., так или иначе, проецируясь на историю человечества, послужил своеобразным катализатором развития философских, интеллектуальных тенденций в немецком искусстве новейшего времени. Такие глобальные драматические события, как Первая мировая война, существование фашистского режима и Вторая мировая война, завершившаяся не только подписанием акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. в Берлине, но и не менее трагическим для судеб немецкого народа расколом Германии сначала на четыре зоны, а затем на два, противостоящих друг другу идеологически государства, не могли не сказаться на усиленной, а в некоторых случаях напряженной политизации не только литературных произведений, но и всего художественного сознания немецкой культуры.
Состояние растерянности, нравственной ущербности, осмысление так называемой «немецкой вины» вылились в драматическую ситуацию «часа ноль» в немецком культурном и общественном сознании. Преодоление своеобразного нравственно-эстетического вакуума шло различными путями в Западной и Восточной оккупационной зонах, а затем во вновь созданных ФРГ и ГДР. А.А. Гугнин1 доказательно писал о моральном преимуществе исходных посылок культурного строительства в Восточной оккупационной зоне. В трудную этико-эстетическую работу активно включились деятели антифашистского немецкого Сопротивления, не склонившие в прошлом головы перед фашистским варварством и не ощущавшие на себе груз национальной «немецкой вины», а посему оптимистично смотревшие в будущее. Именно от них исходили первые важные общенациональные культурные инициативы (создание Демократического Культурбунда, 1945, основание издательства «Ауфбау», давшего путевку в жизнь многим молодым талантливым авторам). Осенью 1947 г. Культурбунд насчитывал уже около 120 тысяч членов, что обеспокоило военную администрацию западных зон, и названная организация в соответствующих секторах Берлина была запрещена как «прокоммунистическая». Любопытно, что Б. Брехт не смог получить вид на жительство в Западной Германии. Интересно и то, что в восточную оккупационную зону, а затем и ГДР вначале переезжало много деятелей культуры из противоположных секторов. Движение это шло до середины 50-х, а затем болезненный обратный процесс переселения деятелей культуры с Востока на Запад затянулся почти вплоть до объединения Германии.
Следует сказать, что идеологическое противостояние двух немецких государств — процесс далеко не однозначный, имевший издержки с каждой из сторон. Так в ФРГ был затруднен доступ большинства активных немецких иисателей-антифашистов, тем более коммунистов.
‘Зарубежная литература XX века / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 1996. С. 437—438.
(В. Брсдсля, А. Зсгсрс, Э. Вайнсрта, И. Бсхера и др.), практически нс печатались книги, где фашизм изображался как вполне определенное, обусловленное социальными причинами явление. Литературный процесс в ГДР полон драматических примеров отстаивания писателями своей художественной индивидуальности. Творческие биографии Стефана Гейма, Эрвина Штриттматтера, Франца Фюмана, Хайнсра Мюллера, Фолькера Брауна и многих других — яркое тому подтверждение.
Тем нс менее, и литература ФРГ, и литература ГДР — это неотъемлемые части всей великой немецкой культуры. Об этом свидетельствует тот процесс к сближению, который в конце концов завершился единением как в политическом, так и идеологическом плане.
Исходные точки отсчета от «часа ноль» немецкой культуры различны в ГДР и ФРГ. Однако есть литературно-художественное движение в Германии XX века, сыгравшее особую роль как в эпоху Первой мировой войны, так и в период послевоенной разрухи 40-х. Это — экспрессионизм. Он занимает особое место в культуре Германии XX века. В отличие от немецкого натурализма и импрессионизма, появившихся во многом под влиянием извне, экспрессионизм возникает в недрах немецкой этико-эстетической системы еще до Первой мировой войны, а затем переживает временное возрождение в период «часа ноль» послевоенного безвременья 1945—1947 годов, приобретая антифашистскую, антивоенную окраску. Влияние экспрессионизма испытывают в этот период такие немецкоязычные писатели как М. Фриш, Фр. Дюрренматт и др. Особенно ярко подобные тенденции в немецкой прозе проявили себя в художественной практике творчества В. Борхерта.
Трагическая судьба Вольфганга Борхерта (Wolfgang Borchert,.
1921 —1947) как нельзя лучше отражает состояние «потерянности», отчужденности, общественной невостребованности, которое возникало в сознании тех немцев, что в силу не зависящих от них обстоятельств почти детьми были отправлены на фронт. На основании своего тяжелого опыта это новое «потерянное поколение» выработало свою антифашистскую позицию и в ситуации Западной Германии оказалось в буквальном смысле «на улице перед дверью». Трагедию этого поколения и одновременно эстетическое кредо поздних экспрессионистов выражает эссе Борхерта «Вот наш манифест» («Das ist unser Manifest», 1945):
«Нам не нужны поэты с хорошей грамматикой… Нам нужны поэты, чтобы писали жарко и хрипло, навзрыд. Чтоб называли дерево деревом, бабу бабой, чтобы говорили „да“ и говорили „нет“: громко и внятно, дважды и трижды, и без сослагательных форм… Мертвые мертвы не для того, чтобы живые жили, как прежде, в уютных своих квартирах… нс для того, чтобы их детей дурачили те же гнусавые штудиенраты, которые так ловко обработали для войны их отцов» (пер. А.В. Карельского).
Тот же мотив звучит и в рассказе «В мае, в мае кричала кукушка»: «Кто из нас, кто знает рифму к предсмертному хрипу простреленного легкого, рифму к воплю казнимого? Ведь для грандиозного воя этого мира и для адской машины его тишины нет у нас даже приблизительных вокабул».
По сути все творчество этого, безусловно талантливого и смертельно больного, человека укладывается в два послевоенных года и состоит из двух сборников рассказов, эссе и единственного крупного произведения — пьесы «На улице перед дверью» («Draussen vor dcr Tflr», 1947).
Эта драма посвящена трагедии одинокого человека, вернувшегося с войны и не нашедшего пристанища в новой жизни. Ситуация, в которой оказался Бекман, вобрала в себя судьбы миллионов обманутых немцев. Герой безуспешно пытается призвать к ответу тех своих бывших командиров и наставников, кто развязал преступную войну, предал его самого и его товарищей, а теперь не просто пытается уйти от ответственности, но благоденствует в Западной Германии. Никому из этих самодовольных людей, занятых устройством новой жизни, нет никакого дела до искалеченного войной Бекмана. Так и нс найдя выхода в сложившейся ситуации, он кончает жизнь самоубийством.
«Разорванность», «вывихнутость» времени подчеркивается в пьесе Борхсрта использованием различных форм гротеска. Гротескной фигурой является сам главный герой в разорванной шинели, дырявых сапогах и нелепых очках от противогаза. Это «привидение» из прошлого у окружающих вызывает лишь чувство раздражения и опасения. Бекман олицетворяет собой прошедшую войну, о которой другие, занятые созданием собственной иллюзии благополучия, нс хотят вспоминать. В пьесе нет подлинного исторического конфликта. Она изображает не историческую правду, а правду субъективного сознания. Протест против поколения «отцов» не приводит автора и героя к подлинному осмыслению произошедшего, а вполне укладывается в традиционный для экспрессионистской драматургии конфликт между нравственными исканиями молодого поколения и приспособленчеством старого. Образу Бекмана присущи черты обобщенности. Он — «один из серого множества». Даже о самом себе герой говорит во множественном числе. Так, от имени всего поколения он и обвиняет поколение «отцов», в том, что они предали своих сыновей, воспитали их для войны и послали умирать. Сознание собственной вины, сформированное участием в войне, преобразуется постеленно у героя в сознание жертвы. Преследующее героя сознание личной ответственности за происшедшее и повышенное чувство вины также свидетельствуют о традициях экспрессионизма.
Важное место в пьесе занимает второе «я» Бекмана, его своеобразный двойник — Другой, пытающийся сопротивляться разочарованию и отчаянию. Он старается убедить солдата жить, как другие, но Бекман не может уподобиться бывшим «убийцам». На протяжении всей пьесы Борхерт непосредственно апеллирует к зрительному залу. Монологом с открытыми и риторическими вопросами произведение и заканчивается.
Поэтика пьесы несет на себе печать экспрессионизма. Все события происходят на грани действительности и сна, в странном неровном освещении, при котором размывается рубеж между призрачным и реальным. В пьесе есть персонифицированный образ реки Эльбы, слезливого никчемного Бога. Появляется и Смерть в лице похоронных дел мастера.
Мы так надолго задержали внимание на этом произведении еще и потому, что, по мысли А. В. Карельского, в творчестве Борхерта отчетливо определились две будущие тенденции развития литературы ФРГ. Одна из них связана с философско-экзистенциальным взглядом на мир и ведет к так называемому «магическому реализму». Другая, социально-критическая, наиболее ярко реализует себя в творчестве писателей «Группы 47».
Обычно, когда обращаются к термину «магический реализм», вспоминают современных (и не очень) латиноамериканских писателей, однако одним из первых о литературе подобного направления заговорил в послевоенное время применительно к немецкой литературе Ганс Вернер Рихтер. Именно он опубликовал статью, в которой сформулировал различие между творчеством писателей, напрямую обращавшихся к событиям и проблемам современности, и художников, избегавших конкретно-исторического изображения действительности, интерпретируя национальную катастрофу Германии как проявление тотального кризиса, «конца света».
Термин «магический реализм» имеет свою традицию в литературоведении и был предложен еще в 1923 искусствоведом Ф. Роо по аналогии с «магическим идеализмом» Новалиса. «Магические реалисты» не представляли собой целостного объединения. Среди наиболее известных из них следует назвать Эрнста Кройдера (роман «Неуловимые»), Элизабет Ланггессер (роман «Неизгладимая печать»). К наиболее талантливым относятся Ганс Эрих Носсак и Герман Казак.
Ганс Эрих Носсак (Hans Erich Nossack, 1901—1977) принадлежал к первому поколению западногерманских писателей, поколению В. Борхерта, Г. Белля, В. Шнурре. В его творчестве нашло отражение и оригинальное преломление многие из тем, проблем, образов, характерных для так называемой «литературы развалин"', литературы «часа ноль». Однако в целом писатель шел своим, вполне самостоятельным путем, что во многом обусловлено его жизненным опытом. Из-за причин субъективного и объективного характера Носсак не был непосредственным участником военных событий, потрясавших Германию и Европу в первой половине XX в. Это наложило особый отпечаток на его мировоззрение, создавало иллюзию объективности стороннего наблюдателя и нашло своеобразное преломление на страницах его произведений.
Многие из животрепещущих вопросов человеческого бытия решаются писателем в духе философии экзистенциализма. Влияние различных вариантов философии экзистенциализма определило своеобразие общественного сознания Западной Германии в первое послевоенное десятилетие, порождая настоящую «экзистенциальную волну» в философии, искусстве, литературе. Среди писателей, так или иначе отразивших особенности экзистенциалистского мировосприятия, были А. Андерш, 3. Ленц, И. Айхингер, В. Йенс, Г. Э. Носсак и др. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что на умонастроение западногерманской общественности и творческой интеллигенции влияли не «отцы» экзистенциализма К. Ясперс и М. Хайдеггер, а их французские преемники — Ж.-П. Сартр и А. Камю.
Вторая после 20—30-х годов волна экзистенциализма в послевоенном сознании западногерманской общественности была вызвана крушением призрачных иллюзий и идеалов, «ревизией» гуманистических традиций классического наследия. «Профранцузская» ориентация немецкой творческой интеллигенции имела свою причину. Вакуум вокруг Хайдеггера был вызван двусмысленностью его положения в годы нацистского режима. Полоса отчуждения округ Ясперса возникла благодаря публикации трактата «Вопрос о вине» (1947), в котором философ приходит к выводу об общенемецкой «национальной вине» и постулирует необходимость «национального раскаяния». Эти выводы вызывали болезненную реакцию у большинства даже прогрессивно настроенных западногерманских деятелей культуры. «Французский» вариант, утверждаемый Сартром в «Мухах», немецкий перевод кото-[1]
рых появился в 1947 г. с предисловием автора, импонировал западногерманской интеллигенции, как и возведенная в философский постулат этическая беспроблемность сартровского Ореста, не испытывавшего чувства вины за содеянное и продолжавшего свое «существование» как бы с «нулевого уровня».
Мировоззрение и творчество Носсака не укладывается в прокрустово ложе той или иной экзистенциальной школы. Несомненно, что по своим идейным позициям Носсак ближе не к сартровской, а камюсовской версии экзистенциализма. Писателя более занимает мотив крушения личности перед лицом Ничто, чем восторг перед абсолютной свободой индивида, осуществляющего идею выбора, не связанного с традиционными гуманистическими представлениями. Не случайно уже в первых произведениях Носсака («Гибель», 1948; «Некийя», 1947) встречаются своеобразно истолкованные христианские мотивы. Религиозность Носсака далека от официальных канонов и имеет сугубо личностные истоки. Не чужд Носсак и ясперсовских идей о «национальной» вине и «национальном раскаянии», переосмысленных писателем в общечеловеческом плане.
Обращение к истокам европейской цивилизации в поисках ответов на животрепещущие вопросы современности — тенденция, характерная для немецкой литературы XX в. Подобно Т. Манну, Носсак создает свой особый художественный мир, свою особую мифологию. Причудливый симбиоз древнегреческих мотивов и образов в сочетании с библейскими аллюзиями определяют ее специфику. Уже в первых произведениях писателя проявляются основные черты повествовательной техники и внутренняя структура его созданий. В них же появляется некая обобщенная символическая модель современного состояния человека и мира.
Так, уже в повести «Гибель» (1947) появляется характерный для художественного мира Носсака герой-одиночка, «уцелевший» или «выживший», лишенный имени и тем самым символизирующий собой заблудшее, потерявшееся человечество, уцелевшее в момент вселенской апокалиптической катастрофы. Одним своим существованием и сохраненной им способностью мыслить этот герой противостоит неотвратимому Ничто. Носсак отрицательно относился к стремлению критиков ввести его творчество в русло литературы экзистенциализма, указывая на глубоко личные истоки своих художественных принципов:
«Я никогда не скрывал, что разрушение Гамбурга в июле 1948 года означало поворотный пункт моей жизни… Жизнь в 11ичто без всякого прикрытия сзади… Это звучит как экзистенциалистская фраза, но мы ничего не знали об экзистенциализме…».
В небольшом очерке трудно рассмотреть все произведения Носсака, поэтому мы остановимся, на наш взгляд, на знаковых явлениях его творчества. При всем сходстве проблематики и поэтики произведений Носсака и Сартра роман «Некийя» («Nekyia», 1947) во многом полемически направлен против философской позиции французского писателя. Герой Носсака не просто «уцелевший», осуществляющий утверждающий его в этом мире выбор вне зависимости от требований традиционной морали и принципов гуманизма. Для носсаковского героя важно не просто констатировать произошедшую катастрофу, но доискаться до причин произошедшего. В отличие от позиции Сартра и его героя, «уцелевший» рассказчик Носсака в качестве центральной в своем монологе-исповеди поднимает проблему вины и ответственности людей за свои поступки. Осмысливая трагедию Второй мировой войны в апокалиптических символах, писатель видит катастрофу человечества в том, что оно «предало свое прошлое», ассоциирующееся в сознании писателя с непреходящими общечеловеческими ценностями, воплощенными в творениях духа иных эпох. За пошлой видимостью и обыденностью человечество забыло подлинные «имена» вещей, воплощающих суть бытия:
«Людям, лежащим вокруг меня, я лишь скажу: идите наружу и найдите реку. Затем отмойтесь, чтобы узнать друг друга. Тогда если вы вновь увидите ваши лица, вы опять дадите друг другу имена. И когда вновь зазвучат имена, земля от этого проснется и подумает: «Теперь я вновь могу растить цветы и деревья».
В поисках подлинной сути вещей герой Носсака, подобно гомеровскому Одиссею, отправляется в современную преисподнюю. Мертвый город, в художественном мире автора олицетворяющий собой, вероятно, недавнее прошлое, замершее, остановившееся в момент катастрофы. Знаменательно, что сартровский Орест приходит в родной Аргос лишь затем, чтобы принять определяющее его дальнейшее существование решение.
Любопытно, что именно в это же время Г. Казак, автор романа-притчи «Город за рекой», опубликованного почти вместе с «Нскийей» Носсака, также заставляет своего героя Роберта Линдхофа «посетить» в поисках истины «город мертвецов», символизирующий собой и преступное прошлое фашизма и возможное «завтра» любого тоталитарного режима. Вряд ли подобное схождение — результат заимствования, вряд ли писатели были знакомы в это время и поделились друг с другом замыслами. Однако идейно-эстетические и сюжетные переклички очевидны и порождены как особенностями художественного мировидения авторов, так и соответствующими тенденциями литературного сознания Германии того времени.
Выбор Носсаком мифологических параллелей характерен для немецкой литературы XX в. Как и для многих немецких писателей, Вторая мировая война — Апокалипсис XX века — ассоциируется в сознании Носсака с Троянской эпопеей. Носсак не ограничивается одной мифологической реминисценцией. Его безымянный герой-повествователь — одновременно и «в бедах упорный» «уцелевший» в катастрофе Одиссей, познающий прошлое во имя будущего, и правдоискатель Орест, ищущий нс только возмездия, но и подлинных причин событий, и пастырь (der Hierte), современный мессия, с охрипшим голосом, добровольно, во имя людей, его не понимающих, отправляющийся на моральную муку в прошлое. Цепь ассоциаций, возникающих при чтении романа, может увести в бесконечность. Утверждая заброшенность и «отчужденность» человека в мире, Носсак тем не менее далек от шпенглеровской концепции взаимонепроницаемости локальных культур. Общечеловеческие ценности, выработанные Античностью и христианством — едины для всех. В этом утверждении Носсак солидарен с Т. Манном.
Отсутствие имени имеет для Носсака принципиальное значение. Сартровский Орест вновь получает подлинное имя, осуществив свой «беспроблемный» выбор. Люди Носсака, лишенные памяти о прошлом, подобны комьям глины (Lehmklumpen), бесформенным и бездушным, также не имеют имен. Вернуть им имена может нс смелый свободный выбор, но приобщение к памяти о прошлом, чтобы вернуть людям память («Имена»), и отправляется в мертвый город-призрак никем не признанный и не призванный пастырь. Подчеркнутая «безымянность» героя имеет в мире Носсака и иное символическое значение. Перед неведомым слушателем звучит монолог души человеческой, искания которой вечны и имеют общечеловеческий смысл. Но речь «уцелевшего» — это глас вопиющего в пустыне. Спящие люди не слышат и не понимают его. Слова пастыря обращены в будущее:
«Я говорю для существа, которое, как я надеюсь, когда-нибудь появится. У меня есть уверенность, что это не только мое болезненное желание избежать одиночества среди этих беспомощных спящих».
В своеобразном эпилоге романа слова «выжившего» полны надежды на пробуждение «спящих», а сам он уподоблен Иоанну Предтече, пришедшему в мир очистить людей водным крещением в преддверии духовного. Однако голос новоявленного проповедника может быть не расслышан толпой, поэтому он готов стать «ловцом душ» человеческих над «бездной» невежества, удерживающим человечество от неправедного пути:
«Поэтому я буду лучше молча стоять здесь, спиной к городу, и следить, чтобы никто туда не ходил. Это моя задача. Если мне удастся выждать терпеливо до тех пор, пока в этом есть необходимость, тогда в конце на мою долю достанется бессмертное имя. Скажут „Пастырь“, и каждый, кто это произнесет, будет знать, кого он имеет в виду».
Финал романа перенасыщен емкой символикой, содержащей как аллюзии библейские, так и античные реминисценции. Носсаковский Одиссей становится «Пастырем», постигнув забытое прошлое, в момент решения стать «ловцом над бездной». Экзистенциальный мотив выбора получает в романе Носсака этическую окраску. В немецкой литературе XX в. многие античные образы претерпевают абсолютную трансформацию. Так, из убийцы и прелюбодейки Клитемнестра превращается в мученицу и миротворицу. Не названная, но легко угадываемая читателем, героиня Носсака становится воплощением женского, миролюбивого, гуманного начала в противовес мужскому, агрессивному, разрушительному, воплощенному в Агамемноне. Поэтому, уцелевший физически, но потерявшийся духовно в мире катастроф и войн, вызванных стихией «мужского» начала, Орест-Одиссей в поисках прошлого и подлинного сути вещей возвращается к матери. Образ носсаковской Клитемнестры становится воплощением вечного материнского начала. Трансформация мифа об Атридах приобретает ярко выраженную политическую окраску.
Новелла-притча «Орфей и…» и повесть «Кассандра», включенные автором в сборник с метафорическим в экзистенциалистском духе названием «Интервью со смертью» («Interview mit dem Tode», 1948), носят программный характер, определяя пути, по которым пойдет освоение античного наследия в дальнейшем творчестве писателя, философские основы его мировосприятия в целом. Новелла «Орфей и …» об избранности творческой личности. Автора привлекла сама многозначность мифологической ситуации — трагическая обреченность героя, великая сила его духа, тайный смысл его поступков. В новелле противопоставляется скрытый от непосвященных «иной мир» избранных — привычной жизни обывателя, лишь интуитивно догадывающегося о существовании такового и беспощадно уничтожающего избранных. Кстати, в одной из частей романа «Спираль» (1956) таинственным образом пропавшая жена подследственного сама ушла в «иной», недоступный обывателям мир «назастрахованного», что невозможно объяснить следователю, мыслящему привычными категориями.
Притча Носсака об Орфее и Персефоне, что вполне отвечает экзистенциальной ориентированности писателя, поскольку вечно печальная Персефона — владычица скорбного царства Смерти. Именно туда и отправляется Орфей в путешествие за вечными истинами, с точки зрения экзистенциалиста, открывающими свой подлинный смысл лишь на пороге инобытия — «Ничто». Орфей «изменяет» Эвридике, изменяя обыденной реальной жизни. Для Носсака Орфей — символ художника с его вечными проблемами и исканиями, на пороге инобытия познавшего «другой мир» подлинных сущностей, недоступный сознанию обычного смертного. Двойственность значения мифологического образа Персефоны — одновременно и царицы мертвых и Коры, богини-девы, олицетворяющей прорастающее зерно — символ весны, послужила основой емкого носсаковского символа. По мифу, Орфея растерзали вакханки. Носсак не меняет сюжетную канву мифа, но привносит туда новый мотив: люди растерзали певца, не простив ему избранности. Орфей становится символом современного человека, блуждающего в лабиринте нравственных мучений и только перед лицом смерти познавшего ценность своей личности. Поэт как бы выбирает смерть, обнажающую истинную сущность бытия, в облике Персефоны перед лицом затемняющей подлинный смысл вещей, обыденной жизни — Эвридики.
Тот же мотив добровольного выбора смерти звучит в повести «Кассандра» — оригинальном переосмыслении античного мифа. Композиция новеллы характерна для произведений XX в. — рассказ в рассказе. Повествование ведется от лица постаревшего Телемаха, всю жизнь пытавшегося разгадать «загадку» Кассандры и в силу своей ординарности и ограниченного жизненного опыта не способного до конца понять суть происходящих событий. С нарастающим драматизмом повествования роль рассказчика незаметно переходит к умудренному опытом Одиссею, выступающему в этой новелле под своим именем, однако унаследовавшему от своего безымянного предшественника тягу к познанию истины и вечных тайн бытия.
Смена повествователей как бы символизирует невозможность, по мнению Носсака, для одного человека истинного, полного знания. Царь Итаки и троянская царевна связаны в новелле невидимой и неразрывной нитью. Оба они — жертвы катастрофы, Троянской войны, поставившей их на границе жизни и смерти. Именно Кассандру, провидицу и жертву, ставит Носсак в излюбленную писателем экзистенциалистскую ситуацию на пороге выбора между жизнью и смертью, добром и злом, исследуя потенциально заложенные в человеке нравственные силы. В десятилетней войне, события которой остаются за рамками повествования и упоминаются только через их последствия, Кассандра Носсака потеряла все, кроме жизни. Она приходит к Агамемнону, чтобы отдать и это, последнее и дорогое, чтобы утвердить себя ценой собственной жизни. Образ Кассандры обретает в новелле двойное звучание — реальной женщины и судьбы. Одиссей считает.
что Кассандра выбирает путь смерти, следуя за Агамемноном, но она выбирает бессмертие, утверждая своим свободным выбором человеческое достоинство. Выбор ситуации вполне в духе экзистенциализма. С точки зрения некоторых отечественных исследователей, поступок Кассандры — лишь утверждение абсурдности существования и сомнений относительно человеческого разума. Однако в условном художественном мире Носсака подобное решение героини мотивировано ее избранностью. Униженная, Кассандра не стала рабыней и свободно и легко выбирает свободную смерть взамен духовного рабства. Именно от нее победитель Агамемнон узнает, что и сам он такая же жертва этой «странной войны», как и поверженная им Троя. Некоторые отечественные исследователи[2] пишут о том, что герои Носсака своим бездействием на краю гибели, которую можно предотвратить, утверждают идеи непротивления злу насилием. Однако Агамемнон, носитель, с точки зрения автора, «мужского», разрушительного, антигуманного начала с помощью Кассандры осознает свою изначальную причастность мировому злу и, принимая справедливое возмездие, добровольно уходит в Смерть. Вывод в духе философии экзистенциализма. Антивоенный пафос новеллы бесспорен. И хотя умозрительность философских рассуждений автора несколько уравнивает положение палача и жертвы, тем не менее, проблема вины и ответственности, в отличие от концепции «Мух» Сартра, звучит в новелле отчетливо.
Разговор о «магическом реализме» Носсака был бы неполон, если бы мы не упомянули один из наиболее его известных отечественному читателю романов — «Дело д? Артеза» (1968), в котором Носсак не только наиболее близко подошел к социально-критическому изображению действительности, но и сближается во многом с позициями «Группы 47», особенно одного из лучших ее представителей Г. Белля. Сходство это прежде всего проявляется в выборе своеобразного героя-аутсайдера Эрнста Наземана, принимающего в качестве псевдонима имя бальзаковского д? Артеза. Он и его немногие единомышленники не могут принять правил игры современного общества, прежде всего, не хотят забывать уроки недавнего прошлого. Однако перед нами не бунтари-сокрушители, а интеллигентные люди, стремящиеся в мире бездуховности, накопительства и стандарта отстоять свою духовную «экстерриториальность», свою внутреннюю духовную независимость. Следователю боннской службы безопасности, ведущему дело о несуществующей подпольной «нигилистической» организации, никогда не догадаться, что речь здесь идет не о подрыве устоев жизни Западной Германии, а лишь о «подпольной самообороне» и «чистоте рук» человеческих.
Изданный в 1947 г. роман Германа Казака (Hermann Kasack, 1896—1966) «Город за рекой» («Die Stadt hinter dem Strom»)
был сразу же переведен на многие языки мира и лишь на русский во время «перестройки».
Идейный пафос этого произведения в духе «магического реализма» воспринимался отечественным литературоведением настороженно, поскольку критика нацистского режима шла в этом произведении опосредованно и содержала аналогии с любыми тоталитарными режимами. Роман Казака принадлежит к интересным образцам немецкой интеллектуальной прозы. В традициях жанра романа воспитания автор обращается к самым насущным и животрепещущим проблемам современности, недавнего прошлого (по сути, еще непреодоленного настоящего!), решаемым им в отвлеченно-абстрактном, даже космическом духе произведений «магического реализма». Это произведение построено на сложном переплетении мотивов, символов, образов. Как отмечает И. Млечина, прошлое и настоящее описано в этом романе в «зашифрованных символах потустороннего мира, призванного отразить катастрофичность человеческого существования, воплощенного в метафорике небытия». Автор использует жанровые особенности сказки, аллегории, антиутопии, путешествия. Традиционные мифологемы в произведении Казака существуют во взаимодействии с мифологическими мотивами, порожденными новым временем. Отдельные из них (город-призрак, город в руинах, мертвый город) корреспондируют с соответствующими авторскими мифами Носсака, да и сама ситуация — пребывание Роберта Линдхофа, историка-искусствоведа, приглашенного на должность хрониста в Архив «города за рекой» — «города мертвых», напоминает нам путешествие безымянного «уцелевшего» в мертвый город, ради познания истины и подлинной сути вещей.
Город, куда прибывает Роберт Линдхоф (своеобразный вариант хороню известного в литературе типа героя со стороны), представляет собой некую «промежуточную зону», в которой уже нет жизни, но и не наступила смерть. Литературовед Г. В. Кучумова верно называет его «фантомным». Город, с вечно голубым небом, неподвижными, как бы мертвыми, облаками, незаходящим солнцем и остановившимся течением времени. Архив, в котором должен трудиться Роберт — это не только место, где изучаются «дела» людей перед уходом в Небытие, но и своеобразное хранилище накоп
ленной цивилизацией мудрости человеческой. Здесь герой получает уникальную возможность приобщиться к мудрости веков и вступить в диалог с давно ушедшими в мир иной выдающимися мудрецами. Он познает высший смысл бытия, но и может вернуться в свое собственное прошлое, чтобы попытаться исправить совершенные когда-то ошибки. Роберт Линдхоф проходит все необходимые этапы духовного возмужания личности и, подобно Кнехту из романа Г. Гессе, или безымянному «уцелевшему», страстно мечтающему стать «пастырем», приходит к утверждению идеи беззаветного служения людям в качестве странствующего проповедника, несущего слово правды о мире. «Пастырь» Носсака подобен «ловцу над бездной» и в этом видит свое предназначение, проповедник Казака уподоблен Сеятелю, слова которого прорастают, как семена в душах слушателей. Как и должно быть в произведениях «магического реализма», реминисценции уводят читателя в бесконечность: несомненны аналогии с «Фаустом» Гете, древнегреческими мифами и гомеровскими поэмами, сюжетами и образами Кафки, романом Гессе «Степной волк» (особенно блуждания героя по зеркальному лабиринту и встречи с бесконечными собственными двойниками). Есть в романе и аналогии с «Божественной Комедией» Данте: в блужданиях по городу героя сопровождает художник Катель, чем-то напоминающий читателю Вергилия, сопровождающего и оберегающего героя бессмертного итальянца.
Нельзя не согласиться с А. А. Федоровым, что в романе Г. Казака найден новый своеобразный аспект изображения тоталитаризма, прежде всего, фашистского. Это его абсолютная бесплодность. Отсутствие в нем продуктивной и производительной силы. Смерть и имитация подменяют подлинную жизнь. Казак как бы рисует возможное завтра «нового порядка», доводя до абсурда разрушительные внутренние тенденции фашизма1.
Гротескны и одновременно абсурдны в романе описания двух подземных заводов, на одном из которых со знанием дела и с полной серьезностью изготавливаются кирпичи, а на другом их вновь превращают в порошок, из которого заново прессуются кирпичи. Вся остальная жизнь в «мертвом городе» также абсурдна и бесплодна. В нем умерла даже музыка, та мелодия, что давала силы и поддерживала душевное равновесие касталийцев в романе Гессе. Потрясает то, что в этом суррогате псевдонастоящей жизни люди забывают об истинных ценностях бытия, «привыкают» к безжизненным небесам, пустым и застывшим ритуалам. Они боятся только одного — зловещего пространства за городом, где теряют и эту имитацию жизни и свою, пусть ущербную, но индивидуальность.
С точки зрения А. А. Федорова, сцена за городом играет такую же роль в романе, как «Классическая Вальпургиева ночь» в «Фаусте» Гете.
Однако если в этом фрагменте произведения Гете показывает читателю, как усложняется, усовершенствуется эволюция, то в пустыне за рекой происходит нечто обратное — постепенный регресс человечества, утрата личностью своей живой индивидуальности и превращение и приобщение ее к толпе теней.
Характерно, что герои Носсака и Казака живут как бы в двух измерениях: в вечности и в современности. Подобная философская позиция во многом роднит их воззрения с эстетической системой Т. Манна, в творческой практике и теоретических работах которого происходит оригинальное сближение категорий мифического и типического, что обусловливает особый детерминизм изображаемых явлений и образов. Воспринимая миф как исторический и диалектический процесс, писатель видит в мифе истоки гуманизма и духовных ценностей человечества, своеобразный шифр человеческого опыта, модель отработки человеческих гуманистических ценностей, прообраз взаимоборства прогрессивного начала и регресса.
В поисках сути происходящих в современности событий и трагических поворотов истории Казак и Носсак также обращаются к осмыслению наследия прошлых культурно-исторических эпох, исследуя корни человеческой нравственности. Однако, как справедливо замечает А. В. Карельский, относительно Носсака, в отличие от Т. Манна, искавшего в Античности и мифологии основы современного гуманизма, эти писатели «заново перебирают древние мифы, ища именно там, у истоков, изначальные просчеты европейской духовной традиции»[3].
Гугнин А.А. Магический реализм: на примере романа Г. Казака «Город за рекой» // Творчество Иво Андрича. АТ.: ИСБ. 1992.
Давыдов Ю.Н. Экзистенциалистская волна и ее преодоление // История литературы ФРГ. М., 1980.
Зарубежная литература XX века / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 1996.
История литературы ФРГ. М., 1980.
Карельский Л.В. Ганс Эрих Носсак // История литературы ФРГ / Отв. ред. И. М. Фрадкин. М. 1980.
Клопова (Шарыпина) ТА., Иванова И.В. Античные мотивы в новеллистике Г. Э. Носсака // Межлитературные связи и проблемы реализма. Горький, 1988.
Кучумова Г. В. Феномен «измененного состояния сознания» в романе Г. Казака «Город за рекой» // Психология литературного творчества и восприятия искусства. Межвуз. сборник научных трудов. Самара, 2001.
Млечина И.В. Герман Казак // История литературы ФРГ. ДА. 1980.
Млечина И.В. Литература и «общество потребления»: Западно-германский роман 60-х — начала 70х годов. ДА., 1975.
Млечина И.В. Типология романа ГДР. ДА. 1985.
Попов, А А. Образ Ореста в прозе Г. Э. Носсака //От возрождения до постмодернизма: Сборник аспирантских статей, но истории зарубежной литературы / Отв. ред. Толмачев В. М. М., 2005.
Попов АА. Отражение черт мифологического мышления в прозе Г. Э. Носсака // Вопросы филологических наук. ДА. 2004.
Федоров, А А. Томас Манн: время шедевров. М., 1981.
Шарыпина ТА. Интерпретация античного сюжета в романе Г. Э. Носсака «Некийя» // Вестник Нижегородского ун-та. Сер.: Филология. 2000. № 1.