Как помочь «забытому человеку» ?
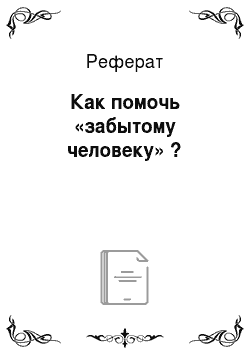
Просочившиеся в прессу сведения о домашних «заготовках» Рузвельта вызвали в недрах демократической партии протестное движение «Остановить Рузвельта». Давние и непримиримые враги оказались в рядах этой пестрой коалиции — А. Смит, У. Макаду, Б. Барух, У. Херст. По самым благожелательным для Рузвельта оценкам, добиться победы над ней на съезде демократической партии было делом сверхсложным. Так… Читать ещё >
Как помочь «забытому человеку» ? (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Главным призом демократов на выборах 1928 г. было губернаторское кресло в штате Нью-Йорк. Победа Рузвельта, похоже, удивила самих боссов партии. Ожидание неудачи объяснилось не только утратой демократической партией популярности у избирателей, но и опасениями, что претендент скорее оттолкнет, чем привлечет, голоса избирателей. У вступившего в борьбу за победу в имперском штате Рузвельта с точки зрения стандартных критериев было слишком много слабых мест. В прошлом он никогда не избирался на выборную должность более высокого уровня, чем скромное место в легислатуре штата, потерпел поражение на президентских выборах в 1920 г., в которых участвовал в качестве кандидата демократов на пост вице-президента, связал себя с прогрессистским крылом партии в эпоху расцвета консерватизма и, наконец, был частично парализован.
Сам Рузвельт тоже не надеялся на успех, да и не хотел его по той простой причине, что успех неизбежно сделал бы его кандидатом демократов на выборах 1932 г., победить на которых никто в Таммани-холле (штаб-квартира демократической партии) тогда и не рассчитывал. Поскольку демократы считали, что «республиканское процветание» будет длиться долго, Рузвельт и его советник мудрый Л. Хоу в тайне планировали начать борьбу за Белый дом только в 1936 г. Таким образом, Рузвельт помимо своей воли (и это глубоко символично) в 1928 г. сделал первый шаг к президентству. Дальнейший ход событий принуждал его часто изменять самому себе. Ирония судьбы? И да, и нет. Жизнь научила Рузвельта адаптироваться к любой ситуации, быть заранее готовым к любым неожиданностям. Он решился повторить путь кузена Теодора Рузвельта до конца.
юз Став губернатором Нью-Йорка и оказавшись в эпицентре национального бедствия, Рузвельт в целом сохранял верность принятому плану. В принципе он следовал тем же курсом, что и республиканская администрация, дав повод в будущем рассуждать многим историкам о том, что между Гувером и Рузвельтом было больше сходства, чем различий. Но в части социальных нужд Рузвельт показал себя готовым идти дальше и быть чуть ближе к Европе: в 1930 г. он публично поддержал предложения о введении системы государственного страхования по безработице и пенсий по старости. Правда, затем последовала пауза и лишь в августе 1931 г. губернатор решил создать Временную чрезвычайную администрацию помощи в штате Нью-Йорк (ТЕРА), призванную принять ряд мер, дабы облегчить участь семей безработных. Поначалу Рузвельт полагал, что надобность в ТЕРА вскоре сама по себе отпадет, и потому заботился главным образом о том, чтобы все начинание выглядело как можно благопристойнее в глазах его консервативных критиков. Ему удалось уговорить Джесси Страуса, председателя правления торговой фирмы «Мейсис и К0», возглавить ТЕРА. Величественный Страус, не представлявший, как подступиться к делу, дав согласие, занялся поисками такого директора-распорядителя, на которого в случае провала затеи можно было бы свалить вину. А в провале почти никто не сомневался: безработица росла как снежный ком. Увы, все попытки найти нужного человека, какое-то время оставались безуспешными: никто не хотел выступать в роли мальчика для порки. И все же нашелся смельчак — мало кому известный, скромный деятель благотворительной помощи города Нью-Йорка Гарри Гопкинс. Губернатор Рузвельт никогда не жалел о своем выборе.
Весной 1932 г. Страус постарался избавиться от тягостных обязанностей президента ТЕРА и, выхлопотав себе пост посла во Франции, отправился в Париж латать пробоины в американо-французских отношениях. Гопкинсу он предложил поехать вместе с ним в качестве помощника. Последовал отказ. Перспектива стать «салонным шаркуном» Гопкинса не устраивала. Его планы простирались значительно дальше дипломатической карьеры и офисов госдепартамента. Освободившийся пост президента ТЕРА, близость к губернатору открывали кратчайший путь наверх. Гопкинс знал, что Рузвельту импонировали его абсолютная бескорыстность, предприимчивость, лояльность, умение находить выход из труднейших ситуаций, не докучая жалобами и просьбами.
Решающего перелома в положении сотен тысяч семей, оказавшихся в плену нищеты, добиться было невозможно. Это было ясно и Рузвельту, и Гопкинсу. Экономика штата находилась в столь же плачевном состоянии, как и повсюду, хотя по большому счету власти в Олбэни (столица штата Нью-Йорк) охотно шли на контакты с не ортодоксально мыслящими интеллектуалами. Губернатор дорожил этим общением. Слово «реформа» произносили в Нью-Йорке не полушепотом, как где-нибудь в Оклахома-сити, вотчине республиканцев, а спокойно, без страха. Очень важно было и то, что ТЕРА на фоне бездействия федеральных властей и полицейских жестокостей, чинимых правительством повсюду, где происходили бурные сцены уличных беспорядков, давала Рузвельту психологическое превосходство над Гувером, в котором он так нуждался, начиная дуэль за президентское кресло. После дикой расправы над пришедшими летом 1932 г. в Вашингтон за помощью ветеранами Первой мировой войны и членами их семей, вызвавшей бурную реакцию в стране, Рузвельт возблагодарил собственные осторожность и выдержку, удержавшие его от рискованного шага — призыва Национальной гвардии встать под ружье для «усмирения» голодных бунтов в его собственном штате, Нью-Йорке16. К тому моменту, когда в связи с ростом безработицы обстановка в штате достигла апогея, ТЕРА играла роль громоотвода, хотя коэффициент ее полезного действия оставался невелик, а ресурсы ограниченны. «С кризисом ничего нельзя поделать, — заявил как-то Гопкинс, — опираясь исключительно на средства города Нью-Йорка или штата Нью-Йорк»17.
Впрочем, все заметили, что и в риторике губернатора Нью-Йорка появились новые интонации. И дело было вовсе не в том, что менялись, становясь более решительными, настроения его советников, членов так называемого мозгового треста. Новый язык они постигали на улицах промышленных городов, заполненных возмущенными людьми, бурлящих, готовых ощетиниться баррикадами, на деревенских проселках, в поднявшихся на вооруженную борьбу с полицией и бандами хозяйских наемников шахтерские городки. По стране прокатилась волна манифестаций и общенациональных голодных походов безработных, везде выросла численность и активность их организаций. Как правило, их возглавляли вновь почувствовавшие свою востребованность левые и их попутчики. Вслед за оживлением рабочего движения, опережая его, начало бурно развиваться фермерское движение, вызванное банкротствами, распродажами с молотка, ростом задолженности. Забастовки фермеров сопровождались бойкотом посреднических компаний, вооруженными выступлениями против властей, никак не реагирующих на призывы о помощи, спасении фермерских хозяйств. В конгрессе постоянно велись дебаты вокруг вопроса о неизбежной вспышке стихийных бунтов и перерастании их в нечто более серьезное, чем протест разрозненных групп возмущенных людей18. Если верить Ф. Скотту Фицджеральду, многие готовились покинуть Америку. Писатель сказал об этом в романе с символическим названием «Последний магнат».
Во что все это могло вылиться? Цепную реакцию локальных мятежей или настоящую революцию? Настораживали события в Европе: исторический опыт свидетельствовал, что США не были отгорожены от нее непроходимым рвом, обострение борьбы низов и верхов, рост насилия в европейских странах все чаще эхом отзывались в Америке. Осенью 1931 г. Рузвельт попросил известного журналиста Ф. Аллена ознакомить его с положением дел в Германии19. Хорошо усвоивший уроки вильсонизма и либерально-прогрессистской традиции, Рузвельт хорошо понимал, к чему может привести низвержение болыиинства народа до положения коллективного нищенства, опустившаяся на страну пелена страха и поиски панацеи отчаявшимися людьми. Впервые, может быть, за многие десятки лет никто из политиков не мог сказать, что ждет страну «за утлом».
Внутренне Рузвельт, пожалуй, глубже и острее, чем кто-либо другой в руководстве демократической партии, сознавал необходимость назревших перемен, но выработанная с годами привычка быть скрытным, не посвящать никого (даже самых близких единомышленников) в свои планы, вера в эффект внезапности удерживали его от слишком ясных заявлений на этот счет. И тем не менее, рискованно выходя на тему бедности и социальной ответственности государства, он исподволь принялся убеждать Америку, что в его лице она имеет политикареалиста, обладающего чувством нового, отдающего себе отчет в подлинных причинах потрясений и готового прислушаться к голосу их жертв. Мастерски проведенная Рузвельтом осенью 1930 г. кампания по переизбранию его на пост губернатора Нью-Йорка и одержанная им ошеломляющая (с превышением в 725 тыс. голосов) победа убедили скептиков в руководстве демократов, что этот обреченный, как многим казалось, на бездеятельность, физически немощный политик способен не только спасти партию от бесславного конца, но и вернуть ей положение партии большинства. Джим Фарли, новый лидер демократов в штате Нью-Йорк, через день после выборов сказал журналистам: «Я не знаю, как м-р Рузвельт сможет избежать того, чтобы не стать кандидатом своей партии на президентских выборах 1932 г., даже если никто не пошевелит пальцем в его поддержку». Рузвельт ни слова не говорил Фарли о своих намерениях, но заявление последнего было тщательно отредактировано Л. Хоу, тогда главным советником губернатора20.
В вышедшей в 1931 г. при содействии того же Л. Хоу и супруги губернатора Э. Рузвельт книге журналиста Э. Линдли Рузвельт был причислен к разряду «прогрессивных политиков», однако эти авансы были отпущены губернатору Нью-Йорка явно в кредит. Мысли о переформулировании национальной идеи и об экономической реконструкции Рузвельт не торопился выносить на всеобщее «обозрение». Еще весной 1931 г. Рузвельт говорил о «новых и не испытанных еще средствах», о необходимости не только экспериментировать, но и доверить государственное управление «позитивному руководству» по причине изменений в «экономическом и социальном балансе» страны21. И ничего конкретного и существенного, выходящего за пределы традиционной «лексики». Но вот в июне 1931 г., высказав ряд нелестных замечаний по адресу экономической доктрины республиканцев, Рузвельт предложил законодательному собранию штата Нью-Йорк программу действий, включавшую ассигнования на прямую помощь безработным и организацию общественных работ. Обращаясь к членам собрания, Рузвельт с присущими ему утвердительными интонациями зачитал следующее место своего послания: «Обязанности штата перед гражданами аналогичны обязанностям слуги перед его хозяином. Одна из обязанностей штата — заботиться о тех гражданах, которые стали жертвами неблагоприятных обстоятельств, лишивших их возможности обеспечить самое необходимое для жизни… Помощь этим гражданам должна быть предоставлена правительством не в качестве благодеяния, а в качестве исполнения общественного долга…»22Не в качестве благодеяния… На фоне упорного повторения Гувером тезиса о пагубности правительственного вмешательства в дело помощи неимущим эти заявления прозвучали чуть ли не революционно.
А уже весной 1932 г., фактически начав избирательную кампанию за овладение Белым домом, Рузвельт окончательно придал своим речам форму самостоятельной политической платформы, умудряясь при этом не сказать ничего определенного о том, как добиться перелома в экономике, и не касаясь по существу важнейших проблем внутренней и внешней политики США. Основной упор был сделан на том, что новой администрации следует приспособиться к новым реалиям в экономике и политике. Члены «мозгового треста» Рузвельта, выкладывавшие на его стол радикальные проекты перестройки экономики, с немалым удивлением затем узнавали, что большинство из этих проектов превращалось в некое довольно-таки безобидное блюдо и преподносилось общественному мнению в виде туманного призыва к активным действиям, направление которых должен был подсказать его величество «ход вещей» и политическая конъюнктура.
Но Рузвельт показал себя мастером политического общения. Тон его избирательной кампании задало знаменитое выступление по радио 7 апреля 1932 г. (речь о «забытом человеке»), более же развернутое отношение к решению национальных проблем Америки было изложено им в другой речи, произнесенной месяцем позже в Оглторпском университете (в мае 1932 г.). Ее можно было бы назвать введением в философию политики реформ. Мгновенно она превратилась в евангелие рузвельтовских либералов и мишень для их критиков. Рузвельт констатировал: «Страна нуждается и, если я не ошибаюсь, страна требует смелого и настойчивого экспериментирования. Здравый смысл подсказывает, что следует прибегнуть к какому-нибудь методу и испытать его. Если он себя не оправдает, надо это честно признать и поискать другой метод. Но прежде всего нужно попытаться что-то сделать»23. Оба эти немногословные, но запомнившиеся стране выступления, наделавшие много шума и отражавшие новые ценностные ожидания американцев в 30-е годы, обозначили социальный и гуманистический аспекты идеи социально-экономического экспериментирования, ставшего квинтэссенцией «эры реформ» Рузвельта.
Написанная профессором Колумбийского университета Р. Моли, тогда ведущей фигурой в «мозговом тресте», речь о «забытом человеке» объясняла бедственное положение страны, низким уровнем потребления ее граждан и возвращала американцев (впервые после «прогрессивной эры») к проблемам перераспределения доходов. Экономическая политика президента Гувера, игнорирующая нужды миллионов простых американцев и целиком ориентированная на запросы имущих классов («они помогут другим»), была подвергнута сокрушительной критике как проявление обанкротившегося социально-дарвинистского подхода. В речи проводилась параллель между катастрофическим положением в американской экономике и войной и выражалось убеждение в неизбежном изменении роли государства в ходе решения вставших перед нацией проблем. Страна, сказал Рузвельт, нуждается «в планах, наподобие тех, которые были реализованы в 1917 г. (намек на военную экономику США и методы правительственного вмешательства в хозяйственную жизнь на пике вильсоновского реформаторства. — В. М.) и которые строились как бы снизу вверх, а не сверху вниз, другими словами, страна нуждается в планах, учитывающих интересы забытого человека, находящегося у основания экономической пирамиды». Далее дезавуировалась официальная версия причин экономического краха. Гувер говорил о внешнем источнике кризиса. Средство, способное вернуть экономике устойчивость, заявил Рузвельт «должно уничтожать бактерии внутри системы, а не лечить внешние симптомы заболевания'^.
Речь о «забытом человеке», короткая и эмоционально яркая, вызвала самые разноречивые отклики: надежды в демократических низах и гнев верхов, усмотревших в ней чуть ли не желание посеять классовую рознь в стране, противопоставив неимущих имущим, бедных богатым, и возродить традиции популизма. Сторонник Рузвельта сенатор К. Хэлл (штат Теннесси) с опаской говорил о повторении «еще одной кампании Брайана», а многолетний лидер демократов А. Смит, длительное время известный своей популярностью у городских средних слоев, сделал заявление в форме протеста, объявив речь Рузвельта чем-то вроде подстрекательства, способного-де вызвать раскол в обществе, а вслед за тем и другие страшные последствия. То, о чем умолчал Смит, было понятно каждому. Напряжение в стране возрастало с каждым днем, заставляя многих рассматривать предстоящие выборы чуть ли не как референдум о судьбах капитализма в США25.
Настороженная реакция на речь 7 апреля показала Рузвельту, что для него самого наибольшей опасностью оставалась возможность вообще выбыть из числа претендентов от собственной партии на пост президента США, ибо отныне никто не мог поручиться, что победу на съезде демократов, который должен был собраться в июне 1932 г., может одержать поборник интересов простолюдина, человека с улицы, выброшенного на обочину жизни системой. Национальный комитет демократической партии, контролируемый Дж. Раскобом и его людьми, побаивался Рузвельта, делая ставку на А. Смита (прогрессивно настроенный республиканец Гарольд Икее назвал его «восторженным младшим братом богатства») и на Джона Гарнера, сенатора от штата Техас, который некогда пользовался репутацией популиста, но к началу 30-х годов рассматривался руководством партии в качестве «демократического Кулиджа». К счастью для Рузвельта, те, кто вершил делами в партии, понимали, что, если даже Смит и Гарнер смогут завоевать две трети голосов делегатов съезда демократов, они вместе или порознь погубят шанс демократов прийти к власти, заняв место знаменосцев партии. Настроения в стране изменились круто и, судя по всему, очень надолго.
Без такого молчаливого консенсуса в отношении признания необходимости придать облику демократической партии новые черты26, символизирующие ее близость к массам, Рузвельт, наверное бы, не решился дать указание Моли подготовить записку о переориентации партии в преддверии приближающихся выборов и с целью завоевания большинства избирателей на ее сторону после двенадцатилетнего пребывания в оппозиции. Моли (о близости его с Рузвельтом в то время многие говорили с опаской, полагая, что книжник из Колумбийского университета может сыграть роль Распутина в новейшей истории США) выполнил задание с тщанием, на которое только был способен. В результате на столе у Рузвельта появился длинный меморандум, призывающий демократическую партию проводить «новый курс», и укреплять массовую базу за счет привлечения под ее знамена рабочих, фермерства, средних слоев. «В стране нет места для двух реакционных партий», — писал Моли. Народ не хочет выбирать между двумя названиями одной и той же реакционной доктрины. Он жаждет реальной альтернативы27. Моли предложил сделать эти два слова — «новый курс» — эмблемой эпохи, поскольку-де они определяют содержание качественных преобразований (от которых, кстати, сам Моли вскоре отречется), нужных стране как воздух и энергия солнца.
Просочившиеся в прессу сведения о домашних «заготовках» Рузвельта вызвали в недрах демократической партии протестное движение «Остановить Рузвельта». Давние и непримиримые враги оказались в рядах этой пестрой коалиции — А. Смит, У. Макаду, Б. Барух, У. Херст. По самым благожелательным для Рузвельта оценкам, добиться победы над ней на съезде демократической партии было делом сверхсложным. Так думали многие, но, похоже, это не могло вывести из равновесия самого Рузвельта. Изменив свою позицию по отношению к Лиге наций (Рузвельт слыл сторонником вхождения США в эту международную организацию) и заявив о негативной оценке ее деятельности, Рузвельт добился поддержки Херста, идеолога националистического движения «Америка прежде всего». Многие «интернационалисты» среди демократов сочли это проявлением беспринципности. Однако сделка с Херстом принесла Рузвельту голоса делегации Калифорнии на съезде демократической партии, которых так недоставало перед последним, четвертым туром голосования. Компромисс с антивильсонистами привел к полюбовному соглашению о снятии кандидатуры Джона Н. Гарнера, расставшегося со своей розовой мечтой стать первым техасцем-президентом взамен должности вице-президента, которую он ни во что не ставил. Впрочем, переживания старого конгрессмена мало кого волновали в окружении Рузвельта: оказавшийся вторым в списке партии «демократический Кулидж» позволил добиться примирения с Раскобом, Барухом и даже (временно) со Смитом, т. е. со всеми, кто сохранял в партии демократов влияние и кого тревожил или даже пугал «радикализм» губернатора Нью-Йорка.
Речь Рузвельта на съезде демократов в Чикаго 2 июля 1932 г., куда он прибыл, поломав многолетнюю традицию, на самолете, должна была подчеркнуть чрезвычайный характер сложившейся ситуации. Это верно, что ставшее историческим выступление губернатора НьюЙорка базировалось на либерально-прогрессистских идеях меморандума Р. Моли. Противопоставить им что-либо из арсенала вигизма в тот момент, когда в Вашингтон со всех сторон стекались участники общенационального голодного похода безработных ветеранов Первой мировой войны и с каждым часом нарастало политическое напряжение, никто из оппонентов Моли просто не мог. Несколько важных пассажей речи Рузвельт почти целиком заимствовал у Моли. Так, Рузвельт обрушился на идею «выхолощенного вигизма» о «просачивании», согласно которой, если богатству будет оказана поддержка, то в этом случае благополучие снизойдет и на «рабочих, фермеров и мелких предпринимателей». О выборе народа Америки говорилось строкой из меморандума Моли: «Мы должны быть партией либеральных принципов, спланированных действий, просвещенного подхода к международным делам и трудиться с максимальной пользой для подавляющего большинства граждан». Рузвельт вновь поднял тему «забытых» американцев, которые требуют более справедливого распределения национального богатства28. Им были обещаны общественные работы, улучшение условий труда. Его главный оппонент, президент Гувер, отреагировал моментально, назвав демократов партией «толпы».
Существовали важные, хотя на первый взгляд неуловимые различия между меморандумом Моли и его рузвельтовской «версией». Выступление в Чикаго отличалось подчеркнуто уважительной интонацией к ценностям национального либерализма. Рузвельт говорил о помощи тем, кто находился на вершине социальной пирамиды, и как будто изложенная им программа неотложных мер в целом не могла вызвать серьезного беспокойства у имущих классов, воспитанных на идеях Локка. В частности, он говорил о режиме экономии правительственных расходов, отмене «сухого закона», новом законодательстве, регулирующем рынок ценных бумаг, о мерах по охране лесов, снижении процентных ставок на ссудный капитал и внешнеторговых тарифов и т. д. Однако народ в целом не должен опасаться крутой ломки. Ничего такого, кроме коррекции системы, не произойдет. «Я обещаю вам, — это было кульминацией речи Рузвельта, — и себе самому, что народ Америки будет следовать новым курсом». Во все времена отказ от «глупых традиций» не означал чего-либо большего, чем устранение помех для продолжения экономического роста. Поддержка реформы должна быть всенародной.
по Рузвельт пожинал плоды искусного маневра. Партия демократов, за исключением крайне правой группировки демократов — «бурбонов», встала под знамена «нового курса». Более того, в стане ее политических конкурентов оказалось больше симпатизировавших Рузвельту, чем вчерашнему кумиру республиканцев Г. Гуверу. В штатах появились лозунги, призывавшие сторонников республиканцев голосовать за их кандидатов в конгресс, а вместе с ними за Рузвельта на пост президента США. Сенатор-демократ от Луизианы Хью Лонг в присущей ему грубоватой манере заявил репортерам, что «самая большая беда демократов в том, что они контролируют все голоса, но сидят без денег». И тут же предложил: «Мы можем продать президенту Гуверу миллион голосов за полцены, которую он собирается заплатить, чтобы заполучить их. Мы можем обойтись и без этих голосов, а вот деньгам найдем применение»29. Деньги тоже вскоре нашлись: самые крупные взносы в избирательный фонд Рузвельта сделали виднейшие представители финансовопромышленного капитала — Б. Барух, У. Будин, В. Астор, Дж. Раскоб, У. Херст, П. Дюпон, Дж. Кеннеди, Дж. Хёрли и др. Охотно принимая эти «знаки внимания», Рузвельт стремился придать своим речам дополнительную эластичность, часто вызывавшую недоумение и тревогу у той части его сторонников (особенно интеллектуалов), которые видели, что в сложившейся обстановке никому не удастся ограничиться разговорами, что нужны практические шаги с целью немедленного улучшения бедственного положения масс в качестве первого условия устранения опасности социального взрыва.
Однако Рузвельт после съезда в Чикаго не изменил тактику. Его выступления по-прежнему были обтекаемыми, а порой даже складывалось впечатление, что они как бы уравновешивали друг друга. В Коламбусе (штат Огайо) кандидат демократов атаковал Гувера за чрезмерные, по его мнению, меры в области регулирования экономики и призывал создать условия для конкурентной борьбы. Напротив, в речи в Сан-Франциско Рузвельт подтвердил, что убежден в назревшей потребности правительственного регулирования той же самой экономики. Однажды он удивил Моли, попросив его из двух вариантов речи по тарифу (в одном отстаивалась идея протекционизма, в другом содержалась похвала свободной торговле) сделать один, синтетический. В речи в Питтсбурге (штат Пенсильвания) он ратовал за всемерное сокращение правительственных расходов, сбалансированный бюджет и децентрализацию государственного управления. А в другой речи, произнесенной в Портленде (штат Орегон), Рузвельт пообещал сделать все возможное, чтобы поднять благосостояние народа и защитить его от алчной верхушки общества. Последнее предполагало решительное вмешательство государства во все сферы экономической жизни, расширение его социальной функции и серьезные ограничения хозяйствования олигархов. В итоге никто не знал, что можно ждать от кандидата демократов, хотя все связывали с его именем грядущие перемены. Некоторые из его речей, писал тот же Моли, другие по существу, были ш предназначены для завоевания избирателя на Среднем Западе, но без того, чтобы вызвать собачий гвалт на Востоке.
В июле 1932 г. Рузвельт получил письмо от губернатора Северной Каролины Макса Гарднера, совсем нерадикала, предупреждавшего его о провале в случае неверного истолкования им настроений масс, недооценки их стихийно бунтарского духа. «Американский народ, — писал Гарднер, — против существующего порядка вещей. Мы больше, чем слепцы, если думаем, что американский народ станет цепляться за status quo… Если бы я был Рузвельтом (т. е. кандидатом в президенты. — В. М.), я бы занял более либеральные позиции. Я бы шел вместе с толпой, ибо массы сейчас находятся в движении, и если мы хотим спасти нацию, то мы должны дать либеральную трактовку тем ожиданиям, которые переполняют сердца людей…»30 В письме сквозила тревога по поводу «гутаперчивой» позиции Рузвельта. У. Липпман отозвался о поведении Рузвельта после съезда демократической партии еще более скептически, чем он это делал прежде в своей переписке с теми, кого он относил к убежденным либералам. «Две вещи в отношении Рузвельта, — писал он Феликсу Франкфуртеру, близко стоявшему к Рузвельту, 14 сентября 1932 г., — беспокоят меня, а именно: то, что он любит политическую игру саму по себе и прекрасно себя в ней чувствует. Стремление продемонстрировать свое виртуозное искусство толкает его на путь ультраполитиканства. Другое мое опасение связано с тем, что он так дружелюбен и впечатлителен, так хочет всем угодить и, как я думаю, так нетверд в собственных убеждениях, что почти все зависит от предпочтений его советников. Меня полностью убедили в этой мысли последние недели, и особенно вся эта история с заигрыванием с группой Херста-Макаду (Липпман имел в виду уступки Рузвельта его критикам. — В. М.). Есть, разумеется, вещи, которые вызывают к нему сочувствие, — это стремление к переменам и его уверенность в необходимости переоценки ценностей. Но я очень медленно прихожу в себя от потрясения, которое произвела на меня его политическая кампания, предшествовавшая съезду демократов»31.
Даже в семейном кругу Рузвельт наталкивался если не на оппозицию, то на несогласие с его тактикой. Элеонора Рузвельт, супруга президента и энергичная поборница широких социальных реформ, высказывала опасения (совсем не лишенные основания), что уклонение Рузвельта от четких обязательств в отношении требований масс приведет к росту их разочарования в политическом либерализме и к открытому переходу на позиции поддержки левых сил. Когда много позднее один из ее ближайших друзей признался, что в 1932 г. он голосовал не за Рузвельта, а за кандидата социалистической партии Нормана Томаса, Элеонора Рузвельт не удивилась. «Я бы сделала то же самое, — сказала она, — если бы не была женой Франклина»32. Американский историк Роберт Макэлвейн высказывает на первый взгляд парадоксальную, но в основе своей верную мысль, когда пишет, что Гувер своими обвинениями Рузвельта в приверженности к радикальным переменам привлек на сторону последнего больше избирателей, чем это сделал сам кандидат демократической партии. И в самом деле, пропагандистская антирузвельтовская кампания правых сил, рисовавших его радикалом, объективно делала Рузвельта привлекательным для сотен тысяч избирателей, сочувствующих левым силам. Окажись на его месте А. Смит или Дж. Гарднер, эти американцы отдали бы свои голоса левым. «Настроение в стране такое, — признал после подсчета голосов один из членов администрации Гувера, — что мы, пожалуй, еще удачно вышли из этого положения, получив Рузвельта вместо социалиста или радикала»33.
Результаты выборов 6 ноября 1932 г. устроили всех. Рузвельт одержал победу даже там, где никто этого от демократов не ожидал, на «дальнем» Юге и Западе. Главное же — выборы подтвердили высказанную Л. Харцем на первый взгляд парадоксальную мысль, что «радикализм» «нового курса» был не чем иным, как претензией на социалистический путь развития США, тщательно «загримированный» американской верой в постулаты Локка34. Может быть, здесь больше подошло бы слово «имитация», но миллионы рабочих, фермеров, представителей городских средних слоев, дружно голосовавшие за партию «нового курса», своей поддержкой подтвердили тот его внутренний подтекст, о котором говорил Харц. Новая демократическая, близкая по духу европейской социал-демократии коалиция левоцентристских сил стала складываться стихийно, как бы помимо Рузвельта. Растущее рабочее движение не играло в этой коалиции руководящей роли, хотя и было ее главной опорой. Заметим к тому же, что идеологически само рабочее движение оставалось расколотым, а в организационном отношении просто слабым. Не потому ли впечатляющая победа демократов, избрание Рузвельта президентом, поражение всех реакционных кандидатов, баллотировавшихся на вакантные места сенаторов и членов палаты представителей конгресса США, не сдвинули с места разработку ясной и четкой программы преобразований, которых так ждали и одновременно страшились американцы? Напротив, начался период политического маневрирования, бесцветных дебатов и препирательств. Складывалось впечатление, что полученный демократами 6 ноября 1932 г. мандат был им в тягость.
Однако события ранней весны 1933 г. заставили новую администрацию действовать более решительно. Накануне вступления Рузвельта в должность президента в Вашингтоне были получены известия о том, что во многих штатах, объявив о банкротстве, закрылись все банки. В дополнение к едва теплившейся деловой жизни это грозило в самое ближайшее время полным экономическим параличом. Паника и страх перед будущим охватили людей. Огромные толпы осаждали банковские учреждения, требуя возврата своих вкладов. Закрывались предприятия, школы и муниципалитеты… Рузвельт позднее говорил, что стоило правительству сделать один неверный шаг и последствия могли быть непоправимыми.
пз В передовой газеты «Нью-Йорк тайме», вышедшей утром 4 марта, в день инаугурации Рузвельта, говорилось: «О нем будут думать как о чудотворце». Да и сам новый президент хорошо понимал, что время выжидания прошло и только действия, немедленные, энергичные и нетрадиционные, могут предотвратить перерастание панических настроений в направленный (кем?) социальный взрыв, способный изменить старый порядок вещей (а не только «глупые традиции») снизу доверху. Страна оказалась на краю пропасти. Это не преувеличение. Так говорил 7 мая 1933 г. сам Рузвельт35. «Многие высокопоставленные лица в Вашингтоне и других городах, — отмечал в своих воспоминаниях бывший корреспондент „Нью-Йорк тайме“ в Вашингтоне Чарльз Хёрд, — искренне благодарили Господа за то, что день вступления нового президента в должность пришелся на субботу, когда банки, биржи и другие финансовые учреждения были официально закрыты. Никто не знал, какое пламя могло бы заняться от искр, высекаемых сменой правительства. Некоторые или, лучше сказать, многие боялись бунтов и мятежей в городах, которые могли вспыхнуть в задавленных бедностью кварталах или в хибарочных поселениях безработных. Хотя воинские части были введены в Вашингтон для помпы, а штабу генерала Д. А. Макартура отдали распоряжение находиться в состоянии готовности, использовать эти силы и для выполнения более серьезной задачи…»36
Ненастье последних дней перед инаугурацией как бы подчеркивало давящую тяжесть обстановки. Победа Гитлера, ставшего 30 января 1933 г. канцлером Германии, дополнительно окрашивало ее в самые мрачные тона. Даже обычно уверенный в себе вновь избранный президент казался несколько подавленным. Стоя утром 4 марта на ступенях Капитолия, он принял присягу, все время сохраняя необычное для себя напряженное выражение лица. Лишь после того как он произнес первые фразы заготовленной для этого случая речи, напряжение спало, снова появились всегда присущие Рузвельту раскованность, свобода и экспрессия. Слова врезались в сознание стоящих у подножия Капитолия или прильнувших к радиоприемникам американцев как призыв сохранять надежду, не впадать в отчаяние, ждать перемен к лучшему. Наверное, трудно было найти в этой обстановке нужные слова. Рузвельту это удалось. «Итак, прежде всего, — говорил президент, — позвольте выразить мое твердое убеждение, что единственно, чего нам следует бояться, — это самого страха, безликого, неосознанного, неоправданного ужаса, который способен парализовать усилия, столь необходимые, чтобы превратить отступление в наступление».
Рузвельт, еще не зная, располагает ли он временем для перегруппировки сил, говорил о скором контрнаступлении. Это должно было вселять оптимизм, убивать вирус неверия в страну, правительство, «Американский путь». Обрушившись с критикой на некомпетентность банкиров, этих «неразборчивых в средствах ростовщиков», поставивших на место христианских ценностей власть чистогана, Рузвельт обещал положить конец бесконтрольному хозяйничанию экономических «роялистов». Народ не должен был страдать из-за эгоизма кучки людей, владеющих богатством и не умеющих им разумно распорядиться. «Изгнать менял из храма» — повторила за ним вся страна. Из всех обуревавших народ смятенных чувств он выделил только одно — обретенное сознание взаимообусловленности индивидуума и общества, т. е. взаимозависимости людей друг от друга, — сознание того, «что мы не можем просто брать, мы должны также и отдавать». Радио разносило по всей стране слова президента: «Нация требует безотлагательных действий… Мы должны взяться за дело незамедлительно». Создавшееся положение Рузвельт отождествил с войной, потребовав от «народа и конгресса» чрезвычайных полномочий, аналогичных тем, какими пользуется президент в военное время37. Во все хрестоматии по политической истории США речь 4 марта вошла как призыв к преодолению страха.
Во второй половине дня 4 марта 1933 г. в Овальном кабинете Белого дома состоялось первое рабочее заседание новой администрации. Президент обещал нации возвращение уверенности в будущее. Первыми эту уверенность обрели те, кто обитал на вершине социальной пирамиды: кабинет больше чем наполовину был сформирован, как оказалось, из хорошо известных деятелей весьма умеренного толка. Ни один из них не был замечен в желании стать политическим бунтарем. Присягу принесли один из столпов консервативного крыла демократов в конгрессе, сенатор от штата Теннесси К. Хэлл (государственный секретарь); миллионер У. Вудин (министр финансов); независимый республиканец Г. Икее (министр внутренних дел); прогрессист Г. Уоллес (министр сельского хозяйства), влиятельный политик из «фермерского пояса», снискавшая себе известность на поприще осуществления социальных программ в Нью-Йорке Ф. Перкинс (министр труда); X. Каммингс (министр юстиции); Д. Роупер (министр торговли), занимавший административные посты еще в правительстве В. Вильсона; Дж. Фарли (министр почт); К. Свэнсон (министр военно-морского флота), вирджинский политик, пользовавшийся поддержкой рузвельтовской партии в сенате; и Дж. Дерн (военный министр). Никто из видных представителей профсоюзов или фермерских организаций в кабинет Рузвельта не вошел, но впервые за всю историю американского государства в нем появилась женщина — министр труда.