М. Хайдеггер: критика классических форм метафизики
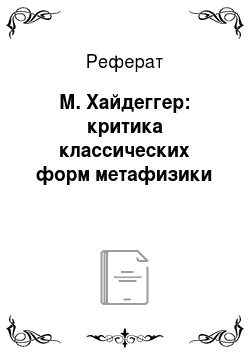
Разумеется, можно изменить правила и даже создать новый язык, однако жизнь будет протекать по-старому и отторгать предлагаемые новации как чудачества. Не случайно Хайдеггер говорит о судьбе бытия. Закоренелый почвенник не может подходить к фундаментальным основаниям культуры как к конвенциональным игровым правилам. И Хайдеггер прав: вряд ли современное человечество откажется от своих форм жизни… Читать ещё >
М. Хайдеггер: критика классических форм метафизики (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Мартин Хайдеггер принадлежит к числу крупнейших мыслителей современности, и как бы ни оценивали его учение («антимодернист» — позитивисты; «философский жаргон собственности» — Т. Адорно; «идеолог крови и почвы», «метафизик национал-социализма» — Ю. Хабермас), оно довольно резко отличается своей «инаковостью», и усвоение его даже для немцев представляет наисложнейшую проблему. К. Вайцзеккер, считая Хайдеггера величайшим и, может быть, даже единственным философом XX века, определяет «Бытие и время» (1927) как одно из труднейших произведений в мировой литературе. Трудности его понимания даже не собственно языковые. Дело в том, что внутри немецкого языка Хайдеггер создает как бы новый (отнюдь не искусственный!) язык, который ощущается им как первоначальный, неискаженный язык самого бытия. Собственно говоря, проблема понимания и интерпретации возникает по отношению к любому эпохальному произведению не только прошлого, но и настоящего. Хотя философы говорят, что выражают дух эпохи, современники часто не понимают их, и, стало быть, герменевтический принцип «участия в жизненном мире» недостаточно эффективен для реконструкции философских сочинений. Необходимы специальные усилия, специальный анализ, выработка специфических правил чтения хайдеггеровских текстов.
Для понимания философии Хайдеггера прежде всего необходимо уяснить влияние на него не только европейской философской традиции (десятилетняя работа над «Бытием и временем» сочеталась с лекционными курсами по Платону и Аристотелю, а позднее — по средневековой и новой метафизике), но и идей мыслителей XX века. Несомненна связь его учения с философией жизни, с Кьеркегором, Дильтеем, Гуссерлем, Шелером. Сам Хайдеггер отметил влияние на его философское становление диссертации Ф. Брентано и работы теолога К. Байга «Бытие — очерк онтологии», развивающего аристотелевское учение о бытии. Наконец, не следует пренебрегать тем, как было воспринято и развито хайдеггеровское наследие его учениками и последователями: Гадамером, Сартром, Хабермасом и др.
Однако вся эта традиционная техника анализа чтения и интерпретации философских текстов не достигает специфического ядра, выступающего перерождающим, или, как говорил Н. Хомский, генеративным, трансформационным началом того или иного произведения Хайдеггера. Суть дела в том, что Хайдеггер не просто хочет информировать читателя о том, как понимали бытие в ту или иную эпоху те или иные мыслители, он хочет, чтобы на своем специфическом языке заговорило само бытие. Язык — это не только говорение, но и слушание, а письмо — не только текст, но и ландшафт. Поэтому научиться читать — значит научиться видеть и слушать. Постичь порождающий принцип, «синтагму» хайдеггеровского текста — значит войти в аутентичный режим чтения. При этом, как и в случае чтения кьеркегоровских текстов, следует иметь в виду, что используемый язык ни в коем случае не выступает как система знаков для выражения внешних предметов или внутренних состояний познающего субъекта; если о языке Кьеркегора еще можно говорить как о «психосемиотике», что и является характеристикой порождающей «грамматы», то в случае Хайдеггера надо вести речь о некой «онтосемиотике», преодолевающей традиционное разделение означаемого и означающего.
Вопрос о смысле бытия — главная тема философствования Хайдеггера. Определение бытия настолько затруднительно, что, уже начиная с Платона, оно отождествляется с каким-либо сущим — единым, благом, наличным бытием, предметами, субстанцией, трансценденцией и т. п. В результате бытие оказывается забытым, представленное человеческой мыслью, оно как бы отворачивается само от себя. На протяжении всей истории европейской философии формировалась следующая дилемма: бытие само по себе (вещь в себе) и бытие как представление (трансцендентальный акт мысли). Хайдеггер противопоставляет ей «онтологическое различие» бытия и сущего (онтологического и онтического) и связывает вопрос о бытии со структурой экзистенции. Бытие — это горизонт, внутри которого встречается сущее1.
Другое важное условие понимания Хайдеггерова вопроса о бытии — это разделение категориального и экзистенциального определений. Категориальный анализ исходит из описания сущего, разделения его по родам и видам; его предпосылкой является «пред-ставляющее» мышление. Экзистенциальный анализ считает формой определения бытия не абстрактную мысль, а человеческое существование. Способом самообнаружения бытия выступает его чистое присутствие (Dasein). Своеобразие присутствия, которое определяется как исполнение бытия, Хайдеггер характеризует как экзистенцию.
Введение
этого понятия несомненно связано с философией жизни и с произведениями Кьеркегора. Однако следует обратить внимание на то, что хайдеггеровская интерпретация экзистенции является не «экзистенциалистской», а онтологической. С экзистенцией связываются не переживания, настроения, тревоги, страхи и заботы. Экзистенция у Хайдеггера наделена гуссерлевским понятием интенциональности, но из характеристики отношения мысли и предмета она превращается в характеристику отношения сущего к бытию.
Dasein — переводится как здесь-бытие или тут-бытие. Необходимо отметить не только временной, но и пространственный характер присутствия, означающего как современность, так и совместность бытия. Именно это отличает экзистенцию Хайдеггера от аналогов у Кьеркегора и Сартра, основанных не на совместном, а на индивидуальном существовании. Вместе с тем, акцентируя онтологический смысл присутствия, нельзя забывать его человеческой определенности. На вопрос: что есть бытие, человек отвечает собственным существованием, которое является прежде всего исполнением, или обнаружением, бытия. Существование Хайдеггер понимает как совместное. Однако, в отличие от большинства философов массы (Man), он не морализирует и не считает омассовление чисто человеческой ошибкой, подлежащей исправлению путем просвещения, а предпочитает говорить о судьбе бытия. Человек становится субъектом, представляющим бытие как наличное, в силу экзистенциальной определенности.
Как совершить прыжок от обычного к экзистенциальному пониманию бытия? Классическая философия была ограничена в своих поисках специфическим дискурсом, который независимо от намерений мыслителя превращает субъекта в некую идеальную сущность, вынесенную за пределы бытия и созерцающую, обозначающую его как бы извне. По мере семантических инноваций разделились два языка: один описывал бытие как объективную, независимую от субъекта данность, другой — как представление субъекта. Натуралистическая онтология и трансцендентальная феноменология снимаются в хайдеггеровском языке, где в качестве фундаментальной структуры, порождающей текст, выступает понятие Dasein. При этом Da является предпосылкой понимания sein. Если классический — философский, научный, обыденный — модус речи опирается на связку «есть», то семантическая революция Хайдеггера заключается в отказе от употребления этой связки, в попытке положить способ бытия «есть» в смысле Dasein.
Способы бытия (или модусы языка у позднего Хайдеггера) спрашивающего определяют суть бытия сущего. Бытие — это то, что «есть», но ему предпосылается предметная определенность, что и составляет установку европейской метафизики, объектирующей бытие. Тем самым разрушается «мистерия бытия»; вместо того чтобы быть предпосылкой понимания всякого отдельного сущего, оно само оказывается определенным при посредстве одного из способов определения сущего — «пред-ставления».
Мысль выводит одно сущее из другого, но так нельзя вывести бытие. Не является ли оно в таком случае вообще недоступным? Хайдеггер считает, что среди других сущих только человек способен вырваться к онтологическому измерению и покинуть круг оптического. Отсюда возникает вопрос об экзистенции. В Кьеркегоровой «болезни к смерти» Dasein понимается как отношение к самому себе. Хайдеггер стремится избавиться от гуманистического, душевного, индивидуального определения человеческого существования, от раскрытия его как формы освоения неких трансцендентальных сущностей, идей. Хайдеггеровская экзистенция, с одной стороны, форма повседневности, а с другой — форма понимания бытия.
Сущность Dasein раскрывается в его экзистенции. Этот главный, генеративный принцип Хайдеггера совершенно непонятен с точки зрения обычных правил философской коммуникации.
Введение
такой новой порождающей единицы во многом связано с усвоением Кьеркергоровой критики подведения единичного под всеобщее. Кьеркегор настаивал на том, что единичное выше всеобщего. Хайдеггер своеобразно расщепил эту новую парадигму языка. С одной стороны, он говорит о совместности существования, а с другой — ставит существование выше сущности. Это обстоятельство было всесторонне разработано Сартром (приоритет экзистенции перед эссенцией). В этой связи важно подчеркнуть, что Хайдеггер активно пользуется не только понятием Dasein, но и Zu-Sein, а также Mit-Sein.
Zu-Sein снимает как объективистские, так и субъективистские интерпретации бытия. Модус бытия экзистенции определяется через отношение с другими — вещами, миром, людьми. Субъект в этом смысле не обладает какими-то фиксированными субстанциальными характеристиками. Это обстоятельство было глубоко раскрыто М. Шелером в его критике классического определения человека; несомненно, оно повлияло на хайдеггеровское определение экзистенции как понимания, а не как субъективного аффекта, переживания. Хотя экзистенция не обладает какими-либо фиксированными свойствами, она не произвольна. Ее интенциональная природа состоит в том, что она раскрывается способом «бытия-в-мире». Для понимания этой важной семантической единицы хайдеггеровских текстов важно иметь в виду следующее: «бытие-в-мире» связано с пространственными аналогиями. Это создает опасность реанимации «пред-ставления», понимания мира как находящегося в наличествующем, как мирового целого, охваченного пространством. Понятие пространства выступает способом конституирования бытия. Хайдеггер преодолевает пространственно-категориальный подход. Рядоположенность, отношения, взаимосвязи вещей, мира и человека он представляет как встречу. Мир как место встречи и есть «экзистенциал» — условие возможности того, что наличествующее доступно человеку, может оказаться «в» отношении к нему. Ничто не встречается иначе, как «в-мире», во взаимодействии с другим, и это означает невозможность изолированного понимания сущности как субстанции. Мир всегда дан в измерении «в-бытии» и «к-бытию», как окружение, раскрываемое экзистирующими сущностями.
Описывая окружающий мир, Хайдеггер стремится синтезировать теоретическую и практическую философию. На уровне семантических новаций это реализуется в понятиях сподручности (Zuhandenheit) и наличности (Vorhaudenheit), которые объединяются термином Zeug. Хайдеггер работает тремя понятиями: Sache, Ding, Zeug. Для них в наших переводах чаще всего используется слово «вещь». Между тем эта триада важна как изображение динамики бытия-понимания: Sache — вещь в смысле состояния, положения, наличности; Ding — вещь в смысле события, вещее, происходящее; Zeug — вещь в смысле произведенное, сделанное, т. е. выведенное и выявленное. Последнее значение призвано показать укорененность вещи в бытии сокровенного, ее назначение как самообнаружение истины бытия. Не только вещь, но и мир наделяется «свойством» произведения, порождения и экзистенциально интерпретируется как «творение» (Zeugganzheit). Поэтому абстрактные метафизические и теологические понятия мира заменяются понятиями жилища, дома, лада. Понимание бытия как дома, в котором живет человек, приводит к замене абстрактных характеристик понятиями «далекое — близкое», «земное — небесное» и т. п. Человек, озабоченный обустройством дома бытия, раскрывает «Da» «Sein». Место встречи различного образует их стык, который одновременно выступает просветом бытия. Отсюда не психологическая, а онтологическая интерпретация сердца как сердцевины, средоточия, перекрестья (четверицы) мира.
Простое единство четырех, перекрестье — это порождающая единица языка позднего Хайдеггера, обозначаемая графически2. Можно предположить, что критика разума и пред-ставляющего мышления, которую Хайдеггер осуществил в своих работах, постепенно привела его к убеждению в необходимости замены общепринятого языка. Это реализуется в использовании архаических выражений и диалекта, в выявлении первоначальных слов с целью раскрытия истины, искаженной последующими языковыми влияниями. Рациональное мышление с его субъективно-объективной схемой тесно связано с двухэлементной субъектно-предикатной формой речи. Философия, которая так или иначе стремилась выйти за рамки обыденного мышления, как правило, прибегала к диалектике с ее триадами и синтезом. Хайдеггер делает следующий радикальный шаг по направлению от двоицы и троицы к четверице, что порождает принципиально новый дискурс и требует специального режима чтения, основанного на соединении звукового и зрительного ассоциативных рядов языка.
Четверица, квадрат — удвоение двоицы. Но сама двоица в рамках единства существенно трансформируется. Она раскрывается как различие, которое представляет собой особого типа сердечность — середину двоих, состыкованных и пригнанных и вместе с тем разделенных чертой и связанных болью. Обычно доклады Хайдеггера следуют такой схеме: вначале дается критика пред-ставляющего, изолирующего мышления, а затем показывается неразделимость раз-личного и вводится единство четырех.
Говоря о единстве мира и вещей, Хайдеггер стремится показать, что они не рядоположенны, а взаимно проникают друг в друга, служат мерой один другому. Эта сердечность мира и вещей представлена как единство разноликого: вещи собираются в мир, а мир, в свою очередь, хранит вещи. Хайдеггер не останавливается на сухой констатации единства двух. Метафоры сердца, замедляющие понятия разума, выражаются в хайдеггеровском языке в зове и призыве, в боли и тиши. Но это уже не просто переживания, а некие онтологические состояния, которые и выступают элементами языка. Говорить — значит призвать, приглашать вещи в мир. Этот зов соединяет присутствующее и отсутствующее, говор и тишину. Соединение раз-личного — близкого и далекого — требует опоры, соединяющей разведенное. Это похоже на несение тяжести, на рану, вызывающую ломоту и боль. Сердце — середина двоих — это просвет в мир, это боль различия и бремя тяжести единения двух. Сердцевина — это еще и тишина, но не простое спокойствие разделенного, а спасительная сень призываемого раз-личного. Отсюда тишина сердцевины: «Язык говорит тем, что призыв раз-личия мира и вещи зовет в простоту их сердечности»3. Подлинная сердечность, однако, не просто середина двоих, а перекрестье четырех: «Земля и небо, божества и смертные, сами из себя единясь друг с другом, взаимопринадлежат в односложности единой четверицы. Каждый из четырех по-своему зеркально отражает существо остальных. Каждый при этом зеркально отсвечивает по-своему в своей собственной сути внутри единосложной простоты четверых»4. «Скрещенность», «зеркальная игра», «хоровод», «круг» — таковы новые метафоры единства, в котором сливаются мир и человек. Но это не просто смена метафор, языка, установок, ибо все эти понятия скрыто содержат в себе парадигму разделяющего пред-ставления и, следовательно, в принципе непригодны для выражения единства четырех. Быть послушным бытию, не только говорить, но и слушать, достичь обитания в мире, постигнуть вещи как вещи — только так можно совершить поворот от пред-ставляющего мышления к сердечному житию-в-мире. Жить в мире — значит постичь его не как совокупность предметов или некую раму, объемлющую сущее. Мир есть такая непредметная сущность, которая является условием возможности бытия как предметности. Но не только это. Поздний Хайдеггер раскрывает мир как разверстость сущего, где вещи приобретают «горизонт», где раскрываются возможности и выбор, где имеют место судьба и историческое свершение, хранительная милость богов и забвение.
Жизнь и дом человек строит на земле. Но что такое земля? Хайдеггер считает, что ее сущность, как и сущность вещей, разрушена наукой или поставляющим производством. «Как бы ни кичилась разрушительная настойчивость видимостью своей власти, видимостью развития и прогресса в облике научно-технического определения природы, — замечает он, — эти власть и господство навеки останутся бессилием желаний». Только художественное творение раскрывает свет мира и сумрак земли. В отличие от ученого, разлагающего мир и землю на составные элементы, художник воздвигает мир и составляет землю. При этом его задача — не представления действительности, как это навязывается унифицированной научной установкой, а выявление несокрытого: «Красота есть способ, каким бытийствует истина, несокрытость»5. В этом смысле она хранит, или, как говорил Ф. М. Достоевский, спасает мир.
Поздние произведения Хайдеггера представляют собой попытку создать принципиально новый язык, исключающий предметную, представляющую парадигму. Задание, которое берет на себя Хайдеггер, — спасение бытия, выражается в создании на почве данной традиции греческого языка нового разговора с бытием. Итак, задумана радикальная коммуникативная революция, в ходе которой происходит деструкция прежних языковых и мыслительных предпосылок и конструкция новой «языковой игры», опирающейся не на представление, а на данность бытия. Бытие — это не предмет познания, власти, преобразований, а дар, который должен быть воспринят и сохранен человеком. Как показал Витгенштейн, «языковая игра» опирается на неявные допущения, определяющие внутри ее как вопросы, так и ответы, истинность или ложность которых недоказуема обычным способом. Если понять обоснование как поиск оснований, то в конце концов, чтобы избавиться от регресса в бесконечность, необходимо допустить некое основание всех оснований — абсолютное, по отношению к которому привычная игра доказательства и обоснования уже неприменима, по отношению к которому нельзя задавать вопросы, допустимые в рамках «языковой игры» к другим, не базисным элементам.
Рассуждения Витгенштейна помогают понять масштаб притязаний Хайдеггера. С одной стороны, он нашел нечто фундаментальное, что никогда не подвергалось ни в философии, ни в науке сомнению, — понимание бытия как существования, а с другой — решил отказаться от этого фундамента. Возможны два подхода к проблеме предпосылок. Хотя они имеют привилегированный характер в системе языковой игры, тем не менее, если игра оказывается непродуктивной, ее можно изменить путем иных правил, т. е. непересматриваемых допущений. Правила оказываются проверяемыми не сами по себе, а лишь в контексте эффективности игры. В каком-то смысле такая игра, какой является европейская культура, оказалась на исходе XIX столетия непродуктивной, и поэтому вполне правомерно возник вопрос о корректировке ее основных интенций. Однако европейская культура — это не только игра, но и форма жизни: ее изменения или слом чреваты опасными последствиями и прежде всего вызовут сопротивление всех тех социальных, технических, телесных или ментальных структур, которые сформировались как объективация и аппликация исходных правил.
Разумеется, можно изменить правила и даже создать новый язык, однако жизнь будет протекать по-старому и отторгать предлагаемые новации как чудачества. Не случайно Хайдеггер говорит о судьбе бытия. Закоренелый почвенник не может подходить к фундаментальным основаниям культуры как к конвенциональным игровым правилам. И Хайдеггер прав: вряд ли современное человечество откажется от своих форм жизни, оно срослось с ними, и нужна либо серьезная ломка, либо медленная кропотливая работа по созданию нового человека, который бы воспринимал бытие не как предмет преобразования, а как священный дар, который он призван бережно хранить. С одной стороны, мы забыли бытие, и оно отвернулось от нас; мы еще не мыслим, ибо не вошли в собственную сущность мышления. С другой стороны, это удаление бытия не ничто. Оно и есть событие, которое нуждается в осмыслении. Более того, осмыслить это событие — не значит как-то напрягать свои умственные способности и предпринять немедленно какие-то решительные действия, корректирующие отклонения. Дело в том, что утерянное, забытое, то, к чему мы должны повернуться, вовсе не есть действительное. Если мы станем искать его в сущем, то так и останемся в кругу прежнего представляющего, опредмечивающего, объективирующего мышления. Что же делать? Терпеливо ждать! Размышляя над отклонением, человек тем самым попадает под его власть: «То, что удается, прибывает именно таким образом, что оно притягивает нас. .»6 Человек становится знаком, указывающим на факт самоудаления бытия.
Почему Хайдеггер утверждает, что мы не мыслим, и вообще, что значит мыслить? Главной опорой существовавшего до сих пор мышления было восприятие: воспринимаемое мыслится как находящийся перед нами предмет — присутствующее, сущее в его бытии. Хайдеггер трактует эту установку не как субъектную позицию, а выводит ее из того, что бытие представилось как сущее, как наличествующее в его наличии. Осмыслить эту естественную установку должна прежде всего философия: «Но то, что до сих пор основывается на представлении — ре-презентации, все это мышление имеет давнее происхождение. Оно скрывается в невзрачном событии: в начале истории Западной Европы бытие сущего явилось для всего ее течения как наличность, как присутствие. Это явление бытия как присутствие присутствующего само и есть начало западноевропейской истории, если, конечно, мы представляем историю не как одни только происшествия, а мыслим ее прежде всего в соответствии с тем, что с самого начала послано через историю и господствует во всем происходящем»7. На чем же основано бытие сущего как присутствие, что такое бытие? Именно эти вопросы призывают мышление. Люди размышляют о предметах, но эти наличные предметы возможны в лоне бытия, которое уже не может мыслиться как предмет. Нельзя ли помыслить непредметное, или оно просто есть — немыслимое, молчащее, потаенное? Что значит мыслить, если запрещается предметное представление?
Поскольку бытие раскрывается как присутствие, постольку оно позволено. Позволить присутствовать означает — раскрыть, ввести в открытое. Таким образом, размышление Хайдеггера строится на семантике слова «давать» — позволять присутствовать. «Чтобы мыслить собственное бытие, требуется оставить его как основу сущего в пользу играющего давания, скрытого в раскрытии, т. е. ради дано. Бытие принадлежит этому дано в давании как дар»8. В соответствии с этим представление бытия как сущего тоже дано, это форма дара. Не может быть речи о пренебрежительном отношении к предмету как ниспосланному способу давания. Поэтому метафизику Хайдеггер упрекает только за то, что она, воспринимая бытие как сущее, забыла о том, что это дар. «История бытия означает ниспослание бытия, в котором как посыл, так и это, которое посылает, удерживает в себе свое проявление. Удерживать в себе будет по-гречески ерохп. Отсюда — речь об эпохах судьбы бытия. Эпоха означает здесь не временной период в происходящем, а главную черту посыла — непременное себя-удержание-от-проявления в пользу воспринимаемости дара, т. е. бытия при взгляде на сущее с целью его, сущего, обоснования»9. Эпохи в истории постепенно скрывают первичный посыл, и поэтому возникает задача «деструкции» — снятия этих завес, что позволит заглянуть в сам посыл бытия. Отсюда трактовка истории метафизики и, в частности, трактовка бытия Платоном — как идеи, Аристотелем — как энергии, Ницше — как воли к власти оказываются не заблуждениями, а ответами на вызов бытия.
Отказ от привычных понятий, конструирование новой онтологии и как следствие создание специального нового языка выводят за пределы философской коммуникации. Не случайно Хайдеггер говорит о том, что следует оставить преодоление метафизики и предоставить ее самой себе10. Ее невозможно вылечить, как невозможно вылечить язык вообще. Попытка мыслить бытие и время не как сущее означает мыслить их помимо метафизики представляющего мышления и схемы повествовательных предложений. Эти задачи неизмеримо труднее тех, которые решаются герменевтикой.
Можно принять общепринятый дискурс и можно его отвергнуть — замолчать. Хайдеггер стремится создать альтернативный языковой универсум, построенный на отказе от порождающих структур исторически сложившегося языка. В этом языке не должно быть субъектнопредикатных структур, навязывающих предметный модус речи. Основой его выступает новое «дефисное» письмо и «говорящий» язык11. При этом Хайдеггер ориентируется на язык искусства или «поэзиса». Такая точка зрения имеет серьезные причины. Кажущееся вполне невинным повседневное описание мира опирается на жесткие классификации и исследовательские установки, реализующие «волю к власти». Однако не только наука, но и искусство втянуты в игру познания и власти. Искусство поставляет модели и образы поведения, переживания видения мира. Его язык нуждается в тщательной рефлексии и критическом анализе с целью выявления исходных интенций, которые, может оказаться, исходят не от земли, родного ландшафта и народной традиции, а от интересов манипулирующей душевным миром человека власти. В связи с этим возникает вопрос об эффективности философской критики для подготовки коммуникативных революций. Какой должна быть стратегия и тактика философской рефлексии языка? Общие цели и задачи не вызывают сомнений: избавить человечество от навязчивых стереотипов и фиксаций, отложившихся в языке и генерирующих волю к власти. Однако вопрос о тактике представляется более сложным: разрушить все до основания или оставить все как есть? Тактика языков-игр Витгенштейна представляется перед лицом этой дилеммы более гибкой и совершенной. Ведь язык, в сущности, не остается неизменным; как старый город, он построен на фундаменте старых значений, а языковые новации молодых вливают в старые слова новое содержание. Новые языковые игры меняют и наше понимание «стержней». Поэтому вряд ли всерьез можно принять мнение о фатальности «поворота», выразившегося в формировании субъективно-предикатной структуры. В таком случае пришлось бы заимствовать язык индейцев племени Копи, основанного, по мнению Б. Уорфа, на принципиальной ином синтаксисе и семантике. Несмотря на протест Хайдеггера против юо фундаментальных правил языка и смирение перед ними Витгенштейна, в их тактике есть много общего. В сущности, у Хайдеггера речь идет не о создании «новояза», не о введении новых конвенций, а о возвращении к забытым, но более адекватным, с точки зрения человеческого существования, интенциям. В этом историческая герменевтика Хайдеггера, как и аналитическая техника Витгенштейна совпадают с реальным процессом эмансипации языка, который осуществляется уже не за письменным столом, а на улице, где инициатива принадлежит широкой общественности, осознавшей угрозу научно-технического покорения природы, выступающей за сохранение ее как места жизни.
Примечания
- 1 См. здесь и далее: Heidegger М. Sein und Zeit. Tubingen, 1979.
- 2 Heidegger M. Zur Seinsfrage // Wegmarken. Frankfurt am Mein, 1967. S. 213.
- 3 Хайдеггер M. Язык / Пер. Б. В. Маркова. СПб., 1991. С. 17.
- 4Хайдеггер М. Вещь // Историко-философский ежегодник. М., 1989. С. 278.
- 5 Хайдеггер М. Исток художественного творения. // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. М., 1987. С. 286.
- 6 Хайдеггер М. Что значить мыслить? // Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 139.
- 7 Там же. С. 144.
- 8 Там же. С. 84.
- 9 Там же. С. 86—87.
- 10 Там же. С. 101.
- 11 См. подробнее: Подорога В. A. Erectio. Геология языка и философствование М. Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 111—118.